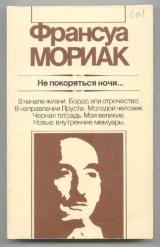
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
После катастрофы это искушение нас не оставляло; подспудно оно всегда было с нами, противоречило нашим словам, нашим поступкам. И вот, чтобы выманить нас из убежища, в которое мы стремились забиться, в дело вмешались коллаборационистские газеты. Писатель обязан отдать им должное: трудно представить, как помогли они нам, впавшим в оцепенение, – предложенное ими снадобье способно было разбудить мертвого.
Я вспоминаю упоенный репортаж в газете «Жерб» от 6 ноября 1941 года о поездке в Веймар *. По свидетельству репортера, доктор Геббельс выстроил писателей полукругом: «Доктор Геббельс (цитирую «Жерб») видит три позиции, которые могут занимать интеллигенты: вместе с Германией, против Германии или недостойный человека нейтралитет. Но те, кто выступят против Германии, будут раздавлены...»
Здорово нас пришпорили – весь бок разодрали! Как могли мы надеяться, что нам дадут уклониться от борьбы за достоинство человека? Но ведь она в то же время была борьбой за Францию... – вот очевидная истина, ослепительная как солнце. Защита человека оказалась неотделимой от защиты маленькой Франции. Коммунисты поняли вместе с нами: нельзя отделить дело защиты человека от защиты Франции... И мы снова обрели все: наша возлюбленная родина, хоть и была раздавлена, приняла свой прежний, соответствующий человеку масштаб.
Зачем вспоминать об этом соблазне в освобожденном Париже, во Франции, обретшей молодой лик 1792 года? Затем, что наперекор этой радости соблазн ухода в вечные проблемы еще подстерегает писателя-пессимиста; затем, что политика по своей природе нечиста, а история все еще представляет собой «сумбур промахов и насилия», вызывавший отвращение у старика Гёте; затем, что некоторые слова, как, например, «справедливость», часто лишь маска для наших пристрастий; затем, что писатель получает в день столько писем, что не прочесть за неделю (ах, где ты, единственное письмо, которого ждал каждое утро в юности и при одном виде которого чуть не падал в обморок!..).
Затем, что... затем, что... Но писатель, чувствуя, как отравляет его яд подобных рассуждений, вспоминает о противоядии: находит старый номер «Же сюи парту» или «Жерб» и читает: «Те, кто выступят против Германии, будут раздавлены...» Да, работать, бороться, жить, чтобы воспрянули и целые народы, и отдельные люди, которых четыре года уничтожали, душили, которые прошли через пресс вермахта и гестапо!
Навстречу гуманистическому социализму
Никто сегодня не станет оспаривать очевидное: французский народ, весь целиком, вновь обрел чувство Родины, осознал свою любовь к ней.
Менее очевидно, но так же реально и то, что бывшие правящие классы волей-неволей перенимают социалистический опыт. Здесь, понятное дело, речь идет не о взрыве энтузиазма. Возможно даже, иные господа, предпочитающие оставаться в тени, не теряют надежды удержать командные посты, от которых они для вида откажутся. Тем не менее буржуазия в целом покоряется неизбежному, а известная покорность разуму ст о ит на практике самых страстных движений сердца.
Среди левых теперь слишком мало кто отрицает идею родины, а среди правых слишком мало неисправимых противников «революции в рамках закона», чтобы политические силы страны, как в недавнем прошлом, сплотились вокруг этих антагонистических группировок. Отсюда возможность широкого объединения французов, которых уже сблизило Сопротивление.
Это объединение необходимо, чтобы решить главную задачу. Конечно, цитировать самого себя не очень деликатно, но я, по правде говоря, дорожу формулировкой, содержащейся в концовке «Черной тетради» Фореза: «Прежде всего надо вырваться из тисков, которыми сдавил нас великан, отбросить его руки от нашего горла, а его колено от нашей груди... И тогда мы сумеем показать, что свободный народ может стать сильным народом, а сильный народ станет народом справедливым».
Пришло время доказать нашим противникам, что демократические институты не мешают стране, разоренной войной и вражеской оккупацией и опустошенной так, как опустошены мы, вновь обрести утраченную силу. Оклеветанная демократия призвана вновь доказать свою жизнеспособность. От нас зависит, чтобы наши враги, даже разгромленные, не радовались нашим неудачам и не кричали нам: «Видите? Правы-то были мы!»
Но когда силы восстановятся, самое трудное будет остаться справедливыми. Те, кто отделил в Европе политику от морали, могут потерпеть поражение, но их пагубное дело переживет их. К чему закрывать на это глаза? Христианская гуманистическая Европа перенесла не только оккупацию извне – поражены и ранены ее ум и душа.
Эта часть нашего «я» принадлежит только нам, над нею не властна никакая сила в мире, это внутреннее царство, где христианин вновь обретает бога, а неверующий – неуязвимую независимость, а нас приучили, что господствующая партия имеет право надзирать за ней. Во имя расы, государства или любого другого кумира человеку, существу отныне бесправному и беззащитному, истерзанная плоть которого – забава для полицейских, отказывают в этой внутренней свободе.
Как дешева стала жизнь двадцатилетних мальчиков, случайно оказавшихся на обочине дороги! Последние боши расстреливали их дюжинами, ежедневно, мимоходом (пятьдесят за один раз в моем родном городе, в том числе вас, дорогой Жан Барро *)!..
Не отвращение ли стало общей чертой всех французов определенного духовного уровня, будь то сыны Дидро или Вольтера или потомки Паскаля? Мы больше так не можем, с нас хватит концентрационных лагерей, позорящих старую Европу, Европу поэтов и музыкантов, философов и ученых, героев и святых! С нас хватит переполненных тюрем, депортаций, пыток, казней без суда... (Когда я вижу, когда я слушаю кого-нибудь из друзей-англичан, я испытываю смиренную и печальную радость, думая, что не затронут хоть этот остров, что не погиб и избежал позора хоть этот народ...)
Мы должны узнавать друг друга по этому отвращению. Нужно, чтобы оно стало созидательной силой. То, что Николай Бердяев * четверть века назад так точно охарактеризовал словом «животность», нахлынуло и задушило своей грязной волной европейский гуманизм. Считая своей первоочередной задачей обновление Франции, мы не отодвигаем на второй план и политическую проблему. Мужчины и женщины, которым приходилось хоронить расстрелянных, часто рассказывали о лицах жертв, до неузнаваемости изуродованных каблуками извергов. Нужно, чтобы воскресший человек обрел свое истинное лицо, вновь став подобием божиим.
Неведомая Россия
Народ без романистов – неведомый народ. «Генерал Дуракин» * открыл нам еще в детстве старую Россию. Он предложил нам разноцветную лубочную картинку, наивную, но такую правдивую, что по выходе из коллежа, проникая в необъятную вселенную «Войны и мира» Толстого, мы легко узнавали описываемых им персонажей. Кто не любил, как Наташа Ростова, и не дружил, как ее брат Николай? Они же созданы из плоти и крови. Пьер Безухов и князь Андрей уводили нас, куда им вздумается. Ни время, ни пространство не отделяли от нас этих вымышленных героев, не мешали нам узнать их изнутри, как если бы они были мы сами.
Достоевский перевел нас через самый тайный порог в мире, и с ним мы вступили в самую гущу драмы русской жизни. Никогда крещеные люди не сознавали так ясно свое призвание и стоящее перед ними искушение, как народ Святой Руси в творениях самого христианского своего романиста. Каким смыслом наполняется возглас старика Карамазова: «Без бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь все позволено...» 1*, когда эти слова повторяет великий народ, доведенный до крайности и отчаявшийся, народ, который устал умолять и протягивать руки к беспощадным повелителям!
1Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 15., М., «Наука», 1976, с. 29.
«Бесы» Достоевского (в прежних переводах «Одержимые») открывают нам эту метаморфозу русской души; они приобщают нас к законам алхимии, которая превратила Святую Русь, Русь «Бориса Годунова», гудящую от колокольного звона, стенаний и молитв, в Советскую Россию.
По мере того как мы приближаемся к ней, голос романистов становится менее громким. Достоевский ушел, и Горький, взяв нас за руку, ведет вместе со своими бродягами к рубежам красного отечества. Его воспоминания о сиротском детстве дают нам ключ к пониманию Октябрьской революции, доказывая, что вековое терпение бедняков тоже не безгранично.
Потом Горький умолк, а может быть, его голос просто перестал до нас доходить. Никакой другой романист его не заменил – во всяком случае, для большинства французских читателей. Об этой новой России мы знаем только то, что нам рассказывали журналисты, путешественники, экономисты, то есть почти ничего. Они снабжали нас лишь элементарными сведениями да цифрами, которые еще раз подтверждали, что счет в банке ничего не говорит о душе человека. Даже Андре Жид не смог ничего добавить *, кроме еще одной точки зрения к уже имевшимся, одинаково верным и ложным. Ведь народ, наблюдаемый извне, предоставляет своим друзьям и хулителям те сведения о себе, которые нужны, чтобы в равной мере питать их восхищение или обострять критицизм.
Важная особенность романа (которой Валери не уделяет достаточно внимания) заключается в том, что только он раскрывает нам душу страны. Народ, широко представленный в романах, как, например, народ Британии, никогда не будет для нас «чужим». Не знаю, существует ли хорошая история Советской России, переведенная на французский язык. Но даже самая солидная, наиболее полно документированная история ни на шаг не продвинет нас во внутреннем познании, которое единственно верно и которое благодаря Гоголю, Тургеневу, Толстому, Чехову, Горькому открыло нам сердце Святой Руси.
От старой России – мы в этом убедились – ничему не поддалась и осталась неизменной одна ее часть. Когда в эти мрачные зимы мы слушали по радио великолепный ансамбль русских солдат, мы прекрасно понимали, что их пение пришло к нам из глубины веков. Красная Армия, красная от крови, пролитой ею за Европу, спасшая даже тех, кто ее боялся, была выкована режимом, защитницей и гордостью которого она навеки стала. Но доблесть ее существовала раньше любого режима.
Мы верим в вечную Россию, не зависящую от исторических явлений и не определяемую ими. Именно к ней обращаем мы взоры в этот славный момент ее истории, когда она ценою невыразимых страданий и героических подвигов приобрела право говорить с Европой во весь голос. Пусть же, невзирая на любые политические обстоятельства, она найдет досуг и даст миру великие романы, к которым так склонен ее гений и в которых вымысел является наиболее правдивым выражением действительности.
Техника и вера
Когда я думаю о персонажах Толстого, Достоевского, Чехова, которые мне так близки, с которыми я столько прожил в молодости, я иногда спрашиваю себя, кем стали бы они после Октябрьской революции, в какой мере их внутренняя революция соответствовала бы событиям, всколыхнувшим старую Россию.
Эти события оправдали бы надежды некоторых из них, удовлетворили бы кое-какие их стремления. Другие, напротив, резко отрицательно реагировали бы на них в мистическом плане. Тут каждый случай следует рассматривать особо, что составило бы предмет очень длительного исследования. Но, может быть, есть все-таки общий для них результат, наблюдаемый мной на себе в свете истории, в которой сегодня мы осуждены участвовать, с грехом пополам играя свою роль, и в которой наша жалкая мимолетная жизнь растворяется, как капля воды в могучем потоке? Вывод, который сделали бы для себя эти наши старые русские друзья, заключается, вероятно, в том, что индивидуальные страдания – роскошь, что копание в собственных тревогах – привилегия, что в истории бывают моменты, когда толпа врывается в нашу внутреннюю жизнь и громит ее, как старинные царские дворцы в дни мятежа, что человеческое горе теряется в этом потоке, сметающем на своем пути все, что мы считали самым ценным в мире – наши личные проблемы, нашу личную драму, непохожую на все прочие. Гул людской толпы в конце концов заглушает монотонный шепот наших умствований и мечтаний.
Самое сокровенное наше убежище взломано. На первый раз наша навязчивая идея (а у кого ее нет?) не так уж навязчива или по крайней мере посещает нас лишь время от времени. От этого конфликта между внешним и внутренним, от этой борьбы между водой и огнем больше всего страдают люди с развитым религиозным сознанием. По их мнению, единственное, что нужно человеку, всегда терялось в ходе исторических событий. Считая, что их существование отнюдь не обусловлено им, эти люди не сомневаются, что сумеют ему не подчиниться. Огромные усилия народа, направленные на овладение ресурсами производства, разработку богатств земли до самой глубины ее недр, покорение и использование сил материи, кажутся сначала малозначительными для тех, кто привык заниматься мистическим самоанализом и прислушиваться к себе. До сих пор их судьба определялась либо властью порока, то побежденного, то одерживающего верх, либо взлетами и падениями в их религиозной жизни. Они сосредоточили все свое внимание на превратностях божественной любви, непостижимой для тех, кто никогда ее не изведал. Драма, которую, по моим представлениям, могли бы сейчас переживать любимые герои старых русских романов, оказавшиеся в СССР, – это поединок между техникой и верой.
Трудно представить себе, какие чувства могут пробудить наши психологические романы у современного молодого русского рабочего. Если он попробует, например, разобраться в сочинениях Пруста, ему покажется, что он читает описание повадок диковинных и уродливых насекомых. Но и Пруст, наверное, испытал бы те же трудности, пытаясь проникнуться лирикой производственного процесса и производительности труда, которая одушевляет иные произведения советской литературы.
Что сохранилось в новом человеке от старого? Неужели новые экономические отношения изменили человека до такой степени, что у него не осталось ничего общего с людьми старого мира? Думать так было бы просто нелепо. Сердце, в глубине своей, не меняется. Меняется лишь степень важности, придаваемой то метафизике, то экономике; то наш взгляд обращается внутрь нас, а ухо внимательно прислушивается к внутреннему спору, то, напротив, мы проникаемся презрением к вопросам, на которые нет точного ответа, и внемлем призыву Заратустры: «Братья мои, оставайтесь верны земле!» 1
1Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. СПб, 1913, с. 27. ( Пер. В. Изразцова.)
Быть может, из горнила истерзанной Европы возникнет новый человек. Он сразу же примется за восстановление городов, реконструкцию заводов и шахт; он выступит за улучшение условий труда, равномерное распределение тягот между гражданами и тем не менее не отречется от той части своего «я», которая задает вопросы, мечтает о совершенстве, ищет по ту сторону материального другой мир, реальность возвышенную, деятельную, а может быть – и любовь.
Победа разума
Нет, сейчас, в момент, когда герои Советской Армии подходят к самому сердцу Германии, которая вчера еще держала нас в своих щупальцах, мы, конечно, не оробеем. Благодаря нашим союзникам победа близка, близко освобождение, настоящее освобождение (пока угроза висит над Страсбуром, мы еще не свободны). Сверх этого нам будет дано все остальное, и прежде всего мир в нас самих, мир в самой Франции. Слово, которого ждали миллионы французов, может быть произнесено наконец лишь в победоносной Франции.
К чести своей, страна Паскаля и Вольтера иногда не верит в фатальность: чистка Парижа, направленная в первую очередь против писателей, – это как раз та фатальность, которой он счастливо избежит. К чему отрицать? Мы вынуждены молчать, когда нам напоминают, что образованные люди отвечают головой за каждое слово, сказанное в запале политической борьбы, и что, чем больше талант, тем больше вина. Но что ни говори, для лучшей части Франции невозместима потеря даже одной мыслящей головы, как бы плохо она ни мыслила. Неужели нет другого наказания, кроме смерти? Единственные казни, которые история не прощает Террору, – это казни философов и поэтов. Единственные слова, которые ею никогда не будут оправданы, – это слова скота Кофиналя *: «Республике не нужны ученые». В некоторых строках Пьера Бенара, в упреках, адресованных мне таким крупным деятелем Сопротивления, как Паскаль Копо, я чувствую беспокойство и даже тревогу за Филиппа Барреса, несмотря на его отнюдь не показное безразличие к таланту. Часто именно те, кто пострадал больше других и до сих пор страдает за своих близких, меньше других жаждут лишить Германию ее последней победы: непримиримой ненависти между французами. Тысячи молодых интеллигентов и, утверждаю, даже студентов-коммунистов испытывают святое нетерпение: объединиться, сделать «громадное усилие разума», которое генерал де Голль приветствовал в Сорбонне и которое приведет нас к победе, когда Франция, вся целиком, станет хозяйкой своей судьбы. Благодаря легионам маршала Сталина мы сегодня уверены: час этот близок.
«Возрождение Франции, – провозгласил вчера в Иври Морис Торез, – это задача не одной партии и тем более не кучки государственных деятелей; это задача миллионов французов и француженок, задача всего народа». Пусть же эти слова найдут во всех нас самый широкий отклик.
Литературно-критические статьи
В НАПРАВЛЕНИИ ПРУСТА
I
Мое знакомство с Прустом
В последний раз я видел Барреса на похоронах Марселя Пруста. В котелке, держа на руке зонтик, он стоял перед церковью святого Петра в Шайо и удивлялся, что вокруг покойного, которого он прекрасно знал и, думаю, любил, не подозревая о его величии, возник ореол славы.
– Ну как же, это был наш молодой человек... – повторял Баррес, желая дать мне этим понять, что всегда считал: место Марселя Пруста – по ту сторону решетки, отделяющей клир от мирян, вместе с почитателями и учениками; конечно, он был самый умный и самый тонкий из всех и умел покурить любому мэтру фимиам, приятно щекочущий ноздри, но вот что он способен перешагнуть через алтарь и встать рядом с ними, мэтрами, – это ни Барресу, ни любому другому верховному жрецу его поколения и в голову не могло прийти.
«Ах, Пруст, славный малый, каким вы были чудом! А я так неверно судил о вас тогда», – признается все же Баррес Жаку Ривьеру (письмо от 2 декабря 1922 года, опубликованное в «Памяти Пруста»).
Пруст скрывал свою гениальность за дымом кадильницы, которой он размахивал перед носом литераторов и дам, приглашавших его отобедать. Под прикрытием этого облака он в течение многих лет создавал свое произведение, черпая материал для него у тех, кого засыпал цветами, анекдотами, секретами, тучнея от каждой судьбы, в которую проникал; и вдруг завеса развеялась, и «их молодой человек», навеки молодой, вознесся над растерявшимися старыми мэтрами.
Кое-кто воспринял это крайне неприязненно; нет, не Баррес, поскольку новое произведение не могло его затмить, но вот Бурже, который делал вид, что ему смешон маньяк, «пристрастившийся», как он мне сказал, «делить волос на четыре части», был достаточно тонок, чтобы не понять, что его собственные романы теряются в опасной тени «В поисках утраченного времени». Мир «Сердца женщины», «В сетях лжи», «Голубой герцогини» *, который Бурже созерцал сквозь монокль, Пруст, войдя в него и слившись с ним, показал через себя и показал спаянным со своим собственным временем. Ах, какая это драма, восход прустовского созвездия, занявшего весь литературный небосклон! Возможно, Бурже смутно ощутил, что, стоя уже на краю могилы, за шаг до небытия, он вдруг умалился; без сомнения, именно такое чувство, граничащее с отчаянием, внезапно возникло у графа Робера де Монтескью *, о чем ясно свидетельствуют последние страницы его «Воспоминаний». Он-то прожил достаточно долго, чтобы понять: потомки запомнят его лишь потому, что малыш Пруст воспользовался им как моделью. Вот как? Выходит, этот сноб, полуеврей, который так ел глазами высокородного графа, так льстил ему, втайне был неподкупным свидетелем, одним из тех гениев, что замечают не только внешность, манеры, голос, но и скрытые мысли, а потом увековечивают их в бессмертном творении? Ну кто бы тут не обманулся? Ведь в Марселе Прусте не было ничего от профессионального наблюдателя. Он жил вашей жизнью, восхищался вами, любил вас, перенимал что-то от ваших странностей и пороков, был виртуозом ссор и примирений. И это откладывалось в нем все то время, которое он терял, утрачивал с вами, а потом, много позже, вынужден был нагонять посредством такого «использования болезней во благо», о каком Паскаль даже не догадывался.
Существовал писатель, сумевший оценить все значение Марселя Пруста и огорчиться этим, но без злобы и зависти. То был очаровательный Рене Буалев *. Он откровенно признавался, что Пруст совершил то, о чем он сам мечтал. Он не завидовал – просто грустно исповедовался в своем красивом доме на Виноградной улице, и я, как сейчас, вижу его прекрасное, смуглое, изможденное лицо, окаймленное бородой, – одно из тех лиц, что равно свидетельствуют о чрезмерности покаяния или о жгучести людских страстей.
Впервые я увидел Марселя Пруста в конце войны, 3 февраля 1918 года, у г-жи Доде на приеме в честь Франсиса Жамма. Но я мог бы быть представлен ему несколькими годами раньше, поскольку знал младшего сына Альфонса Доде Люсьена. который был не только одним из близких друзей Марселя Пруста, но и обладал тем достоинством, что восхищался гением Марселя еще во времена, когда никому в голову не пришло бы согласиться с ним. «В направлении Свана» только-только появился в витринах книжных магазинов, а Люсьен Доде в «Фигаро» уже определил истинное – первое – место и автора, и его пока еще не получившего известности произведения.
«Подумать только, малыш Пруст! – повторяли люди. – Вы действительно верите, что это правда?» Люсьен Доде никогда не сомневался, что малыш Пруст по-настоящему велик, но никогда и не затыкал им все дыры. Он не поддался ослеплению дружбы, не дающему увидеть величие тех, кого любишь, и тем самым опроверг автора «Свана», утверждавшего, что невозможно поверить в гениальность человека, «с которым еще вчера мы выезжали в Оперу». Но почему он ни разу не заговорил со мной о Прусте? Я ощущал рядом с Люсьеном Доде чье-то присутствие, чье-то влияние, как бы расплывчатую тень, которая, возможно, сама не разрешала себе стать четче. Он часто забавлялся, передразнивая манеры и надменность графа Робера де Монтескью, думаю, потому что на него произвел впечатление прустовский персонаж, но тогда я несколько краснел за него. Однако вместо того, чтобы сказать, что у него есть гениальный друг, с которым он меня сведет, Люсьен Доде объявлял мне, к примеру, следующее: «Я сделаю для вас кое-что очень важное: представлю маркизе д'Эраг».
Под влиянием Бальзака я наивно воображал «салоны» такими, какими их способен представлять себе только провинциал. Помню обед в 1910 году у герцогини де Роган в честь графа Чернина, австрийского посла. Не знаю, чему я обязан столь стремительным продвижением от «поэтических чаепитий» добрейшей герцогини, где собиралась самая странная парижская фауна, до важного дипломатического обеда, на котором я любовался парадом многочисленной прислуги в пышных ливреях.
Кажется, в тот вечер я впервые с изумлением увидел Барреса во фраке, блуждавшего под герцогскими люстрами.
– Я здесь только для того, чтобы повидать очаровательную княгиню Бибеско, – сообщил он мне. – Вы читали «Восемь Эдемов» *?
В его зрачок, как сказал бы Пруст, был навсегда врезан силуэт Астине Аравян *, настоящей пери. Баррес, сын сумрачной Лотарингии, искал в женщинах волшебниц из «Тысячи и одной ночи», которые в Париже принимали облик балканских княгинь.
Но сейчас надо говорить о Прусте. Хотя наши общие друзья и не подумали нас свести, я узнал о существовании и гениальности Пруста по его переводу «Сезама и лилий» Рескина *, к которому он написал предисловие. С первых строк этого предисловия я ощутил, что нахожусь на рубеже неведомой страны. Мне непонятно, как Андре Жид, державший в руках рукопись «В направлении Свана», смог остаться равнодушным к этой вещи *; я же был буквально ошеломлен всего-навсего предисловием (оно включено под названием «День чтения» в «Подражания и смесь»). С тех пор я постоянно расспрашивал знакомых о Прусте; мне рассказывали о его странной отшельнической жизни, и я даже не надеялся, что смогу когда-нибудь войти в нее. И если у меня имеется первое издание «В направлении Свана», то лишь потому, что, едва разобрав в витрине книжной лавки фамилию Пруста, я тут же кинулся покупать книгу.
Но мне пришлось ждать до 3 февраля 1918 года, чтобы познакомиться с писателем, которого я больше всего мечтал узнать.
Пруст показался мне, в общем, невысоким; слишком облегающий фрак заставлял его выпячивать грудь, густые черные волосы бросали тень на зрачки, расширенные, видимо, наркотиком. Шею ему стискивал очень высокий воротник, пластрон выпукло круглился, словно у Пруста была птичья грудь. Пруст вперился в меня взглядом ночной птицы, неподвижность которого меня несколько смутила. Замешательство мое усилилось, когда он открыл рот и вместо приветствия, которое я надеялся услышать, произнес такую фразу:
– Франсис Жамм посвятил вам прекрасную новеллу...
Я, естественно, воспринял такое обращение в том смысле, что обрел право на внимание Пруста только благодаря этому посвящению. Тем не менее я почувствовал, что являюсь объектом упорного, хотя и скрытого изучения.
Кроме этой первой встречи, мне лишь однажды представился случай долго беседовать с Прустом; было это за несколько месяцев до его смерти, вечером, верней, ночью, когда он пригласил меня к себе на ужин; сам он лежал в постели. И все же какой путь пройден от первого его посвящения «Г-ну Франсуа Мориаку с искренним восхищением» до последнего – на форзаце «Содома и Гоморры»:
«Дорогой Франсуа, я хотел бы Вам написать о своем безмерном восхищении и признательности (главным образом, о восхищении). Но я был мертв. Сейчас я восстаю de profundis 1и пока еще весь в пеленах, как Лазарь *. Надеюсь вскоре увидеть Вас. Я не мог ответить ни на одну из книг Жамма, но Вы знаете, что он значит для меня. Постараюсь послать ему эту книгу. Но жизнь возвращается только через капельницу. Ваш друг Марсель Пруст».
1Из бездны ( лат.) .
О столь же быстром переходе к дружбе свидетельствуют и несколько писем Пруста, адресованных мне, независимо от того, писал он их, чтобы выразить благодарность за упоминание его книги в одной моей статье или чтобы высказать мнение о «Плоти и крови» и «Местах по рангу», единственных моих романах, которые он знал, если только в приведенном выше посвящении не имеется в виду «Поцелуй, дарованный прокаженному». Вот они в том порядке, в каком, как мне помнится, поскольку письма не датированы, я их получал; первое, судя по почтовому штемпелю, было от 24 сентября 1919 года.
«Милостивый государь,
Не в силах выразить, как я был тронут двумя полученными мною вырезками. Я, правда, никогда не откликаюсь ни на какие статьи, а тут всего лишь упоминания. Но упомянули меня Вы.
Ваш друг Франсис Жамм, мастер, которым я безмерно восхищаюсь, осыпая меня бесчисленными и незаслуженными похвалами, попросил исключить из первого тома произведения, чье название, к великой моей радости, Вам нравится, эпизод, показавшийся ему неприличным. Мне очень хотелось бы исполнить его желание. Но я весьма тщательно выстроил свое произведение, и этот эпизод из первого тома объясняет ревность моего молодого героя в четвертом и пятом томах, так что, вырубив колонну с непристойной капителью, я могу чуть дальше вызвать обрушение свода. Именно это критики называют книгами без композиции, написанными наобум памяти. Простите, что говорю о себе, но откровенность относительно метода работы я рассматриваю как форму благодарности и выражения симпатии.
Марсель Пруст»
«Дорогой друг,
Вы столь любезны ко мне, что и не знаю, как Вас благодарить. Постараюсь найти способ. Сейчас у меня бронхит, из-за которого приходится лежать в постели и даже трудно писать письма. Но как мне ни тяжело из-за температуры и слабости держать в руках перо, я все-таки взял его, чтобы выразить, насколько мне приятно видеть Ваше благожелательное понимание даже в самых незначительных мелочах. Вырезка из «Фигаро» стала для меня новогодним подарком, а приведенная Вами цитата «не бывает новогоднего дня...» вынуждает меня констатировать, что благодаря Вам хотя бы один все-таки есть.
Марсель Пруст»
«Дорогой друг,
Вы – чудовище (милое). Пишу Вам, так как вчера мне случайно показали журнал, где Вы доставляете мне радость, сравнивая меня с Карпантье *, и делаете честь, сравнив с Клоделем. И тут в почте приносят письмо, подписанное Моррасом. Почерк у него столь же неразборчивый, как у Леона Доде (а это не шутки), но, поскольку письмо довольно легко (к моему удивлению) поддавалось дешифровке, я решил, что писано оно не им. Мои бедные глаза не успели еще пробежать письмо до конца, но прочитанного мне уже хватило, чтобы убедиться: оно не от Морраса. Тогда я взял другие очки, потом лупу и, наконец, прочел, что Моррас – это, оказывается, Мориак. Ваше письмо требует пространного ответа, на что у меня сейчас просто нет сил. Но до чего же надо быть извращенно жестоким, чтобы в тот момент, когда я не в силах никому, кроме Вас, написать, как я люблю Вашу книгу, заявить мне: «Я чувствую, Вам не нравится моя книга из-за ее драматичности». Интересно, что Вы скажете, когда прочтете мои последние тома, хотя бы начиная с романа с Альбертиной, который я считаю драматичным. Но поскольку я пишу Вам, чтобы сказать, как люблю Вашу книгу, черную ракету, разрушающую все вокруг, не стоит ворошить мои похвалы и уничтожать их критикой. Дорогой друг, я наговорил бы Вам тысячи забавных вещей. Но важна для меня лишь одна (отнюдь не забавная); Вы пишете: «Ни единой статьи о моей книге». Хотите, я могу заняться этим и попросить Вашего почитателя Жака Ривьера, когда он вернется после отдыха, написать статью для «Нувель ревю франсез»? Правда, с некоторых пор рука у меня стала настолько несчастливой, что я вряд ли решусь предложить Вам свое содействие. Вот Вам последняя моя оплошность: я по собственному почину попросил сделать рецензию о книге Жака Буланже *, и мне пообещали, что она будет прекрасной; однако она оказалась настолько оскорбительной, что Жак Буланже отправил в «Нувель ревю франсез» великолепное ругательное письмо. Послал я стихотворение Пореля *, рекомендованное также Фаргом *, и его тут же отвергли и т. д. Тем не менее, если Вам угодно, я поговорю с Ривьером после его возвращения. А хотите, пылкий испанский монах, я обращусь в «Аксьон Франсез», которая сейчас обо мне помалкивает, но, быть может, выскажется о Вас? Короче, сообщите свои пожелания. (Я могу написать Шоме*.)








