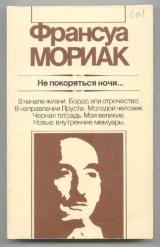
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
Какая бессовестность писать мне, когда я умирал, увы, без надежды на воскрешение: «Почему Вы как-то прислали за мной в тот момент, когда я был на даче?» Но откуда же мне было знать, что Вы уехали на дачу? Мне кажется, Вы упускаете из виду состояние моего здоровья. Вам, наверно, рассказывали, что у меня не было сил выправить мой последний том, и его отдали печатать прямо с черновика, просмотренного Галлимаром *, Ривьером и Поланом *, которые были столь добры, что взялись за это. Но ведь Вам все равно, даже если человек умирает. Вы, как «Бель-летр», которая дуется на меня из-за того, что я не прислал своего мнения о г-не де Гонкуре. И несомненно, «Ренессанс» и прочие журналы сочтут, что я из гордыни не отвечаю на их анкеты. И только по причине физической слабости (после этого письма я наверняка недели две буду лежать, не открывая глаз) я не предложил Вам себя в качестве автора статьи, чем, кстати, разобидел бы множество мэтров и друзей, которым вынужден был отказать в подобной услуге, хотя то, что меня просят писать статьи, само по себе смешно. Я знаю, Вы очень любите Эли де Геньерона (я тоже и не повидался с ним лишь потому, что действительно тяжело болен), но не доходит ли Ваша любовь до такой степени, что Вам нельзя ничего рассказать без того, чтобы Вы не передали ему? Если нет, то я Вам перескажу один довольно забавный разговор, который недавно у нас с ним произошел. (Разговор этот ни в коей мере не имеет отношения к Вам и ничуть не порочит его.) Поверьте, что если бы я не любил Ваших книг, то не стал бы утомлять себя (в состоянии, когда слово «утомление» уже утратило свой первичный смысл), чтобы написать о своей любви к ним. И поверьте, что я также люблю и Вас.
Ваш друг Марсель Пруст»
Избавлю читателя от письма, где Марсель Пруст пространно комментирует «Книгу святого Иосифа» своего обожаемого Франсиса Жамма; анализ этот достаточно скучен, но завершается он весьма многозначительной китайской церемонией:
«Мне надо было бы переговорить с Вами о разных неотложных вещах, но, возможно, я уже опоздал с этим крайне важным разговором, поскольку может случиться так, что двое Ваших друзей предложат Вам выбирать между ними и мною. В подобной ситуации я горячо рекомендую Вам выбрать их: они Ваши давние верные друзья, и Вы не смеете терять их дружбу. Впрочем, вероятно, они и не поставят Вас перед таким выбором, а я, как Вы сами знаете, и подавно, так что все будет хорошо, по крайней мере в том, что касается нас двоих».
Некоторое время спустя Марсель Пруст подтверждает, что получил мой роман «Места по рангу».
«Дорогой и обожаемый друг, я так хотел бы, чтобы здоровье позволило мне побеседовать с Вами о поразительных «Местах по рангу», потому что книги замечательнее, оригинальнее и неординарнее я не могу себе представить и не читал уже очень, очень давно. Я оказался весьма восприимчив к душевной тонкости, отличающей Джона Мартино и Фредди Дюрана, к живописному таланту (иногда несколько чрезмерному), благодаря которому Вы заставляете возненавидеть Уртин а , и даже к приемам драматического романиста, приводящего Огюстена * к обращению, но не вполне уверен, что постиг внутреннюю жизнь, которая со всем этим переплетена или, верней, лежит в основе всего и которую мне больше всего хочется оценить.
Дорогой друг, к тому, что я только что говорил, это не имеет прямого отношения, но у меня почти нет привычки к разговорной стороне книг, и причина здесь, полагаю, в моей неподвижности. Но, слыша Ваше произношение, Ваш изумленный, негодующий голос, я благословляю Вас за то, что Вы оживили подробности вечера, когда я имел счастье узнать Вас (я хочу сказать, вечера, когда Вы так любезно согласились заглянуть в комнатку, которую я делил с моим единственным X., теперь уже уехавшим в далекую страну...). Поверьте, я постоянно вспоминаю Ваш взгляд, голос, все, что Вы говорили, Ваше письмо, полученное на следующий день. Но все это становится и достовернее, и живее, когда в напечатанных словах я узнаю Вашу особую, энергичную и очаровательную манеру выговаривать их. Приведенная Вами великолепная цитата из Шатобриана оказалась крайне кстати и помогла мне понять, почему я вдруг так привязываюсь к иным созвучиям на некоторых страницах. «Порвать с реальными вещами – пустяк. Но вот с воспоминаниями...»
Дорогой друг, я не порвал с воспоминаниями о Вас, и, может быть, мне будет суждено увидеть Вас не мысленно, а воочию. Я еще не оправился от тяжелейшей болезни (по-моему, я Вам писал, что не мог даже вычитать корректуру и что в «Нувель ревю Франсез» любезно согласились печатать мой последний том со старого черновика, и опечаток в этой книге гораздо меньше, чем в остальных, поскольку, как Вы утверждаете, я не умею читать корректуру); поэтому я не могу ни отвечать на письма, ни переутомляться, расспрашивая Вас о смысле той или иной страницы. Мы, должно быть, поразительно разные, в Вас я не вижу своего отражения, и это мне безумно нравится. Сейчас, когда все так одинаково, Ваша книга необыкновенно своеобразна! Я не умею держать корректуру, и, однако, Вы должны были бы послать мне свою. Я предложил бы Вам устранить кое-какие крохотные недостатки. Если Вы видитесь с Франсисом Жаммом, скажите ему, что только тяжелая болезнь помешала мне поблагодарить его за «Святого Иосифа». И я вдруг вспомнил, что, когда в семнадцать лет (случай, думаю, уникальный) проходил в Орлеане военную службу, в полку у нас был исключительно любезный и учтивый лейтенант, маленький, худой, чернявый, с очень красивым лицом, расхаживавший по орлеанским улицам с толстенным молитвенником под мышкой. Тогда для этого нужна была большая смелость. Мне сказали, что в этом году он умер. Люди, сообщившие мне это, плакали. И вот я подумал, не родственник ли он Франсису Жамму. Походатайствуйте перед этим великим поэтом, пусть он порекомендует меня своему святому покровителю, чтобы тот послал мне легкую смерть, хотя я чувствую в себе достаточно мужества принять и самую мучительную.
Всецело Ваш
Марсель Пруст.
P. S.Я начал изредка вставать и, несмотря на скверные результаты недавнего моего опыта, в ближайшие дни стану выходить. Может быть, удастся воспользоваться этим и повидаться. Досадно, что мне слишком поздно становится известно, когда можно встать, и в это время я не буду знать, где искать Вас. Я мысленно увидел Франсиса Жамма, представляющегося Академии. Мне передали высказывание по этому поводу Вашего знакомого Артюра Мейера, – высказывание, потрясшее меня теперь уже позабытой глупостью многих светских людей. Мне тут же привиделся главный редактор «Голуа» с его похожим на розовую сахарную голову черепом великого жреца из «Прекрасной Елены» * и завиточками на затылке, как сказали бы Гонкуры, словно у болонки, вещающий гнусавым голосом мрачные пророчества. Впрочем, не знаю, почему я высмеиваю его; в один из вечеров я германтизировался *, и мои самые желанные гости показались мне слегка глуповатыми. Никак не могу решиться, дорогой друг, расстаться с Вами».
И вот последнее письмо, которое я получил от Марселя Пруста:
«Дорогой друг, Вы, наверно, уже догадались, что после Вашего визита я был серьезно болен. Иначе разве бы я смог, невзирая на Вашу просьбу не затруднять себя ответами, не написать Вам, не дожидаясь даже Вашего письма.
Эту записочку я посылаю Вам в момент, когда все еще продолжаю страдать. Но я не хочу, чтобы длительное молчание заставило Вас подумать, будто я вознамерился вычеркнуть Вас из памяти. Когда мы с Вами снова увидимся (если увидимся), умоляю, будьте таким, какой Вы, по Вашим словам, бываете обычно. Я не могу себе представить, что восхищение, которое, как Вы безмерно любезно уверяете меня, Вы испытываете ко мне, может что-то изменить, поскольку, как Вы знаете, я питаю к Вам не меньшее восхищение. Следовательно, они взаимно нейтрализуются, так что мы должны встречаться как два веселых, любящих жизнь человека (пусть даже один жив только наполовину), которые, находясь на расстоянии, поодиночке, полны самых глубоких мыслей, но, сойдясь вместе, развлекаются, подобно всем добрым людям, не являющимся писателями и не испытывающим обоюдного восхищения, хотя развлечения эти вовсе не исключают бесед о литературе.
Я безумно устал и потому таким педантским тоном, что даже самому страшно, толкую обо всем этом, как будто Вам не известно столь же Хорошо, как мне, и даже лучше, чем мне, что составляет очарование искренней и простой дружбы.
Всем сердцем Ваш
Марсель Пруст»
Здесь я должен рассказать об одном эпизоде, предшествовавшем полуночному ужину у постели Марселя Пруста, о котором он упоминал в предпоследнем письме. Накануне мне по телефону был задан вопрос: «Господин Марсель Пруст просит узнать, желательно ли господину Франсуа Мориаку во время трапезы послушать квартет Капе или он предпочитает, чтобы на ужине присутствовали граф и графиня де X.?»
Сейчас я, не задумываясь, загнал бы милейшего мистификатора в его же ловушку и потребовал бы квартет Капе, но тогда простодушно рассыпался в благодарностях и ответил, что меня не интересует ничье присутствие, кроме самого г-на Марселя Пруста. Факт незначительный, но он проливает дополнительный свет на кое-какие черты характера этого странного человека, которые проявляются и в его письмах ко мне. Даже если бы мы ничего не знали о Марселе Прусте, писем этих было бы достаточно, чтобы представить себе личность, похожую на большинство персонажей, населяющих его роман. Взять, к примеру, утопленную в потоке любезностей его интерпретацию моей жалобы: «Ни единой статьи о моей книге...», которую он мгновенно воспринял как скрытую просьбу, и море слов, затраченных, чтобы отказать в том, о чем я не просил, или брошенную мне приманку в виде сплетни насчет Г., или намек на моих друзей, которые вынудят меня выбирать между им и ними; от всего этого, несмотря на искреннюю симпатию и трогательную обходительность, явственно тянет смрадноватым душком того общества, которое в его изображении предстает форменным адом. В сокровенных глубинах этого человека, пораженного болезнью на стыке духа и плоти, долгие годы омывался, словно в купели, чувственный мир, перед которым он был беззащитен, мир, глубоко утонувший в нем, но под напором памяти выходивший на поверхность. Все его персонажи были как бы погружены в эту купель и изменялись в результате психологического омовения.
Мое восхищение Марселем Прустом и через двадцать лет после его смерти остается столь же пылким, но в нем все-таки появились кое-какие нюансы. Теперь я уже больше не уверен, что его произведение в целом знаменует торжество определенного метода. И вот что меня поражает: вершины этого грандиозного творения вырастают из глубокого прошлого самого автора. Но лишь ребенок из «В направлении к Свану» и взрослые, за которыми он наблюдает пока еще невинным взглядом (я имею в виду, в частности, знаменитый эпизод «Любовь Свана»), не поддались порче.
По мере того как обретенное Прустом время уходит все дальше от детства и перемещается в плоскость сексуальной жизни и людей, занятых только ею, безупречный дотоле металл романа мало-помалу начинает ржаветь. Кое-где он еще держится, словно его оберегают священные воспоминания героя о матери и бабушке. В остальных же местах гниль бездеятельной жизни, пусть изумительно чуткой, но лишенной защиты от внешних воздействий и целиком отданной во власть бесчисленных эмоций, осаждает со всех сторон мир, сотворенный романистом, проникает в него, разъедает и уничтожает. В последних томах блекнет даже облик бессмертной служанки Франсуазы. Призрак Альбертины плавает, словно эктоплазма, в удушливом мраке комнаты. Все живые исчезли, существует только несравненное клиническое исследование ревности пр о клятого существа, не способного на ту любовь, какой Господь щедро благословил мужчину и женщину. Все, бывшее в романе плотью, постепенно поддается гниению и превращается в тлен, но остается костяк – цели и обобщения моралиста, равного которому по проникновенностинет и не было ни в одной литературе.
Короче говоря, я считаю, как и двадцать лет назад, что произведение Пруста возвышается над всей современной литературой. И мне остается с изумлением констатировать, что значение его до сих пор не понято некоторыми критиками. Никому не удастся отнять у Пруста место, которое он занимает рядом с великими европейскими романистами. Тем не менее сейчас, когда ослепление первого знакомства прошло, мы оказываемся гораздо чувствительней к тому, что мир романа загрязнен больным сознанием его создателя, который долго носил этот мир в душе, переплел с собственным временем, перемешал с собственной глубинной грязью и передал ему зародыши ощущаемой в себе заразы.
Той ночью, о которой Марсель Пруст упоминает в письме (когда не играл квартет Капе), я рассмотрел его мрачную комнату на улице Амлен, закоптелый камин, кровать, где одеялом служило пальто, лицо, похожее на восковую маску, обрамленное волосами, которые единственно и казались живыми. Пруст сказал, что гость, то есть я, разглядывает их так, словно собирается съесть. Сам он уже не принимал земной пищи. Беспощадный враг, о котором говорил Бодлер, враг, «сосущий жизнь из нас», время, что «крепнет и растет, питаясь нашей кровью» 1, сгустилось, материализовалось у изголовья Пруста, уже более чем наполовину затянутого в небытие, и превратилось в гигантский, все разрастающийся гриб, который питался его сущностью, его трудом – «Обретенным временем».
1Ш. Бодлер. Цветы зла. М., «Наука», 1970, с. 28. ( Пер. В. Левика.)
Пруст еще пользовался языком дружбы, в которую давно уже не верил. Горе человеку, не отделяющему нежности от желания! Горе сердцу, не способному нежно любить другое сердце, не задевая и не раня при этом плоти! Слова, которые он еще употреблял, уже не согласовались с его внутренней опустошенностью, внутренним распадом. Дружеские формулы существовали сами по себе на его губах, сухих от чудовищной, неутолимой жажды.
Вспоминая о том полуночном ужине, Пруст упомянул «своего единственного X.». Но этот молодой человек вскоре уехал в Америку, где Пруст нашел ему место. Таким образом Пруст перерубил последние швартовы и остался один в своей меблированной комнате, занимаясь корректурою книги, делая между приступами удушья поправки на полях; с друзьями он сохранил лишь те связи, что существуют между ним и нами сейчас, когда его уже нет: то было предварение отношений, которые смерть, унеся писателя, устанавливает между ним и почитателями, постигающими его лишь по книгам.
И безусловно, Пруст остается для меня таким же живым, как большинство тех, кто его пережил, – как Жан Кокто, чей путь после долгих перерывов сходится с моим, и я вновь и вновь узнаю его голос, легкую косину, сухую руку, похожую на хрупкую лапку ящерицы, которую он поднимает так же, как поднимал в 1910 году в темной передней своего дома на улице Анжу перед слепым стариком камердинером или в салоне г-жи Доде, когда в изысканной и очаровательной манере декламировал:
Здесь наша, о друзья, волшебная страна,
Вокруг Вандомского столпа лежит она.
То был Кокто до Дягилева *, до «Болот» * в Оффранвиле у Жака Эмиля Бланша *, до Аполлинера, Макса Жакоба * и Пикассо, до озарений, принесших ему славу.
В нерешительности стою я перед тысячью дорог, ведущих от центральной площадки парка, до которой добрался. Я ведь рассказываю не о жизни Пруста. Его безмерно однообразное существование, в котором не происходило почти никаких событий, не случалось никаких перемещений, представляет собой такое плотное переплетение ситуаций и страстей, такой запутанный клубок, пронизано таким множеством других судеб, что, даже очистив это существование от всего постыдного, мы тем не менее не сочли бы возможным рассказывать обо всем.
Молодость человека кажется краткой в сравнении с вечностью, но эта капля воды обнаруживает под микроскопом наполненность, сравнимую с наполненностью бесконечных пространств. В целостной истории жизни молодого человека, его любовных и дружеских связей, слабостей, интеллектуальных или религиозных кризисов открывается широкая соотнесенность с историей идей и нравов эпохи, отраженных в его мозгу. Чтобы поведать ее и исчерпать скрытый в ней драматизм, не хватит даже самой долгой старости.
II
Прустовский персонаж
«Воспоминания» графа де Монтескью не послужат увековечению его памяти. До чего же поучительно видеть, как дворянин, чьим ремеслом, если можно так выразиться, было знание света, столь легкомысленно попадает после смерти впросак! И все эти старательные излияния посмертно издаваемых творений, все эти шпильки замедленного действия, безмерное и бесстыдное любование собственным характером и поступками служат наилучшим доказательством того, что мысль о смерти убивает в человеке прежде всего страх оказаться смешным. Но следует ли судить о графе де Монтескью по его «Воспоминаниям»? Неужели он был всего-навсего поставщиком мелких удовольствий, предком-обойщиком всех тех маньяков, чьей специальностью нынче стало «оформление интерьеров», эстетом с абсолютно дурным вкусом, пожилым господином, не церемонившимся с пожилыми дамами, озлобленным, жадным до фимиама поэтом, который практически ничего не сообщает нам о своих прославленных знакомых, разве что приводит лестные для себя письма, написанные, правда, чисто из вежливости?
Но если он был именно и всего лишь таким, мы вряд ли поймем, почему так благоговели перед ним многие незаурядные молодые люди младшего поколения, благоговели настолько, что у меня, не имевшего чести быть представленным графу де Монтескью, было ощущение, будто я его знаю, так как я постоянно наблюдал учеников графа, копировавших его осанку и надменность. Граф опроверг Лабрюйера, считавшего, что «человек высокомерный и спесивый в обществе обычно добивается результата, прямо противоположного тому, на который рассчитывает, – если, конечно, он рассчитывает на уважение» 1. Г-н де Монтескью подкупал именно высокомерием: он представлял интерес для своего времени и если и не подражал нравам герцога де Лозена *, то по крайней мере обладал его манерами. В нынешнем высшем обществе, куда затесались американцы, почти уже не встретишь того сплава элегантности, остроумия, фатовства, заносчивости и хороших манер, секрет которого унаследовал граф де Монтескью и, мало того, довел благодаря знанию истории до высочайшей степени совершенства. Никто лучше его не умел подать себя и отретушировать свой облик в соответствии с образцом, так отработанным в «Воспоминаниях». Эстет, падкий на все чудовищные новинки стиля «модерн», по своим вкусам он больше всего тяготел к розовым дворцам и Трианону, для которого, совершенно очевидно, и был создан. Его легко можно представить участником кружка королевы рядом с Полиньяками, Адемарами, Безанвалями, Водрейлями, способного и сочинять скабрезные куплеты о своей повелительнице, и, быть может, даже погибнуть за нее. Короче говоря, он был одним из последних французских дворян, заслуживающих эпитета «блистательный», одним из последних, кто умел устраивать празднества. («Вы рассчитываете давать празднества?» – величественно спросил меня один из почитателей графа де Монтескью, когда я сообщил ему, что снимаю квартиру из трех крохотных комнаток на шестом этаже без лифта.) Описание этих торжеств занимает в «Воспоминаниях» столько места, что можно подумать, будто высокородный граф считает подобные описания самой нетленной частью своего творческого наследия. В связи с ними он делит человечество на две части – избранных и прочих, и оба эти термина прежде всего следует иметь в виду при попытках найти определение для снобизма. Не говорите: «Я не сноб». Вы будете очень близки к тому, чтобы стать им в день, когда окажетесь одним из счастливых «избранных», как именует своих гостей граф де Монтескью. А попав в следующий раз в «прочие», рискуете если уж не страдать, то, во всяком случае, остаться с испорченным настроением. Именно с таких вот легких приступов досады и начинается снобизм. Избранные – прочие; принять – не принять; это как вдох и выдох; этим дышат, этим существуют замкнутые мирки, равно как академии и клубы. Поэтому мудрый постарается держаться на расстоянии от зоны, где он может оказаться вовлеченным в такое сообщество, а потом отвергнутым, ибо нет ничего постыднее, чем страдать по ничтожным поводам.
1Жан де Лабрюйер. Характеры. М.—Л., «Худож. лит», 1974, т. V, с. 60. ( Пер. Ю. Корнеева и Э. Линецкой.)
Тем не менее, подобно Плинию Старшему *, который погиб, пытаясь вблизи наблюдать извержение Везувия, наш Пруст – и это великолепно! – бросился в пасть чудовища, чтобы представить нам его достоверный портрет; однако, желая лучше изучить его, в какой-то степени заразился снобизмом. Вот наконец у меня и вырвалась фамилия Пруста, которую я долго не решался написать. Граф де Монтескью, несомненно, пришел бы в страшную ярость, предскажи ему в свое время кто-нибудь, что для нас он будет существовать только в связи с Прустом. Он слишком поздно умер, чтобы, по всей вероятности, не испытывать некоторого страха перед такой перспективой, о чем и свидетельствует длинное, желчное и даже язвительное добавление in extremis 1(март 1920 года) к его «Воспоминаниям». Чем же обязан Пруст своему другу? Жак Эмиль Бланш, прекрасно знавший и того и другого, уверял меня, что без Монтескью и сам Пруст, и его произведение были бы совершенно иными. Но можно ли говорить о влиянии Монтескью на него? Множество друзей Пруста помогли нам понять его полуинтуитивный метод брать от каждого то, что тот мог ему дать. Он никого не отпускал от себя, пока не выжимал все полезное для своей книги, и граф де Монтескью, разумеется, оказался для него богатейшим источником. Граф был тем неиссякаемым хранилищем, из которого на молодого романиста изливались миллионы острот, сплетен, изречений, обогативших его знание света. Наконец, видимо, своему высокородному другу Пруст обязан тем, что стал воспринимать свет всерьез, поверил в его реальность и выдал ему, если можно так выразиться, патент на существование. Однако, если сейчас с французского высшего общества, общества аристократов Германтов, снять, как накипь, все то, что в нем недостаточно родовито, что подмешано к нему американского и еврейского, не окажемся ли мы в результате перед темой нового произведения, которое можно будет озаглавить «В поисках утраченной аристократии»?
1В последнюю минуту перед смертью ( лат.) .
Наконец, Пруст взял от графа де Монтескью некоторые – только некоторые! – черты для образа своего Шарлюса. Эту достаточно гнусную личность не спутали когда-то с Дез Эссентом *, не станем же и мы путать ее с благородным и нередко вдохновенным поэтом, никогда не жертвовавшим подлинно человеческим величием ради того, что г-жа де Ламбер * именовала «почестями по должности», который облегчил агонию Верлена и одного из детей Стефана Малларме, послужил памяти Марселины Деборд-Вальмор * и всегда имел самое высокое представление о дружбе, хотя порой и казался поразительным виртуозом ссоры.
III
На могиле Марселя Пруста
В той меблированной комнате, глядя на изумительное лицо почившего Марселя Пруста, мы размышляли о необыкновенной судьбе творца, которого пожрало его творение.
Марсель Пруст отдал жизнь, чтобы жило его творение, и это небывалый случай: Бальзака, например, его кредиторы буквально привязывали к столу, чтобы получить с него свои деньги. Пруст же удалился от мира, чтобы сотворить мир. Несомненно, болезнь способствовала его отрешению от жизни, хотя с такой же легкостью могла склонить к поискам излишеств, к веселой компании, к наслаждениям, которые помогли бы ему отвлечься от своего недуга.
Среди голых стен, где он покоился, мы наконец поняли его странный аскетизм, полнейшее отречение от всего, кроме творчества, отречение, дошедшее до отказа от пищи, когда он вдруг внушил себе, будто голодание поможет ему выздороветь, даст отсрочку для завершения героической и безумной погони за «утраченным временем».
В последнюю ночь он еще диктовал свои размышления о смерти, заметив: «Это пригодится для смерти Бергота» *. А на грязной этикетке от пузырька с настойкой мы увидели несколько неразборчивых слов, которые он напоследок нацарапал: понять можно было только фамилию Форшвиль; да, до последней минуты его создания жили сущностью их создателя, высасывая из него остатки жизни.
В этой ужасающе безликой «меблированной» келье у тела литератора, который любил литературу до такой степени, что умер ради нее, нам вспомнилась молитва Паскаля, просившего бога научить его использовать болезни во благо. Как же следует использовать телесный недуг? Марсель Пруст, такой же хилый и больной, как Паскаль, подобно ему, задал себе этот вопрос и, подобно ему, ответил полным самоотречением. Вне всякого сомнения, он превосходно использовал болезнь, но в отличие от того же Паскаля, постигавшего непреходящее, обратился к тому, что преходит. Отрезанный от мира страданиями, он в период отшельничества в определенном смысле извлекал из себя вселенную, которую вобрал в период светской жизни. Он не только населил эту вселенную бесчисленным множеством людей, находящихся на разных уровнях общественной, чувственной и сексуальной жизни, но и задерживал мгновения, дни, поворот дороги в определенный час определенного года и вдруг в своей почти голой комнате улавливал, подобно порхающей бабочке, аромат живой изгороди из боярышника.
Так благодаря физическим страданиям возник бескрайний лес его романа, где каждое имя – Сван, Комбре, Германты – подобно поляне, от которой отходят дороги, соединяющиеся между собой бессчетными тропинками, Пруст с величайшим терпением занялся этим сверхчеловеческим трудом, изнурял себя, сочетая людей и пейзажи, имена и облики, звуки, краски, запахи, стирал расстояния между ними и создал в конце концов живую симфонию. Бергсон писал, что прошлое, все целиком, каждый миг сопровождает нас: «...все, что мы чувствовали, думали, желали со времени первого детства, все это тут, – все тяготеет к настоящему, готовому к нему присоединиться, все напирает на сознание, отказывающееся дать пропуск» 1. Усилие Пруста шло в направлении, противоположном привычной работе механизма мозга, который у других людей стремится загнать все бесполезные воспоминания в подсознание. Его сознание было, напротив, настроено на доверие к памяти, настроено выхватывать всякое всплывающее воспоминание. Но это не значит, что сознание бесконтрольным потоком выплескивало минувшее: каждая деталь в многотомном «В поисках утраченного времени» отобрана среди тысяч других, и выбирал Марсель Пруст из всего своего прошлого.
1А. Бергсон. Творческая эволюция. М.—СПб., «Русская мысль», 1914, с. 4—5.
Представляете ли вы одиночку, который непрестанно, до самой смерти ведет борьбу с волнами воспоминаний, этого немощного Геракла, то пытающегося остановить прилив времени, то позволяющего отливу нести себя? Эта безумная работа убила его, и умер он, быть может, без бога, от любви к которому она его отвратила, как отвратила Паскаля от всех людских устремлений. Нам же, своим младшим собратьям, которые восхищались им и любили его, он преподал страшный урок: устремлений. Нам же, своим младшим собратьям, которые жизнь. Несмотря на Гонкуровскую премию, Марсель Пруст не сделал литературной карьеры и лишь последние пять лет жизни видел, как восходит и тускло светит солнце его славы. Б о льшая часть его земного пути прошла среди обитых пробкою стен квартиры на бульваре Османа, и никто, за исключением нескольких друзей, не подозревал, что там в страданиях рождается самый значительный роман нашего времени. Пруст видел, как делаются имена, создаются легковесные репутации, но у него достало мужества не обронить ни крошки из еще неведомого нам сокровища, которое он собирал. И все-таки мы помним, как в двадцать лет восхищались его предисловием к «Сезаму и лилиям» Рескина. Единственная крохотная крупица золота позволила нам предугадать неведомые копи, которые Пруст открывал в одиночку.
Мы верим в непреходящую ценность этого произведения. Разумеется, во все времена будет очень немного охотников блуждать по этому очарованному лесу, такому таинственному и в то же время так искусно задуманному; лишь элита сумеет получать удовольствие от извилистых и запутанных дорог, тупиков, бесконечных остановок. Но как во всем мире восхищаются «Манон Леско», хотя это всего лишь седьмая часть «Записок и приключений знатного человека» *, так и в произведениях Пруста широкая публика уже сумела выделить фрагменты вроде «Любви Свана», «Агонии», «Перебоев в сердце».
Отважимся ли мы пойти до конца в рассказе о том, какие мысли обуревали нас рядом с покойным великим человеком? (Следовало бы сказать, рядом с великим молодым человеком, потому что на смертном ложе он выглядел не на пятьдесят, а разве что на тридцать лет, словно время не посмело коснуться того, кто его обуздал и покорил.) Осмелимся ли мы высказать все до конца? Его руки не были сложены на груди, а лежали вдоль тела, как у побежденного, на бездыханной груди не покоилось распятие. И мы думали, нет ли в его произведении того же отказа от бога? Это ужасно, но бог отсутствует в творчестве Пруста. Мы отнюдь не принадлежим к тем, кто упрекает его за то, что он прошел через огонь и развалины Содома и Гоморры, однако сожалеем, что он вступил туда, не облекшись в алмазную броню. В этом, с литературной точки зрения, единственная слабость и ограниченность его произведения – там отсутствует проблема совести. Ни один из персонажей, населяющих его книги, не ведает душевной тревоги, угрызений, нравственных мук, никто не стремится к совершенству. Там нет практически никого, кто знал бы, что означает слово «чистота», а люди, чистые от природы, вроде матери или бабушки героя, остаются ими столь же бессознательно, просто и легко, как оскверняют себя остальные. Нет, здесь перед нами не христианин, осуждающий пороки: ограниченность нравственной перспективы обедняет человечество, созданное Прустом, суживает его вселенную. Главной ошибкой нашего друга нам представляется даже не дерзкая, порою чуть ли не омерзительная смелость известной части его творения, а то, что мы определили бы как отсутствие благодати. И те, кто следует за Прустом, для кого он проложил дорогу в неведомые земли и с отчаянной отвагой поднял на поверхность материки, до него поглощенные мертвым океаном, должны приобщить благодати этот новый мир.
И все же вот литератор в высшем и крайнем проявлении: он сотворил из своего произведения кумира, и кумир пожрал его. Оно не служило для Пруста отвлечением от боли, ибо писатель питал его самой своей болью, обогащая наблюдениями над бессонницей, лихорадкой, сновидениями, дремотой, приближением смерти, агонией (в этом он, наследник Стендаля, Флобера, Бальзака, уходит корнями к Монтеню). И получается, что всепожирающий труд отвратил Пруста только от предвечного... Но что мы, в сущности, об этом знаем? О столь величественном творении мало сказать, что в нем проявилась одна лишь внутренняя потребность автора; у нас есть полное право усматривать здесь особое произволение Господа. И потом, вспомним, сколько Пруст выстрадал. Болел он давно, но не умирал, поэтому друзья считали его страдания не такими уж тяжкими и с улыбкой утешали страдальца. Ночной образ жизни Пруста казался им нелепым проявлением воображаемой болезни; они воспринимали как причуды его упоминания о смерти, все те стоны, что раздавались в каждом его письме, в каждой надписи на книге: «Я хотел Вам написать, но я был мертв. Сейчас я восстаю de profundis 1и пока еще весь в пеленах, как Лазарь». В другом письме он называет себя тем, «кто уже отдан смерти», а говоря о Жамме, пишет: «Походатайствуйте перед этим великим поэтом, пусть он порекомендует меня своему святому покровителю, чтобы тот послал мне легкую смерть, хотя я чувствую в себе достаточно мужества принять и самую мучительную».








