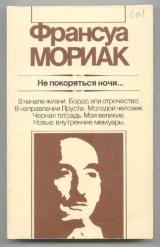
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
В этих нескольких строках содержится вся суть подобного суда совести. Поглощенность человеком, жажда не упустить ни капли из того, что в нем живет, – вот, думаю, те чувства, которые преобладают у всех нас, у старших и у младших. Да, именно познание человека; и как бы ни были мы потрясены торжественными предостережениями Маритена, ничто не помешает нам идти вперед, тем более что на этом пути нам предшествуют наши учителя, а чары, совсем недавно не позволявшие писателю касаться определенных тем, разрушены. В этом смысле Пруст оказал огромное влияние на все поколение, следующее за ним. На те самые тайны чувств, от которых Маритен заклинает отводить взгляд, Пруст указывает как на средство, с помощью которого мы постигнем сущность человека; он манит нас надеждой, что, вскрывая самое затаенное в человеческой натуре, мы продвинемся в познании его дальше, чем наши гениальные предшественники; ведь нет сомнения, что у людей, кроме их общественной и семейной жизни, кроме действий, на которые их вынуждает среда, профессия, воззрения, убеждения, существует еще некая потаенная жизнь, и нередко в этой грязи, скрытой от чужих глаз, погребен тот ключ, которым мы откроем человека во всей его полноте.
Мне могут возразить: «А не рискуете ли вы, занимаясь лишь тем, что уродливо и противоестественно, замкнуться в изучении исключительных, патологических случаев, вместо того чтобы постигнуть человека целиком, к чему вы так тщеславно стремитесь?» Безусловно, такая опасность существует; тем не менее мы вправе спросить у себя, является ли познание нормального человека самодовлеющей ценностью. Начнем с того, что все люди совершают примерно одни и те же поступки, произносят одни и те же слова, одно и то же любят или ненавидят, однако по мере их изучения – каждого в отдельности и как можно пристальней – вырисовываются различия в их характерах, выявляются прямо-таки необоримые противоположности, так что можно представить себе, как в человеке, кажущемся совершенно нормальным, психолог добирается до того, благодаря чему этот человек оказывается отличным от всех других, «самым неповторимым среди живущих на свете», или уродом в полном смысле этого слова. Выявить в каждом сердце наиболее индивидуальное, своеобразное, непохожее – вот что мы пытаемся делать.
VI
Безусловно, не только это мы хотим открыть в сердце, поскольку стремимся охватить его во всей полноте, и тут возникает еще одна четкая тенденция новейшего романа, которая противопоставляет его роману, идущему от Бальзака: мы не намерены вводить в изучение человеку логику, привнесенную извне, и опасаемся предписывать ему произвольные правила. Герой Бальзака всегда связан, любой его поступок может быть объяснен господствующей страстью и не выходит за предписанные этому персонажу рамки; вне всякого сомнения, это великолепно: искусство вполне можно рассматривать как порядок, навязанный природе, и считать, что романист действительно вправе прояснять, организовывать и уравновешивать хаос человеческой натуры. Эту позицию не только вполне можно защищать, но ей даже трудно отказать в правомерности, если вспомнить, что сильная страсть, полностью овладевая человеком, в конце концов почти всегда упрощает его: цель всех поступков честолюбца – его карьера, сластолюбца – удовлетворение похоти, и это давало Бальзаку возможность создавать типы, то есть людей, которые целиком сводятся к одной-единственной страсти.
Но в середине девятнадцатого века появился писатель, чей могучий гений был направлен отнюдь не на распутывание того клубка противоречий, каким является человек, писатель, который удержался от введения системы и предвзятой логики в психологию своих персонажей и творил, не вынося заранее приговора их интеллектуальным и нравственным достоинствам; действительно, трудно, а то и просто невозможно оценивать героев Достоевского, настолько все в них запутано и перемешано – величественное и омерзительное, низменные побуждения и возвышенные порывы. Нет, это не рассудочные творения, среди них не встретишь Скупца, Честолюбца, Солдафона, Священника, Ростовщика – они люди из плоти и крови, обремененные наследственностью и пороками, подверженные страстям, способные на все – и на добро, и на зло; от них можно всего ждать и всего опасаться.
Это, безусловно, писатель диаметрально противоположный Бальзаку (я рассматриваю здесь Бальзака как лидера, как главу направления и под его именем объединяю всех его последователей). Достоевский на всех или почти на всех нас наложил глубочайший отпечаток. «Но это же русские, – могут мне возразить, – а нелогичность, противоречивость – свойства русского характера». Что ж, оглянемся вокруг, выберем кого-нибудь наудачу и постараемся без всякой предвзятости составить о нем определенное суждение. Нам неизбежно будут мешать тысячи противоречий, коренящихся в этом человеке, и заранее можно быть уверенным, что в конечном счете мы так и не выразим своего мнения о нем. Что же касается героя или героини романа бальзаковского типа, то тут нам не понадобится много времени, чтобы приклеить к ним эпитет «симпатичный» или «антипатичный», а то даже «благородный» или «подлый». Действительно, несмотря на евангельский запрет, мы очень любим судить ближнего, и в этом, несомненно, одна из причин успеха жанра романа: перед нами проводят мужчин и женщин, и можно быть уверенным, что в оценке их достоинств мы не ошибемся; читатель, даже образованный, так же как кучер фиакра, втайне жаждет ненавидеть злодея и сострадать сиротке. Нет, герои Достоевского сбивают с толку большинство французских читателей не потому, что они русские, а потому, что они люди, похожие на любого из нас, то есть живой хаос, личности до того противоречивые, что непонятно, что и думать о них. Достоевский не навязывает нам никаких правил, никакой логики, кроме логики жизни, а она-то с позиции нашего здравого смысла и представляется нам нелогичностью. Мы ошеломлены, видя, как его персонажи ежесекундно испытывают чувства, полностью противоположные тем, которые, казалось бы, естественны и нормальны в подобных обстоятельствах; однако кто из нас, беспристрастно всмотревшись в себя, не будет поражен неожиданными, нелепыми чувствами, какие мы нередко в себе обнаруживаем? Мы просто не отдаем себе в них отчета, отчета в реальности; во всех случаях жизни мы стараемся чувствовать то, что принято и логично, то есть навязываем себе такие же правила, какие французский романист навязывает своим созданиям.
В лекции, посвященной Достоевскому, Андре Жид, один из тех французов, кто глубже других понимает великого писателя, заметил по этому поводу:
«Условность – величайший поставщик лжи. Много ли на свете людей, несогласных всю жизнь играть роль, поразительно не подходящую им, и многие ли способны распознать в себе чувство, которое не было бы заранее описано, окрещено, образец которого не стоял бы перед глазами? Человеку легче подражать, нежели что-то придумывать самому. Сколько людей покорно позволяют лжи всю жизнь пересотворять себя и, несмотря ни на что, видят в ней всего лишь условность, которая куда удобней и требует меньше усилий, чем открытое утверждение своих, только им свойственных чувств. Такое утверждение потребовало бы от них выдумки, на которую они не чувствуют себя способными».
Отныне нам невозможно не мечтать о разрушении этой условности, которую так точно определил Жид. Тот, кто глубоко усвоил уроки Достоевского, не может больше довольствоваться рецептами французского психологического романа, где человек в некотором смысле предначертан, упорядочен, совсем как природа в Версале. Это вовсе не критика: я преклоняюсь перед Версалем, перед «Принцессой Клевской» и «Адольфом». Но нам уже нельзя пренебрегать чужим опытом. И здесь мы подходим к существеннейшей проблеме: у нас перед писателем стоит задача, ничего не утрачивая из традиций французского романа, обогатить его достижениями иностранных мастеров, англосаксонских и русских, в частности Достоевского. Нужно сообщить героям наших книг нелогичность, незаданность, сложность живых людей и все-таки продолжать их выстраивать и упорядочивать в соответствии с духом нашей нации, словом, оставаться писателями порядка и ясности.
VII
Конфликт между двумя этими требованиями – с одной стороны, написать логичное и рассудочное произведение, а с другой, сохранить в персонажах незаданность и тайну жизни – представляется нам единственным, который действительно необходимо разрешить. Я, надо признаться, не придаю почти никакого значения прочим противоречиям, которые, как утверждают иные критики, беспокоят современных романистов. Кое-кто, например, уверяет, будто отныне роман не может больше считаться произведением искусства, поскольку в нем пользуются в основном разговорным языком, а со времен Шатобриана между разговорным и литературным языком произошел разрыв. По их мнению, хорошим романистом становятся только тогда, когда перестают быть художником. Тут не место излагать соображения, позволяющие нам вслед за известным критиком и философом Рамоном Фернандесом считать, что «удавшийся роман является самым художественным из всех жанров и именно потому, что его эстетическое равновесие заложено в нем самом и менее всего зависит от каких-либо внешних жестких правил». Заметим, однако, что для современных романистов дело чести – уметь изображать действительность, оставаясь при этом тончайшими художниками. Именно художественная тонкость является общей чертой таких разных писателей, как Дюамель, Моран, Карко, Моруа, Монтерлан, Водуайе, Лакретель, Жироду. Они куда больше, чем старшее поколение, заботятся о форме и умеют сочетать художественную взыскательность с непременным отображением самой будничной реальности. И все потому, что эти писатели хотят пойти как можно дальше в живописании страстей, хотя преобладающей у них является забота о стиле. Посметь сказать все, но сказать целомудренно – вот к чему стремятся современные романисты. Они не отделяют смелости от стыдливости. Их стыдливость возрастает пропорционально их смелости, и в этом они хранят верность классической традиции. Сочетать предельную смелость с предельной стыдливостью – это вопрос стиля. Но разве забота о форме когда-нибудь мешала писателю творить живых людей? Блистательные прозаики братья Таро, решив стать романистами, дарят читателям очаровательную «Госпожу-служанку». Нет, нам представляется угрожающей одна-единственная дилемма, и касается она воздействия автора на своих героев. До какой степени он является их властелином? Он не может дергать их за веревочки, как марионеток, но не может их и предоставить самим себе, потому что в этом случае перед нами предстанут создания противоречивые, раздираемые сотнями невыявленных желаний и поэтому в конечном счете не развивающиеся.
Рискуя показаться кощунственным, все же осмелюсь сказать, что трудности во взаимоотношениях романиста со своими персонажами во многом похожи на те, что встают перед богословами любой христианской церкви, когда они пытаются разрешить вопрос о взаимоотношениях бога и человека. И тут и там возникает вопрос, как согласовать свободу творения и свободу творца. Необходимо, чтобы герои наших романов были свободны в том смысле, в каком богословы говорят о свободе человека, и автор не вмешивался деспотически в их судьбы (так же, как, по Мальбраншу, провидение не вмешивается в дела мира по желанию отдельных личностей *). Но, с другой стороны, необходимо, чтобы бог тоже был свободен, безгранично свободен, когда дело касается его творения; и необходимо, чтобы романист пользовался в своем произведении абсолютной художественной свободой. Если бы мы захотели развлечься, продолжив сравнение, то сказали бы, что в этом рассуждении о благодати, перенесенном в плоскость художественного творчества, французский романист, следующий с неукоснительной логикой, не позволяя себе никаких отступлений, задуманному плану и с непреклонной суровостью ведущий персонажей своих книг по пути, который он им предназначил, весьма схож с богом Янсения.
Загадка предопределения, перенесенная в литературный план, становится не такой жуткой, но не менее трудноразрешимой. Да будет мне позволено как литератору привести пример из собственного опыта: если кто-то из моих героев послушно движется в направлении, которое я ему назначил, если он проходит все предусмотренные мной этапы и совершает поступки, которых я от него жду, я ощущаю беспокойство – такая покорность моим замыслам доказывает, что у него нет собственной жизни, он не отделился от меня и в конечном счете остается схемой, абстракцией; своей работой я бываю удовлетворен только тогда, когда мое создание сопротивляется мне, не хочет совершать действий, которые я ему предписываю; видимо, всем творцам свойственно предпочитать послушному дитяти строптивого блудного сына. Когда же мой герой вынуждает меня изменить направление книги, подталкивает, влечет к далям, которых я до той поры не замечал, я как никогда спокоен за достоинства своего произведения. Это, пожалуй, поможет нам понять, что, упорядочивая в соответствии с французской традицией психологию действующих лиц наших драм в той мере, в какой каждому творцу свойственно руководить своими творениями, мы тем не менее могли бы проявлять доверие к существам, которые вышли из нас и в которых мы вдохнули жизнь, уважать их странности, противоречия, сумасбродства, одним словом, принимать во внимание все, что нам кажется в них непредвиденным, неожиданным, так как именно в этом и слышно биение живых сердец, которыми мы их наделили.
VIII
Лучшие из нас более или менее сознательно пытаются согласовать французскую упорядоченность с русской сложностью. Но для этого им приходится ничем не пренебрегать в человеке. Ничто человеческое им не чуждо: современный романист не сомневается, что его настоятельнейшее призвание – раскрыть тайну сердец, которая, по уверениям Маритена, скрыта даже от ангелов.
Может ли писатель сделать это без опасности, нет, не для себя и не для своих собратьев – нравственную сторону проблемы мы сейчас не затрагиваем, – а для своего искусства? Не повлечет ли за собой незамедлительную кару, и притом в самом произведении, та дерзость, с какой мы упорно стремимся докопаться в человеке до основы инстинктов, самых темных сил, самых смутных волнений, то насильное выволакивание на свет дня всего, что Маритен именует наиболее личным чувством и что наши предшественники, дрожа, оставляли господнему взору? Человек – это не только темные силы чувственности, иначе он не был бы человеком; люди создают себя. Пытаясь познать лишь то, что человеку свойственно от природы, не навязано извне, мы рискуем работать с рыхлым, непрочным материалом, рискуем, что предмет изучения ускользнет от атак разума, разлезется, расползется. И тем самым будет разрушена цельность человеческой личности. Ведь адресуемые нами внешнему, так сказать, миру мысли, мнения, убеждения в конечном счете являются составной частью нашего «я». Якобинца Монрона и традиционалиста Феррана в «Этапе» * Поля Бурже, каждый поступок и каждое слово которых продиктовано их философией, мы воспринимаем все-таки как людей из плоти и крови. В жизни философские и религиозные взгляды становятся поистине второй натурой, создают буквально нового человека, столь же реального, как и управляемое инстинктами животное, каким без этой второй натуры оставался бы человек. И мы понимаем, что Бурже имел право обуздать человеческие чувства логикой в той самой мере, в какой интеллектуальная и нравственная дисциплина вошла в жизнь людей, которых он изучал. Желать познавать в человеке одни только индивидуальные инстинкты, стремиться лишь к тому, чтобы объять максимально трезвым взглядом хаос человеческой натуры и регистрировать туманные, мимолетные движения души, – вот в чем таится грозная опасность для нового романа, и в особенности тяготеет она над произведением Марселя Пруста – да, с этой точки зрения оно при всем его великолепии может послужить нам примером и предостережением.
Пруст всего лишь раз, когда описывает смерть романиста Бергота, намекает на то, что верит в мир, полностью отличный от нашего, мир, зиждущийся на доброте, совести, жертвенности. Ну что ж, поскольку мы, романисты, намереваемся представить человека во всей полноте, ничего не оставляя в тени, призн а ем, что такая вера, такое стремление присущи ему ничуть не меньше, чем самые низменные страсти. Самопожертвование, тяга к чистоте и совершенству, жажда справедливости – все это достояние человека, и мы, писатели, обязаны его засвидетельствовать. Неужели мы должны считать единственно подлинными в нем лишь бурлящую чувственность и темную наследственность? Произведения христианина Достоевского неизмеримо выше произведений Пруста, потому что первый в преступниках и проститутках видел существа хоть и падшие, но искупающие свои грехи. Как-то я писал, что это ужасно, но бог отсутствует в творчестве Марселя Пруста. Мы отнюдь не принадлежим к тем, кто упрекает его за то, что он прошел через огонь и развалины Содома и Гоморры, однако сожалеем, что он вступил туда, не облекшись в алмазную броню. В этом, с литературной точки зрения, единственная слабость и ограниченность его произведения – там отсутствует проблема совести. Ни один из персонажей, населяющих его книги, не ведает душевной тревоги, угрызений, нравственных мук, никто не стремится к совершенству. Там нет практически никого, кто знал бы, что означает слово «чистота», а люди, чистые от природы, вроде матери или бабушки героя, остаются ими так же бессознательно, просто и легко, как оскверняют себя остальные. Нет, здесь перед нами не христианин, осуждающий пороки: ограниченность нравственной перспективы обедняет человечество, созданное Прустом, суживает его вселенную. Главной ошибкой нашего друга нам представляется даже не дерзкая, порою чуть ли не омерзительная смелость известной части его творения, а то, что мы определили бы как отсутствие благодати, и те, кто следует за Прустом, для кого он проложил дорогу в неведомые земли и с отчаянной отвагой поднял на поверхность материки, до него поглощенные мертвыми океанами, должны приобщить благодати этот новый мир.
IX
Флобер ничего так не домогался, как славы развратителя. Современные романисты, которых ежедневно обвиняют в растлении молодежи, защищаются настолько вяло, что кажется, будто они разделяют честолюбивые устремления великого предшественника и втайне согласны со своими обличителями. Я, например, с тех пор как на меня нападают благочестивые газеты, лишь чуть повожу ушами, как делают мулы на моей родине, когда летом их изводят мухи.
Но, очевидно, настало время вновь напомнить некоторые простейшие истины, и прежде всего следующую: нельзя работать над познанием человека, не служа делу католицизма. Среди множества его апологий, придуманных за девятнадцать столетий, имеется одна, высочайшим выражением которой остаются «Мысли» Паскаля; она не перестает привлекать души к Христу, потому что выявляет и провозглашает поразительное соответствие христианских догм человеческому сердцу.
Роман, каким мы его знаем сейчас, – это попытка продвинуться как можно дальше в постижении людских страстей. Мы уже не считаем, что неведомые земли со всех сторон примыкают к Стране Нежности со старинной карты, составленной нашими прадедами. Но чем дальше углубляемся мы в пустыню, тем мучительней отсутствие воды и страшней жажда.
Любой романист, будь он даже отчаянно смел, приближает нас к богу в той степени, в какой помогает нам лучше познать себя. Меня никогда не трогали рассказы, единственная цель которых возгласить какую-нибудь христианскую истину. Ни одному писателю не дано ввести бога в свое повествование снаружи, если можно так выразиться. Бесконечное Существо не соизмеримо с нами; единственный, кто скроен по нашей мерке, – это человек, и лишь в человеке, как сказано в Писании, пребывает Царствие Божие.
Повествование, стремящееся быть назидательным, даже если оно написано прекрасным романистом, оставляет впечатление надуманности, сконструированности, и божий перст в нем выглядит бутафорией. Но зато всякий, кто последует за Шери у Колетт и дойдет – через какую грязь! – до продавленного дивана, где тот нашел смерть, не сможет не постичь до самой глубины значения слов «ничтожность человека без бога». Невыразимый стон рвется из самых циничных, самых скорбных исповедей сынов нашего века. В последних страницах Пруста мне видится только одно: разверстая пустота, беспредельное зияние.
Кто же такой христианин? Прежде всего это человек, существующий как личность и сознающий себя таковой. Восток в течение многих веков противится Христу только потому, что житель Востока отвергает свое личное бытие, стремится к растворению своей сущности и жаждет слияния с универсальным. Он не способен постичь, что и за него была пролита капля крови Христовой, ибо не знает, что он человек.
Вот почему литература, внешне резко враждебная христианству, остается его служанкой; служат Христу даже те, кто в отличие от писателей, на которых обрушивается Ницше, упорно отказывается «пасть ниц у подножия креста», верней, Христос пользуется ими как слугами. Франция, о которой грезят Жан Гиро и аббат Бетлеем *, где не будет ни Рабле, ни Монтеня, ни Мольера, ни Дидро, ни Вольтера (о прочих справляться в «Индексе» *), оказалась бы Францией и без Жана Гиро и аббата Бетлеема, потому что она не была бы христианской. Отдавая человеку первенство в мире, гуманисты, сами того не желая, приближали царство Христово. Они предназначили первое место для существа, у которого на всем – на величавом челе, на теле, на мыслях, на желаниях, на любви – печать всемогущего бога. Самый порочный из людей подобен плату святой Вероники *, и задача художника – сделать видимым для всех изможденный лик Христа, запечатленный на нем. Нет, мы вовсе не растлители, не порнографы. Мы согласны, мы хотим, чтобы вокруг наших книг были воздвигнуты барьеры, которые не дадут приблизиться к ним юным и слабым, так как знаем по опыту, что одно и то же произведение может помочь исцелить многие души, но многие же и развратить. Это истина даже применительно к Писанию. Но не является ли первейшей ошибкой большинства воспитателей вера в то, что со страстями будет покончено, если о них умалчивать? Не сомневайтесь, воспитанный в стенах монастыря, лишенный книг и газет подросток все равно познает страсти, потому что они – в нем. Увы, внутри человека не только Царствие Божие.
Романист может и должен отображать все, говорит в каком-то месте Жак Маритен, но при условии, что он не сближает себя со своей темой и не становится с ней на один уровень. Тут-то и коренится проблема. Нельзя с высоты писать маленьких, слабеньких человечков. Чтобы жить, персонажи должны быть сильней своего творца. Не он их ведет, а они его. Если нет сближения, соучастия, начнутся безапелляционные приговоры, вмешательство, и роман не получится. Конечно, хорошо быть святым, но... святые не пишут романов. Святость – это молчание. Бесполезно подвергать роман экзорцизму *, изгонять из него дьявола (если только не схватишь его за рога, как это сделал Бернанос).
Но, безусловно, горе тому, кто соблазняет. Католический писатель идет по узкому гребню между пропастями: не соблазнить, но и не солгать; не распалять плотские вожделения, но и ни в крем случае не фальсифицировать жизнь. Что опасней: пробудить у молодых людей соблазнительные грезы или ничтожной ложью вызвать у них отвращение к Христу и его церкви? Ведь существует еще и ересь глупости; один только бог может вести счет душам, навеки отринутым за... Нет, лучше уж приведем пример милосердия. Попытаемся понять наших обвинителей. Они продолжают определенную традицию, существующую в церкви, и мы, даже не ссылаясь на ее отцов, припомним, как Николь *, к великой ярости Жана Расина, писал, что «достоинства (романиста и драматурга), не слишком почтенные в мнении порядочных людей, становятся ужасающими, если рассматривать их в соответствии с принципами христианской религии и заповедями Евангелия. Сочинитель романов и драматический поэт прилюдно развращает, но не тела, а души верующих и посему должен быть сочтен виновным в духовном убиении несметного числа людей».
Стоит ли соглашаться с этим янсенистом и с г-ном Жаном Гиро, по мнению которых Анри Бордо не обретет спасения? Что касается нас, мы решили высказать свое кредо: мы убеждены, что не совершим ошибки, если, изучая человека, останемся верны правде. Мы посвящаем себя изучению его внутреннего мира. Мы не скроем ничего из того, что увидим. И мы присоединяемся к великим словам русского писателя, которые Жан Бальд *, заключая прекрасный доклад о романе, с полным основанием напомнила писателям-католикам: «Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к тому, кто есть источник жизни» 1.
1Н. Гоголь. «Авторская исповедь». – Полн. собр. соч., т. VIII. М., Л:, изд. АН СССР, 1952, с. 445.








