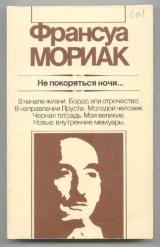
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
Они любили сыр, а один из них, по слухам, подливал себе вино в кофе. И почти все они были в конечном счете честными, добросовестными монахами, которым приходилось немало потрудиться, чтобы дать отпор нашей безжалостной своре.
На самом верху иерархической лестницы я помещал монахов-священников; и, действительно, они запомнились мне как святые, достойные глубочайшего уважения люди, а многие из них – и как замечательные умы. Что стало с добродушным аббатом Буржуа, который готовил меня к первому причастию? Дети первого причастия всегда преклонялись перед своим наставником; и я приводил в негодование своих братьев, утверждая, будто аббат Буржуа на две головы выше аббата Галле, который был их духовником. Ни тот, ни другой не знали себе равных в этой святой день, патетическими заклинаниями доводя до слез и причастников, и братию.
Директор Гран-Лебрена был превосходным священником, но человеком язвительным и совершенно неспособным скрыть от крупных буржуа, с которыми имел дело, что подмечает все их смешные стороны. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь с более откровенным ехидством смеялся людям прямо в лицо. Поэтому в гостиных Бордо его яростно изобличали в «отсутствии элементарной воспитанности».
Однако выше всех в Гран-Лебрене котировался, если судить по результатам экзаменов, аббат Пекиньо, преподававший риторику. Его влияние на нас было огромно. Самый злостный нарушитель дисциплины и пикнуть не смел в его присутствии. Лекции его казались нам гениальными. Не знаю, как бы я отнесся к нему сейчас, однако нет сомнения, что аббат Пекиньо пробудил мой ум, что многим из нас он привил любовь к серьезному чтению, что благодаря ему я воспринимал как живых людей предусмотренных программой авторов и встречи с ними не проходили для меня бесследно. Ему я обязан тем, что в шестнадцать лет оценил Монтеня, получил некоторое представление о том, сколь многим мы обязаны Декарту, и особенно нежно возлюбил Паскаля. На уроках риторики я пользовался экземпляром сочинения Паскаля в издании Брюнсвика *, с которым я не расстаюсь и по сей день.
У нас в коллеже обязательным по изящной словесности считался учебник некоего аббата Бланлея; однако стоило кому-нибудь из нас привести из него хотя бы строчку, как наш учитель тут же сажал отвечавшего на место с оценкой «ноль». Я никогда не забуду его презрительной мины в тот день, когда, отвечая на вопрос о Монтене, я продекламировал название одного из разделов учебника Бланлея:
– «Скептицизм в теории, эпикуреизм на практике».
– Ноль! Садитесь!
– Но господин аббат, это из книги...
– Вот именно. Потому я и ставлю вам ноль!
Этот удивительный человек представал таким уже с первого года обучения, который он использовал на то, чтобы заткнуть дыры, заполнить лакуны, как он выражался. Он спрашивал, например: «Какие события вы относите к XII веку?» Наше невежество, казалось, ошеломляло его, однако он очень быстро восстанавливал в нашем сознании основные исторические даты.
БОРДО, ИЛИ ОТРОЧЕСТВО
I
Тот город, где мы родились, где прошло наше детство и отрочество, – единственное место, судить о котором следовало бы нам запретить. Он слился с нами, он – это мы; мы носим его в себе. История Бордо – это история моего тела и моей души.
Иностранец ждет, что я опишу Большой театр Луи, Биржу Габриеля; но мое раннее детство ютилось в темной улочке Мирай, что ведет к Большой колокольне, и я спешу вслед его убогому призраку сквозь туман этих мертвых кварталов. Я и поныне блуждаю там среди развалин, о которых не знает никто, кроме меня.
Дома и улицы Бордо – это события моей жизни. Когда поезд замедляет ход на мосту через Гаронну и моему взгляду открывается в сумерках все огромное, вытянутое тело города, прильнувшее к изгибу реки, я ищу отмеченную колокольней и церковью страну моего счастья, горя, греха и мечты. Бордо – это мои детство и отрочество, которые отделились от меня и окаменели. Вот приют моей первоначальной невинности, вот места, где я был чист: над крышами, одна из которых приютила меня в начале жизни, высится огромный неф собора. Пока мне не пошел двадцатый год, судьба моя была накрепко привязана к этому городу с его окрестностями – я ни разу не покидал его пределов. Нам казалось, что Гиень * отделена от остального мира китайской стеной. Мы с братьями путешествовали не больше, чем наши прадеды во времена дилижансов; железная дорога кончалась для нас на границе владений, которые отец еще в молодости без труда объезжал в бричке.
Но стоит ли сетовать? Юному Рембо для постижения мира и человеческой комедии хватало чердака; мне, чтобы узнать все, что должно было мне открыться, хватило этого унылого и прекрасного города, его илистой реки, венчающих его виноградников, сосновых лесов, песков, сжимающих его жгучим кольцом. Отныне, куда бы я ни забирался, какие бы океаны и пустыни ни пересекал, мед для меня навсегда сохранит привкус нагретого августовского вереска, как в ту пору, когда зов набата и запах горящей смолы отрывали меня от заданий, привезенных с собой на каникулы. И какое бы горе ни подстерегало меня в будущем, я знаю, что пережил его заранее в убийственном свете тех дней, когда превращался в мужчину – там, в сорока километрах от Бордо, на насыпи у придорожного распятия. Многие из тех, кто восхищался нашей восходящей звездой или ненавидел ее, превозносили прекрасное начало наших судеб, но мы-то в самой глубине души знали, что все уже кончилось – все уже было предвосхищено нашим бордоским детством.
Китайская стена... Но скромный край, который она отделяла, представляется мне и сейчас целым миром, включавшим в себя разные страны, и у каждой был свой особый климат, свое небо, свои цветы, животные, воздух. Аквитания * казалась мне обширней, чем вся наша Земля какому-нибудь деятелю, что утром позавтракал в Париже, а вечером приземлился на московском аэродроме. Машина самым жалким образом суживает для него планету, а мое сердце придавало тесному клочку земли необъятность Млечного пути.
Даже ограничившись самим городом, я не взялся бы перечислить все его лики. Квартал Большой колокольни, улочка Мирай, куда я был пяти лет определен к монахиням, а потом в школу Девы Марии, воскрешают передо мной фигурку хилого ребенка, которого не любили учителя (ребенка, так же как мужчину, любят за красоту). Ужас перед невызубренными уроками, недописанными заданиями, тоскливый страх – а вдруг спросят, вызовут к доске, с размаху попадут в лицо мячом во время игры; боль в помороженных ногах, обутых в грубые, хлюпающие водой башмаки, пытка, которой не вынести взрослому, и наконец в половине седьмого – избавление. Поныне, когда часы бьют половину седьмого, я радуюсь наступлению вечера – он когда-то развязывал мои пелена, убирал камень с моей могилы: и вот я под дождем или при свете звезд возвращаюсь по улице Мирай, по бульвару Виктора Гюго (родители еще называли его Рвы), по улице Дюфур-Дюбержье; немного не доходя башни Пе-Берлан и собора, я тянулся к колокольчику на дверях дома, принадлежавшего моей бабке, – сюда, овдовев, перебралась мать. Запах газа и линолеума на лестнице нравился мне больше всех ароматов; каждая ступенька приближала меня к счастью, к любви, к маме, к недочитанной книжке, к долгому ужину под лампой, к общей молитве и ко сну.
Внутри китайской стены, отделявшей для меня Гиень от остальной вселенной, существовал обособленный мир католицизма – вне этого мира я задохнулся бы. Кто из детей больше, чем мы, ломал себе голову над вопросами, связанными с состоянием благодати? Причем мы беспокоились не только о себе, но и о других, взрослых людях: одним из самых сильных детских впечатлений я обязан тому, что у бордосцев было принято предаваться безумствам маскарада не в скоромные дни, а в среду на первой неделе великого поста (старинный обычай предписывал в первый день поста ехать в Кодеран, предместье, славившееся устрицами, и там есть постное). В этот день покаяния каждая маска казалась мне воплощением человека в состоянии греха. Когда я смотрел из окна или толкался в толпе на Интендантском бульваре, даже повозки с ряжеными не так поражали мое воображение, как вид этих людей, обреченных на вечную гибель и своими картонными харями бросавших вызов небу. Мужчины, переодетые женщинами, задирали свои балахоны и безобразно корячились на четвереньках между трамвайными рельсами. В битком набитых колясках в Кодеран мчались домино, на ходу обстреливая нас апельсинами. Кодеран! Кодеран! Маскарадное предместье! Но между прочим, там, среди высоких пыльных деревьев улицы Гран-Лебрен, не спеша достраивался мой благочестивый коллеж. Около шести утра на пасмурной улице перед домом я ждал омнибуса, он подбирал меня и вез к коллежу, который, сияя всеми огнями, выступал из утренней мглы, словно огромный неподвижный корабль. Каждый день и даже по воскресеньям... Припомни эти воскресенья: ранняя литургия, поздняя литургия, катехизис, собрание духовной конгрегации; потом, после завтрака, обедня и вынос святых даров. Так проходило время до половины четвертого; в дни корриды мы боялись, как бы не пропустить первого быка. Погода начинала портиться; а вдруг до начала представления разразится гроза? Во время службы сквозь витражи не разберешь, собирается гроза или нет; мы видели только, что солнце зашло за тучу.
Но состояние благодати и греха занимало нас не только в среду на первой неделе поста. Во время октябрьской и мартовской ярмарки нас манили подозрительные бараки на площади Кенконс; помню вывеску, на которой было написано одно лишь женское имя. Но даже если мы не бродили вокруг подобных вертепов, оставались воспоминания о театре «Гет е » – нам пришлось поспешно удирать с представления, когда показывали живые картины. Зал-манеж тоже был местом, соблазны которого нам расписывали наши товарищи из тех, кого называли «похабниками»; в цирке Пл е жа была танцовщица, к которой воспылали страстью многие из нас: учителям попадались ее фотографии в латинских словарях.
Эту самую площадь Кенконс чуть не круглый год захлестывали то ярмарки, то выставки, то конные состязания. Бордосцы могли всем этим наслаждаться почти исключительно летом. Вспомни июньские вечера, когда, вырвавшись из душных домов, они тянулись неторопливой вереницей по Интендантскому бульвару и по аллеям Турни. Как в новелле Эдгара По *, раскаленные стены, казалось, наступали на людей, и те падали на железные стульчики в аллеях, поднимая потные лица в напрасной надежде на свежее дуновение. Но холмы на севере не пропускали даже ветерка, а с юга, со стороны ланд, насыщенных цветочной пыльцой, на задыхающийся город наваливалась смертельная духота. Нас влекли густые каштаны за решеткой Общественного сада, хотя при виде их неподвижной зелени, игравшей в свете электрических шаров множеством оттенков, особенно остро чувствовалось отсутствие малейшего ветерка; запах лип вызывал жажду. На валу перед особняками XVIII века, где мраморный подросток ласкает химеру, и по аллее, что тянется вдоль улицы Авьо вдоль прекрасных домов эпохи Людовика XVI, мы ходили вслед за толпами жаждущих: мужчины утирались, держа в руках свои канотье; на острове духовой оркестр 57-го полка будил лебедей. Люди не понимали, вправду ли их лиц касается дуновение ветра или это только им кажется. Кроме площади Кенконс, спасаться некуда. Огромная, она была почти безлюдна. Гуляющие садились посредине, лицом к ростральным колоннам. И вот сквозь эти ворота, распахнутые на реку, прилетал наконец ветерок: он являлся издалека, поднимался вместе с приливом в океанских далях. Лунными вечерами мы следили, как на фоне пригорода, заводов и холмов скользит неторопливый парусник. Возвращались на улицы, пропахшие разогретой гиппуровой кислотой. Шоколад глясе у Прево, мороженое в кафе «Комеди» – таковы были наши радости, не искупавшие пытки бесконечностью, которая знаменовала близость возмужания. В крошечном бассейне вокруг колонны Жирондистов сидят на мели толстощекие Республики. Театр Луи выглядит уныло: сезон окончен, и ни г-жа Брежан-Гравьер, ни г-жа Фьеренс, ни тенор Скарамбер больше не поют. Но господа из жокей-клуба никак не успокоятся, вспоминая юную дебютантку Режину Баде, блеснувшую в «Цыганке».
В это самое время у меня вошло в привычку сбегать по ступеням, которые соединяли площадь Кенконс с рекой, и под впечатлением от нескольких стихотворений мне вздумалось полюбить корабли. В детстве я сторонился грязных причалов, грубых грузчиков и этого сине-зеленого божества – реки, самый вид которой приводил меня в оцепенение. Мое детство протекало по тем из городских улиц, что были дальше всего от реки.
Дальше всего от реки... Это не бог весть как далеко: Бордо неширок; весь город – это огромный растянутый фасад, обращенный к реке, словно все дома желают любоваться противоположным берегом: находясь в самом центре, вы непременно увидите в конце какой-нибудь из улиц снасти, паруса, мачты; по ночам пронзительные сирены внезапно будят детей в самых далеких от порта кварталах, привлекая их сны к черной ледяной воде.
Те мои предки, что родились в Бордо, управляли сахарным заводом на улице Сент-Круа, а также торговали тканями и индийскими шалями на улице Сен-Джеймс, хотя кто-то из них в прошлом был и моряком. Другие мои родственники занимались земледелием на своих участках недалеко от Лангона, в краях, где Гаронна кажется еще скромной речкой и только в часы больших приливов напоминает о морских просторах; третьи пробавлялись дичью да соленьями у себя на фермах в глубине ланд. По сравнению с бордосцами мы были деревенщиной и не имели ничего общего с племенем негоциантов и судовладельцев, чьи великолепные особняки и знаменитые винные склады составляют гордость Паве-де-Шартрон; сыновья этого кичливого племени то одерживают победы на кортах Примроз-клуба, то оспаривают друг у друга кубок на аркашонских регатах. В семьях этих бордоских англосаксов *, несмотря на все смешанные браки, сохраняется прекрасный северный тип, очень отличающийся от типа «чистого» бордосца – коренастого увальня, черноволосого и смуглого, с густой бородой, которая не поддается бритве и скрывает чуть не все лицо до самых глаз, похожих на чарующие глаза антилопы.
Быть может, именно деревенскими корнями объясняется то чувство неловкости, которым я страдал в Бордо и от которого не отделался в Париже. Не будем винить провинцию с ее скукой: чем, в сущности, Бордо отличается от Парижа? Все то же самое, разве что в другой степени. Оба города – столицы; и на Гаронне, и на Сене мы видим огромное скопление людей в пределах небольшого пространства. Главная радость, привязывающая нас к городу, многообразие человеческих отношений, доступна бордосцам, вероятно, в большей мере, чем парижанам. Но помимо мирских удовольствий, в Бордо немало других развлечений, и, хотя я в детстве чуждался их, мой родной город в этом не виноват: первым в свое время признавший короля *, он первым принял и культ нового божества – овального мяча. В день, когда Бордо потерял титул чемпиона по регби, я видел, как на Интендантском бульваре плакали молодые люди. Во время сезона теннисных матчей в Примроз-клубе ни в одной буржуазной семье не дерзали говорить о чем-нибудь постороннем. Что до менее невинных удовольствий, тут Бордо уступит Парижу лишь по части ночной жизни; в мое время ни один бар не работал всю ночь; в нашем городе не жаловали полуночников. Едва закрывались театры и кино, на улицах не оставалось никого, кроме кошек да бандитов: Бордо не то, что Марсель или Тулон, где подозрительные кварталы примыкают к порту. Мериадек, словно напоказ, расположился в самом центре: от Интендантского бульвара рукой подать до Уэльской улицы, являющей нашим глазам свою причудливую фауну: пожилых девочек, небьющихся кукол, грубо размалеванных двойняшек, розовых чудищ, которые, кажется, наподобие моллюсков выделили из собственного организма материал для своих каменных раковин, таких крошечных, что в них едва умещается постель с красной периной.
II
В ранней юности, несмотря на все удовольствия, которые предлагал мне Бордо, душа моя ему не принадлежала. Весь школьный год мои мысли витали в деревне, в краю каникулярных радостей. Но сегодня, когда я брожу по улицам своего города, где на каждом шагу меня подстерегают и захлестывают воскресающие впечатления, мне становится ясно, в какой гуще поэзии я дышал и развивался, почти того не сознавая. Сколько поэтов и романистов открыл я для себя у дверей книготорговца Фере – в те времена он держал лавку на Интендантском бульваре – и особенно у Молл а , книготорговца из Бордоских галерей; как предчувствовал, переживал, смаковал менявшиеся времена года, ловя новое в оттенках солнечного света и в уличных запахах! Мне кажется, что тут каждый камень помнит тайную драму мужчины, пробуждавшегося в теле ребенка, помнит страсти, из которых, пожалуй, настойчивее всего меня обуревали любовь к богу и безумная жажда чистоты, внутреннего совершенства, гордость и стыд от ощущения, что я не такой, как все, от собственной непостижимости, безнадежная робость подростка, который чувствует свою почти безграничную ценность, но в то же время понимает, что среди взрослых такие ценности не котируются. Здесь, в аллеях Общественного сада, на тротуарах улицы Сент-Катрин, без друзей, без любви, без чьих бы то ни было указаний или советов, я неуклюже выстроил сам себя и внес в свой духовный облик столько инородных элементов, от которых мне уже не избавиться; вот так и ложатся на наши души ненужные складки, остающиеся при нас до самого конца. Между тем идеалом чистоты, единства тела и духа, который с детства навязывается юному существу, и законом крови, который открывает юноша в собственном сердце, в собственной плоти, разверзается пропасть, и бедная душа, словно потерянная для бога и мира, равно далекая от святости и от греха, витает над пропастью, думая, что творец отступился от нее.
В Бордо есть для меня нечто мрачное, потому что здесь я прошел через драму, обычную для провинциального подростка: она заключалась в том, что я жил чрезмерно напряженной внутренней жизнью, которая не находила ни выхода, ни возможностей для развития и никого не тревожила. Я был школьником, которого наказывали за то, что он уклоняется от участия в общих играх и вопреки правилам предпочитает пошушукаться с товарищем. То же и в семье: мы с братом принадлежали к общности, называвшейся «мальчики», равно как другая общность, например, называлась «утки».
– Кто разбил вазу? Мальчики... Господин аббат избавил нас от мальчиков – увел их к Тартеюму.
Все детство и юность я страстно и безнадежно мечтал о своей комнате, где жил бы один, о четырех стенах, в которых я почувствовал бы себя личностью, обрел бы самого себя. Брат, с которым мы делили комнату, страдал, наверно, не меньше меня: в конце концов мы сделались почти невидимы друг для друга – до того четко нам удалось разграничить наши владения. Помню, как пронзали меня насквозь слова, в которых не было ничего обидного:
– Правила одни для всех... Вечно ты выделяешься... Разве ты не такой, как все? Из того же теста сделан...
Мне казалось, что во мне достойно интереса именно то, чем я отличаюсь от других. В деревне я наконец обретал самого себя: во-первых, избавлялся от коллежа, а во-вторых, хоть и принадлежал по-прежнему к безликой общности «мальчиков», но здесь ускользать из нее было легче, чем в городе. Я шел в ланды, садился на поваленную сосну, но и оглохнув от солнца и Цикад, буквально опьяненный собственным одиночеством, я все же не в силах был вынести эту встречу лицом к лицу с самим собой, о которой столько мечтал; едва обретя себя, я снова терялся, растворялся во всеобщей жизни.
Когда я сегодня возвращаюсь в те же деревни, во мне пробуждаются совсем иные чувства, чем в Бордо: там я ощущаю себя узником, вновь увидевшим тюрьму, в которой задыхался годами. Я не зря написал, что мы не имеем права судить о городе, где родились и прожили детские годы. Самые банальные, безобидные черточки в облике Бордо представляются мне зловещими, трагическими, хотя никто, кроме меня, этого не видит: взять, к примеру, длинные улицы, тянущиеся до бесконечности, до самого предместья, скажем улицу Круа-Бланш или дю Тондю, квартал Сен-Женес с его одноэтажными домиками, которые у бордосцев называются «будками», – дорогу, по которой я столько раз брел дождливым утром в коллеж; а еще они напоминают мне о возвращении с воскресных прогулок под надзором одного из тех добрых марианитов, что носили длинные черные сюртуки и ошеломляющие цилиндры, каких никто не видел со времен министерства Комба и не увидит уже никогда.
Я не мог бы вновь поселиться в этом городе; что ни улица – то помеха на пути: память о моих детских печалях или радостях, которые еще хуже огорчений; вот он – скорбный музей прожитых лет моей жизни! Островок Общественного сада кажется мне и зловещим, и в то же время смехотворным, как те пейзажи, что создавали из волос покойников парикмахеры эпохи романтизма.
Но с деревенским привольем Жиронды я никогда не расставался, и корни мои по-прежнему там. Мужчина, каким я стал, жил в ребенке, сидевшем у того самого поворота дороги, где я остановился сию минуту, чтобы записать эти строки; как сегодня, я слушал ветер в соснах, но не чувствовал его дыхания на лице. Ветер, дующий во время равноденствия, разбивается о пахучий теплый лес, и его дуновение угадывается лишь по тому, как скользят облака да покачиваются верхушки деревьев, гудя в высоте, как гудит морской прибой.
Морской прибой? Да, таково привычное сравнение. Но ветер в соснах не стонет так яростно, как Атлантика, не испускает воплей, подобно слепому и глухому чудовищу: голос его – это жалоба эоловой арфы, человеческий ропот; он входит в меня, застывшего среди бесчисленных деревьев, и все мое существо участвует в этом бесконечном стоне, словно я лишь одна из тысяч сосен под порывами ветра. Быть может, море приходит нам на память не потому, что ветер шумит, а из-за этого покачивания верхушек – гигантских, мачт огромного флота, засосанного песками.
В тех местах, где я жил и куда по сию пору возвращаюсь, запечатлены две главные ипостаси, присущие деревням Жиронды: ланды и виноградники; поэтому я осмеливаюсь описывать здесь и лес, и виноградные сады, хотя они рознятся между собой не меньше, чем Италия и Норвегия; как-никак и туда, и туда уходят корни моего крестьянского рода, никогда не покидавшего родных мест.
В детстве мы знали только Ланды: коллективное существо, именуемое «мальчики», частицей которого был и я, решило, что счастливые каникулы немыслимы вне края сосен, песка и цикад. Мы почти не знали тех, участков, где росли виноградники, которые я так полюбил потом. Мама уверяла нас, что мы бы и сами ни за какие блага не согласились поменяться с маленькими горемыками, воображающими, будто им ужасно весело живется в Руане, Аркашоне или Баньере. Да мы и так были уверены в этом. Вот и вошли в меня навсегда эти буйные летние дни, лес, полный цикадной трескотни и зноя, небо, которое временами заволакивала свинцовая дымная пелена пожаров, и тогда надрывный голос набата вырывал городишки из дремоты. Как бы ни обжигал дневной жар, ручеек, называвшийся Ла-Юр, к вечеру приносил из края зыбких туманов и болотистых лугов опасную прохладу, которую мы впивали, застыв на порогах домов и подставив лица ветерку. Это дыхание мяты, орошенных водой трав примешивалось ко всему, что выдыхали в темноту сами оставленные солнцем ланды, эти внезапно остывавшие раскаленные печи: аромат сожженного вереска, теплого песка, смолы – изумительный запах края, покрытого пеплом, населенного деревьями с прободенными стволами; глядя на них, я представлял себе сердца, опаленные благодатью и избравшие уделом страдание. Вот почему осень в ландах такое чудо: в других краях это время года «заставляет листву кровоточить, а травы превращает в тусклое золото» (как я писал в сочинениях, которые удостаивались чести быть прочитанными перед классом), но нигде, кроме наших изнуренных ланд, оно не приносит с собой такого освобождения: дикие голуби в мутной лазури октябрьского неба говорят нам, что огненному потопу настал конец.
Тогда, радуясь, несмотря на близкое возвращение в коллеж, я усаживался на срубленный сосновый ствол и мечтал о Бордо, в который приеду через несколько дней; мое сердце переполнялось ожиданием и тянулось к городу. Каждый раз в начале учебного года я верил, что наконец получу то, чего Бордо никогда мне не давал. Ни в какую другую пору город не бывал прекраснее, чем во время равноденствия, когда, сидя в зарослях вереска, я ждал неведомого блаженства, которым он меня осыплет: во мне жили его старинные кварталы, с их воздухом, неповторимыми запахами, и те осенние утра, когда на угол площади Пе-Берлан и улицы Дюфур-Дюбержье выходила старушка, выносившая лоток с лепешками из кукурузной муки, покрытыми белой тряпицей. Другие торговали горячими каштанами «с пылу с жару», от которых в воздухе распространялся анисовый запах. Несравненные рождественские и новогодние радости искрились в витринах на Интендантском бульваре и влекли в узкую шумную улочку Сент-Катрин толпы счастливых ребятишек; широкобедрые молодые испанки, за которыми увивались тщедушные ухажеры – у каждого гвоздика за ухом, – выкрикивали: «Le Royan d'Arcachon! La Belle Gravette!» (Так называются у бордосцев свежие и горьковатые устрицы из Гавани.) Мальчик представлял себе чудесные встречи на широких, чистых, блестящих после дождя тротуарах Турни, на которых играют отблески магазинных огней: товарищи улыбнутся ему и потащат в кафе «Бордо», в «Красного льва»; ему тоже перепадет что-нибудь от их скромной субботней оргии; он станет одним из тех, с кем охотно танцуют девушки, угадывающие в любом словце партнера тайный непристойный смысл. Он станет таким же, как все его ровесники на этой тесной арене, очерченной площадью Кенконс, Общественным садом и Интендантским бульваром.
И вот октябрьским вечером он возвращается, снедаемый вожделением, которое предстоит утолить городу. Увы! Бордо – это порт, навевающий нам мечту о море, но моря отсюда не видно и не слышно; большие суда, опасаясь увязнуть в иле, никогда не поднимаются вверх по реке. А мальчик увязал – и в каком одиночестве! Правда, в часы, когда кончается работа в конторах, на Интендантском бульваре он почти не встречал незнакомых. Однако все, что он знал об этих людях, об их семьях, состояниях, профессиях, еще больше отдаляло их от него. Каждый здесь помнил о своей этикетке, о своем месте, о своей витрине. Обмануться невозможно: ни от кого ничего не ждешь.
Оставалось бегство. Живи мальчик в другом месте, полюбил бы он стихи, религию? Быть может, они были бы ему нужны куда меньше. Потом, в Париже, церкви никогда уже не манили его своим полумраком так, как в Бордо; никогда уже не испытывал он ни такой непобедимой тяги к чтению, ни такой необходимости уйти от действительности в мир, созданный романистом, ни почти физической потребности в баюкающих ритмах.
Возвращаясь на отделение словесности, он редко упускал возможность пройтись по собору. В его тогдашней жизни кафедральный собор святого Андрея занимал такое место, что он по сию пору удивляется, почему специалисты не числят этот храм среди самых красивых во Франции. Его не смущало смешение стилей. Собор был укромным местом внутри города, туда не проникал городской воздух; мальчик мог быть заранее уверен, что в этой стране, живущей по своим законам, ему не встретятся такие-то и такие-то люди; в церковном полумраке можно вести себя самым необычным образом, не опасаясь прослыть сумасшедшим: складывать руки, становиться на колени, прятать лицо или поднимать его к сводам. Мальчик усаживался в просторном единственном нефе: боковых приделов не было, а в конце нефа вздымались хоры, такие узкие, тонкие, чистые, что в их изяществе ему чудилось нечто женственное и вспоминалась Дева Мария. Быть может, в эти минуты мальчик проникался счастьем насекомого, которое зарылось в землю и боится лишь одного – как бы его не обнаружили. Попробуйте ступить по улицам Бордо два шага и не встретить никого из тех, с кем уже здоровались нынче утром! А то еще дядюшка окликнет вас с трамвайной площадки, сложив руки рупором: «Ты куда собрался?» (Не говорю уж обо всех, кто вам скажет потом: «Я прошел мимо тебя в Общественном саду, а ты меня не заметил... Ты размахивал руками, сам с собой разговаривал...») В соборе говорить с самим собой было естественно: молитва – это прежде всего право говорить с самим собой.
Была и другая церковь, которая, правда, не утоляла в мальчике жажду одиночества, зато там он испытывал радость быть заодно с другими: это церковь Богоматери, постройка времен Людовика XIV и Людовика XV, приходская церковь лучших бордоских семейств, соразмерное, исполненное гармонии святилище, где даже зимой тепло и куда те, кто сумел оградить себя от тягот в мирской жизни, приходят убедиться в том, что их ждет вечное блаженство. Какие богослужения бывали в церкви Богоматери в канун рождества! До одиннадцати стулья заняты слугами, берегущими их для хозяев. Собираются все видные семьи: здесь и каракулевые спины дам, и неправдоподобно широкие в меховых пальто плечи мужчин, и выводки ребятишек – уменьшенных родительских копий (у той девчушки ноги будут коротковаты, как у ее мамаши). Вот оно, богоявление буржуазии: пастухи вернулись к своим агнцам, а где же волхвы? * Их больше нет. У господа, возлежащего в яслях; не осталось никого, кроме праведного среднего сословия, которое старается не пренебрегать ничьей помощью, не отвергать ничьих обетов, уклоняться от всех возможных опасностей, в том числе и самых что ни на есть метафизических: у этого благоразумного, осмотрительного, послушного племени все страховые полисы оплачены ныне и во веки веков. Эти люди не были призваны в числе первых, зато остались самыми верными – и, что ни говори, любимыми! Вспомнить только, как много роскоши и вместе с тем благоговения было в этих службах, какое царило пышное, но искреннее благочестие, когда певчие выводили: «Дом его – ясли, и ложе его – солома...» А совсем рядом с алтарем и праздничным таинством – благоухание трюфелей, которыми пропахла вся паства.
III
В деревне мальчик мечтал о городе, а потом снова мысленно уносился в страну летних каникул. Кроме ланд, его семья владела еще и виноградниками, но в детстве мальчик там совсем не бывал – у бордоской детворы считается, что на виноградниках скучно. Когда он стал подростком, у него вошло в привычку ездить туда на время жары. Что верно, то верно – в местности, где есть виноградники, деревьев становится все меньше и меньше, а колышки и проволока мешают и пешим, и верховым прогулкам. Но мальчику хватало насыпи, к которой сходились три буковые аллеи, да равнины, по которой течет Гаронна, – по этой равнине он блуждал взглядом, не трогаясь с места. Там он мог спросить совета у собственной совести, вглядеться в себя, выдержать собственный взгляд и разобраться наконец в себе. Там, на насыпи, он вырвался из своей куколки, чтобы стать отныне тем, чем он станет: бабочкой, крылатой гусеницей. Именно там ему на помощь впервые пришла природа, и он полюбил ее – без позы, без литературщины, не для того, чтобы потешить себя новым ощущением, а просто припал к ней, чтобы в ней раствориться. Сколько смуты в юном человеке! Как мало он заботится о единстве! Молодой совестливый католик приносит жертвы Кибеле * и не знает, что предает Бога: это Морис де Герен * в Ла-Шене.








