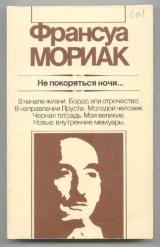
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц)
ДНЕВНИК I
К ЧИТАТЕЛЮ
В заглавии моей книги не следует искать игру слов 1 . Конечно, это сборник статей, но я рассматриваю писания журналиста как своего рода дневник, как переложение для широкой публики мыслей и чувств, изо дня в день пробуждаемых в нас «последними известиями».
С подобной точки зрения болезнь или случайно прочтенная книга приобретают для нас иногда почти такое же значение, как, скажем, государственный переворот: мерилом важности событий является их отзвук в нашей внутренней жизни.
1Франц. journal означает и «газета» и «дневник».
Новый год
Ребенком я думал, что первый день года непохож на остальные: на улице пахло как-то по-особенному, туман прорезали таинственные лучи. Нищие на перекрестках продавали бумажки с предсказаниями счастья и удачи. Семьи шествовали в полном составе, сметая с пути пешехода-одиночку – они безжалостно занимали всю ширину тротуара. Дети, опьянев от новых игрушек, проявляли полную бесчувственность к поцелуям, которыми их осыпала орда кузенов и кузин. Даже сегодня я напрасно убеждаю себя, что люди сами условились считать этот день особым: в этот день я не могу ни работать, ни читать. В комнате присутствует нечто огромное, укутанное в плащ – неведомый новый год.
Римский посол нес войну и мир в складках своей тоги *, точно так же судьбы мира и каждого из нас в отдельности скрыты под еще не распахнутым плащом этого безликого года.
Но нам не так уж важно знать, чт о таится в мрачных складках его одежды – война, мир, унижение, слава, а может быть, даже самое большое приключение, которое еще остается нам в жизни и произойдет на заре или закате одного из предстоящих трехсот шестидесяти пяти дней, то есть наша собственная смерть. То, что доподлинно важно для нас, отнюдь не прячется в складках плаща. Это наша внутренняя готовность к встрече с молчаливым призраком; она одна имеет для нас значение и зависит только от нас. Новый год – день, когда предстоит взвесить свои силы, углубиться в себя и помолчать...
Почти каждый человек напоминает собой пустынный дворец, обладатель которого живет всего в нескольких комнатах и не заглядывает в заброшенные крылья здания. Дерзни же сегодня ощупью войти в темноту, раскрыть ставни, определить, откуда тянет гнилью и где протекает кровля. Пусть неведомый гигант, 193... год, не обнаружит в тебе слабых мест. Тебе угрожает, для тебя представляет опасность все, что уже шевелится под приоткрывающимся плащом – не только еще неведомая боль, но и наслаждение, которое унижает, но и удача, которая губит. Будь же готов принять боль, наслаждение, удачу и не умереть от них.
Путешествие
Домосед вроде меня должен питать глубокую признательность к писателям-путешественникам: они избавляют меня от полетов на Восток по птичьим дорогам. Я читаю их, и мне кажется, что я там, вместе с ними, у меня перехватывает дыхание, я угадываю миг, когда в отличие от них у меня кольнуло бы сердце. Я уверен, что там, где они восторженно вскрикивают, я, пожалуй, ничего бы не увидел. Мне ведь требуется много времени, чтобы свыкнуться с пейзажем, вобрать его в себя, сделать частью своей жизни. Быстрая поездка даже по самому обычному маршруту оставляет во мне лишь воспоминание о пыли, усталости, бессоннице и неприкаянности.
Путешествовать ради путешествия – мне это непонятно. Но как редко люди уезжают просто для того, чтобы уехать! Путешествие всегда предлог. Поразмыслите хорошенько, и вы непременно найдете явную или тайную причину отъезда, не имеющую ничего общего с любовью к перемене мест. Начнем с того, что бывают простаки, убежденные, будто определенному настроению должен обязательно соответствовать определенный пейзаж, будто счастливым можно быть лишь у красных скал, которые лижет море цвета индиго. Но чаще всего люди ищут в разъездах средство от угасания любви. Пары ищут одиночества, потому что боятся скуки. Путешествие же изолирует их и вместе с тем развлекает. Нам не разрешается заглядываться ни на чье лицо, кроме лица любимой, но позволено посматривать в вагонное окно.
Два человека дарят друг другу иллюзорную надежду ускользнуть от пересудов, от повседневных забот и с помощью поезда или авто выйти из-под власти всех законов, кроме того, которому они сами добровольно подчинили себя. Опасное испытание: один из двоих непременно и слишком рано замечает, что ему не терпится вернуться, сесть за стол, взяться за работу, просмотреть почту. Именно это – повод для первой ссоры, которая порождает все последующие; именно это незримыми буквами написано на обратном билете. Под конец жизни прославленным любовникам – Жорж Санд, Мюссе и Шопену, Листу и г-же д'Агу * – вспоминались, вероятно, лишь их перепалки в унылых гостиничных номерах.
Как редко любовь находит в себе достаточно сил, чтобы остаться домоседкой! Вот почему супружеская любовь, сохраняющаяся наперекор тысячам превратностей, представляется мне прекраснейшим, хотя и самым заурядным из чудес. После стольких лет находить еще темы для разговоров, начиная с пустяков и кончая серьезнейшими вещами, притом не выбирая, не стараясь удивить и вызвать восхищение, – какое это чудо! Лгать больше не нужно: супруги настолько прозрачны один для другого, что ложь им ни к чему. Вот единственная любовь, которая привержена к домоседству, которая питается привычкой и повседневностью.
Я мало верю в бегство, которое Боссюэ * рекомендует как лекарство от страсти, и меня не убеждает Бодлер, когда он заявляет, что многие пускаются в странствия, чтобы не слышать больше «опасный аромат Цирцеи деспотичной». По правде сказать, кто в силах уехать, тот уже почти исцелен, потому что для большинства любовь есть физическая невозможность жить вдали от предмета любви, дышать воздухом города, где нет того, кого любишь. Разлука – слишком нестерпимая пытка, чтоб быть добровольной: отъезд не средство исцеления, а признак его.
Даже у тех, кто уезжает ради того, чтобы уехать, а Бодлер уверяет, что только они – подлинные путешественники, всегда есть еще один побудительный мотив: они не выносят сами себя, бегут от собственного сердца, являющего собой охотника и дичь, преследователя и жертву одновременно. Эта разновидность неврастеников трудно поддается изучению: они непрестанно кочуют с одного края света на другой и остановить их можно, лишь когда они выбиваются из сил, как перелетные птицы, в изнеможении падающие на корабельную палубу.
Многие бегут, потому что их гонит страсть. Они надеются, что путешествие поможет им утолить ее. Я мало верю в невинность людей, путешествующих в одиночку. И однако, господь нередко милостив к таким одиноким странникам. Многие встретили его на путях, где искали вовсе не его. Одними из самых таинственных эпизодов в жизни отца Фуко * до обращения остаются долгие его скитания по неведомому Марокко, которые он совершил, переодевшись тамошним евреем. Этот период добровольного самоотвержения, аскетизма, одиночества приуготовил сердце Фуко к приятию благодати. И это наводит на мысль о разъездах Сотника по таким же Дорогам, где он услышал тот же голос.
Вечер с Гретой Гарбо *
Мне пригрезилось, что Грета Гарбо – лань, за которой по всей Европе охотятся своры журналистов, а она путает следы и сбивает ищеек с толку, оставляя багаж в отелях и прячась в скромных квартирах, что Грета Гарбо распахивает дверь моего кабинета и садится напротив меня, хоть я и не искал с нею встречи.
Шел тот час ноябрьского дня, когда ставни еще открыты, но лампа уже зажжена. Черты актрисы были неразличимы, но я узнал ее. Мне, разумеется, полагалось бы вскочить и с почетом принять прославленную красавицу... Нет, полулежа в кресле, я хранил молчание. Пошевелиться – и то казалось мне таким же безумием, как если бы я, увидев на экране кинематографа ее светоносные руки, потянулся к ним губами.
Она говорила, умоляя не объяснять слишком уж низменными причинами ее отвращение ко всяческим интервью. Нелюдимой ее делает отнюдь не тяга к комфорту и покою.
– Поймите, сударь, в Нью-Йорке, Чикаго, Вене, Берлине, Париже я часто смотрела из глубины ложи сквозь туманный полумрак зала на бесчисленную толпу, околдованную моим лицом, и всюду мне непременно казалось, что это одна и та же толпа, одно и то же укрощенное чудовище, над которым поднимается к моему лицу фимиам тысяч сигарет. Да, к моему бедному лицу, но не такому, как на самом деле, потому что оно подурнело от слез, поцелуев и следов тех легких когтей, которыми наималейшая скорбь бороздит смертное чело, даже если оно прекрасней и любимей всех лиц в мире.
Толпа не знает моего подлинного лица, а я его забыла: чтобы явить людям небывалое чудо – великолепие моих черт, которое они обожают на экране, мне пришлось исказить облик, данный мне с детства богом. Почем вы знаете, не изменила ли я рисунок своих бровей и мои ли собственные ресницы затеняют мой взгляд? Юная некогда плоть не дышит больше теплом, не сверкает сквозь маски, кремы и грим. Я разрушила самое себя, пожертвовала собой ради идеала красоты, который был бы способен утолять миллионы обманутых вожделений и безнадежных ожиданий. Я – та, кем вовеки не будет обладать вон тот подросток, та, кого целые полстолетия искал вон тот старик, кем хотела бы стать вон эта женщина, чтобы удержать изменившего ей мужчину. Теперь понимаете, почему я прячусь? Из жалости к ним и еще потому, что не хочу, чтобы они знали: меня не существует.
Так говорила Грета Гарбо. А я в эту смутную пору «меж волка и собаки» видел или, вернее, угадывал ее дивные, хотя и похожие на множество других формы. То, что не скрывалось от меня под спускавшейся почти до губ вуалеткой, исчезало под слоем грунта и красок, покрывающего в наши дни всю женскую половину человечества. Я думал, как странно, что кино требует от своих звезд излишеств в косметике для того, чтобы показать нам чистую сущность их лика. Таинственный фильтр экрана пропускает через себя лишь то, что есть непреходящего в этом носе или тех губах. Быть может, притирания и кремы лишь средство, чтобы отсеивать все эфемерное? Мысль, которой руководствовался создатель, творя подобное лицо, проступает в его небесно простых контурах, очищенных от всякой скверны и приуготованных для вечности. Было бы удивительно, если бы толпа во всех концах мира не испытывала соблазна упасть на колени перед таким откровением, и не делает она этого лишь потому, что экран, к несчастью, улавливает, выделяет и подчеркивает для каждого из нас то, что есть наихудшего в чрезмерно прекрасном взоре.
Волшебные глаза Греты Гарбо! Хилый болезненный юноша, затерянный в неисчислимой толпе, одиноко переживает порождаемое ими безмерное волнение. Эта женщина, реальная и недоступная, пробуждает все мыслимые желания. Она безнаказанно улыбается, приоткрывает рот, вытягивает шею, опускает веки. Вот она, живая и досягаемая для миллионов мужчин, но если один из них в припадке безумия ринется к ней, он, как обманутый финтой * бык, наткнется лишь на тряпку, растянутую в пространстве, и обнимет пустоту! Быть может, Грете Гарбо известно, что как-то вечером в Филадельфии, Буэнос-Айресе или Мельбурне один из ее безвестных любовников внезапно вскочил, проложил себе дорогу сквозь разъяренную массу тел, прошел по толпе, как по морю, простирая руки к обожаемому, близкому и неуловимому видению, и ударил головой в лопнувший экран? Странная сцена, напоминающая моему сердцу фразу Рембо: «Потом, о отчаяние, стена незаметно превратилась в тень деревьев, и я погрузился в любовную тоску ночи».
– Да, – тихо продолжала она, – я разнуздала это безумие и боюсь его, так что скрываться меня вынуждает еще и страх: я – женщина, которая изменила миллионам мужчин, я неверна всему человечеству. Что, если из этого людского прилива, из этого океана плоти, затапливающего днем и ночью гроты кинематографов и ежечасно обновляющегося, вынырнет молодой человек, который решил отомстить за себя и всех своих скорбных собратьев?
– Нет, конечно, – успокаивая себя, продолжала она после паузы, – он не узнает меня и не осмелится ударить женщину, неотличимую от прочих. Он увидит, что в жизни я вовсе не Грета Гарбо и не похожа на кинозвезду из журналов.
Она смолкла: ее магический взгляд, устремленный на меня, молил хоть о едином слове сочувствия, и я подумал, что, действительно, только кино предает нас во власть извечного врага – женщины, освобожденной от всего, что в обычной жизни ослабляет ее, обезоруживает, делает менее опасной. Только в кино мы до конца постигаем строки Виньи:
Так нежен голос твой, язвящий так глубоко,
Так красота грозна, так взор порой жесток,
Что в Песни Песней сам премудрый царь Востока
Недаром сильною, как смерть, тебя нарек 1.
1А. де Виньи. Дом пастуха.
– Вероятно, – отозвался я, – вы источник многих преступлений. Слишком восприимчивому молодому человеку, который прожил целый вечер под вашим взглядом, трудно наутро возвращаться к унылому повседневному долгу. Ваше лицо в фильмах сообщает почти безграничную привлекательность мерзкой роскоши. Самое низменное, что есть на свете и что лживо именуется «красивой жизнью», короче разгул, приобретает благодаря вашей красоте всемогущее обаяние, и одинокий нищий парижский студент, разом забыв философов, поэтов и прочих своих идолов, начинает мечтать о том, как он, покачивая атлетическими плечами, входит в ресторан для богатых следом за женщиной, чье ошеломляющее имя шепотом передается от столика к столику: «Грета Гарбо! Это Грета Гарбо!»
Тут я увидел, как, съежившись в темноте, она склонила униженное чело. Свет лампы озарял ее бледно-золотые волосы.
– Нет, – добавил я, – не опускайте голову. В истоках этого прилива, этой волны обожания и восхищения, которая захлестывает ваш бесконечно повторяемый образ, нет ничего нечистого. Миллионы сердец, тянущихся к вам, инстинктивно понимают, что истина есть не что-то отвлеченное, а, напротив, телесное и живое, что ее можно отыскать, встретить, призвать, ибо она всегда воплощена и у нее, как у вас, есть лицо, взгляд, голос, сердце и единственное имя среди других имен человеческих. «...Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши», * – свидетельствует святой Иоанн.
Вы занимаете Его место, ваше лицо маскирует Его отсутствие; вы заместительница, повторение, отблеск. Вы обманываете жажду, которая собирает перед экранами несчастное стадо людей, изголодавшихся по красоте...
О красота этого лица, этого лика, который мог бы явиться нам (сколько раз я мечтал об этом!), который мог бы каждый вечер представать очарованным толпам на полотне, натянутом во всех кинематографах мира!
Творчество и человек
Неожиданное признание, приходящее к писателю чуть ли не на завтра после смерти, – удивительное зрелище, и недавно мы стали его очевидцами. До последней минуты Анны де Ноай * еще можно было сомневаться если уж не в ее значении для французской поэзии, то в ее ранге среди наших корифеев. Но поэт-однодневка исчезает, как туман; за вечными творениями открываются вершины. В бренном теле Анны де Ноай таился целый мир.
Это внезапное чудо особенно заметно, когда художник причастен к высшему свету и подчинен его ритуалу, когда он – ваш приятель, которого запросто называют Марселем и считают хорошим малым, хотя нелегким человеком и порядочным сплетником, или когда это женщина, которую знали просто как Анну и которая вечно опаздывала, так что, если ее приглашали на обед, общество садилось за стол не раньше половины десятого вечера. Но вот они умирают, и сразу же «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, равно как стихи графини де Ноай занимают во всемирной литературе место, которого уже никогда не утратят.
«Живых не чтут», – писала, если не ошибаюсь, г-жа де Ноай. Да, не чтут, особенно когда они принадлежат к определенному кругу, законы которого более или менее принимают и людей которого, считающих себя ровней им, раздражают или забавляют тем сильнее, чем дальше отстоят от них. И по правде сказать, в социальном плане эти люди, действительно, выглядят ровней им, пока со смертного ложа человека, чьи остроты еще вчера смешили окружающих, не восходит светило, навечно занимающее свое место среди созвездий, что носят имена наших любимых поэтов.
Отсюда чувство неловкости, испытываемое нами, когда после подобного преображения публикуются письма покойного художника. Представляется невероятным, что переписка Пруста и «По направлению к Свану» написаны одной и той же рукой. Неужели этот грозный мастер строжайшего анализа был в то же время хорошим малым, любителем осложнять отношения и ссориться, до нелепости льстивым и нестерпимым лжесмиренником, переходившим меру даже в гиперболах светского словаря?
Думается, впрочем, что под конец жизни Пруст чуял приближение славы, которую упрочит за ним кончина. Кто-то из римских императоров, умирая, насмешливо бросил: «Я чувствую, что становлюсь богом». Однако молчание и одиночество, которыми Марсель Пруст окружил себя на одре болезни в последние два года жизни, отдаление, на котором он держал самых близких друзей, почти беспредельное отчуждение его от всех и вся свидетельствуют, что он в полном смысле слова чувствовал, как обретает бессмертие. Точно так же г-жа де Ноай ни разу не допустила, чтобы в ее творениях остался хоть малейший след ее чудовищно комических светских разговоров. Она не желала, чтобы в том, чему предстоит существовать, пока жива людская память, в какой бы то ни было мере соучаствовала низшая ступень ее души.
Этот резкий разрыв между творчеством и жизнью «светских» писателей гораздо менее ощутим у «пр о клятых поэтов» *, то есть тех, чье освобождение от всех норм существования было в то же время порабощено всеми горестями, на которые обрекает изгоев общество, где для них не нашлось места.
Осуждение этим обществом Бодлера и Верлена, богохульства и молитвы «Цветов зла» и «Мудрости» – неоспоримое тому подтверждение. Невозможно отделить горькую судьбу этих поэтов от бессмертных воплей, которые она у них исторгла. Это, разумеется, не означает, что страдания Анны де Ноай или Марселя Пруста не были столь же подлинными. Но вопреки всем болезням и треволнениям жизнь в роскоши, безопасности и – что особенно касается г-жи де Ноай – в атмосфере поклонения исключает на первый взгляд какую бы то ни было связь с поэзией отчаяния; здесь это отчаяние метафизического порядка, монотонный и гармонический стон, вырывающийся у пресыщенного человека, который держал в руках вселенную и которому покорение ее ничего не дало.
Гений Бодлера, Верлена, Рембо питался их повседневной жизнью; их творчество вырастает, если можно так выразиться, прямо из земли, из грязи. Г-н Франсуа Порше *, чье исследование «Верлен, каким он был» только что вышло в свет, не открыл нам в этой подлинно захватывающей книге ничего, что не было бы уже сказано в любой строфе «Песни чистой любви», «Мудрости», «Параллельно» и «Любви». Поэзия Верлена неразрывно срослась с ритмом его отвратительной жизни. Зато «История моей жизни», которую удалось написать г-же де Ноай, отнюдь не история ее творчества. Само собой, мы не говорим здесь о тайных драмах души и сердца.
«Грязное величие» и «возвышающая низость» Верлена оплодотворили его поэзию; дивные стихотворения «Мудрости» могли вознестись к Христу и Богоматери «осой, летящею на лилию в цвету» 1, лишь из одиночной камеры, ибо там, на дне пропасти, осужденный за уголовное преступление Поль Верлен познал всю глубину унижения и позора *. У него нет ни одного великого создания, за которое он не заплатил бы собственной кровью, слезами, человеческим достоинством. Его скорбная жизнь доныне шокирует биографов: они без устали благодарят бога за то, что тот не уподобил их этой «грязной свинье»: ведь о нем придется рассказывать, пока не смолкнет его неповторимый голос. Увы! Его бессмертное наследие наделяет бессмертием даже его пьянство и распутство.
1П. Верлен. Мудрость, II, IV.
Творчество Бодлера и Верлена, эхо их больной жизни, делает для нас незабываемой и ее. Есть другие писатели, причем из числа самых великих, о которых, напротив, можно сказать, что именно бессмертие их самих как личностей сообщает долговечность их творчеству. Шатобриан интересует нас больше, чем его произведения. Он написал немало великих книг, но усердно мы перечитываем лишь «Замогильные записки», потому что они раскрывают нам его целиком – и зачастую без его ведома. Другие его вещи привлекают нас главным образом в той мере, в какой помогают глубже его понять. То же – с Руссо: сегодня нам трудно читать его творения, за исключением «Исповеди» и «Прогулок одинокого мечтателя», потому что в них сполна раскрывается человек. Мы еще слишком недалеки от Барреса, книги его еще слишком животрепещущи, чтобы мы рискнули поставить его в один ряд с вышеназванными писателями. Кроме того, классификации такого рода всегда крайне произвольны; поэтому скажем только, что его творчество, бесспорно, знаменует важный этап в истории французской прозы. Тем не менее наши младшие современники, видимо, плохо понимают прекраснейшие вещи Барреса или теряют к ним интерес; зато они с любопытством вглядываются в него как в человека. Да и нас самих, любивших его не меньше, чем его книги, начиная с «Под взглядом варваров» и кончая «Садом на Оронте», привлекал преимущественно он сам – своим отношением к миру, манерой приноравливаться к прогрессу. От книги к книге мы постигали самого Барреса.
И теперь, когда его больше нет, недостаточно констатировать, что написанное им нигде не отделяется от него самого: как и раньше, мы прежде всего ищем в его наследии комментарий к его величавой судьбе. Вот почему мы с таким страстным нетерпением берем в руки любую из его посмертных «Тетрадей», эти замогильные записки, которые он не успел отретушировать и в которых все то, что таилось и маскировалось в недрах его неистовой души, выплескивается на поверхность и становится нашим достоянием. Неизданный отрывок в последнем выпуске «Ревю юниверсель» не только замечательное рассуждение о религии – он содержит признания, удивительные в устах человека, умевшего так сокрушительно презирать: там поражают нас в самое сердце тайная нежность, нотки кроткой надломленности, которых мы не слышали после трех страниц, завершающих «Под взглядом варваров»:
«Эти дни, когда звездное небо так волнует нас, что мы не в силах спать, когда все вокруг – любовь, безмолвие, покорное сокрушение о мертвых и о бегстве лет, излияния переполненного сердца и одиночество...»
Баррес написал это, достигнув того же возраста, что теперь я... Как счастлив был бы я, дорогой Баррес, позвонить нынче вечером в вашу дверь и пойти бок о бок с вами по улице, которая до сих пор не носит вашего имени!
Роман-река
Мы не слишком хорошо знаем, что думает насчет него публика: возможно, ее пугает не длина, а длинноты. Удивительно другое – что романист заранее решает никогда не кончать роман и возвещает об этом городу и миру. Обычно не существует никаких признаков, позволяющих угадать, чт о должно родиться – река, речушка или ручеек. Бальзаку понадобилось много времени, чтобы обнаружить, что он пишет «Человеческую комедию». Первоначально мысль о ней, по его собственным словам, казалась ему несбыточной мечтой. Лишь «после многотрудных усилий, – свидетельствует Жорж Санд, – он тщательно и веско распределил огромный свой материал и, завершив все части произведения, создал целое, обдуманное и глубокое... Охват действительности, который он предпринял, требовал от него еще многих лет работы...» 1
Этот блистательный пример – неплохое утешение для бедных сочинителей коротких романов: ничто не помешает им посвятить старость поискам уз, связующих воедино чада их таланта – и притом без каких бы то ни было натяжек, ибо все, что рождается от нас, составляет одну большую семью.
Я нападаю не на длинные романы, а на романистов, задавшихся целью писать длинно. Как мне представляется, нет заблуждения хуже, чем считать необычную длину книги приметой ее незаурядности. «Война и мир» – шедевр, «Смерть Ивана Ильича» – тоже, но каждое из обоих произведений подчиняется своему закону: для первого – это широта охвата, для второго – сжатость, конденсированность.
На мой взгляд, серьезная ошибка придавать значение числу выдуманных нами действующих лиц, равномерно распределять внимание между ними и бросать полный жизни, динамичный, увлекающий нас персонаж лишь потому, что пришел черед другого, которому лучше бы спать и не просыпаться, но который тоже имеет право на отдельную главу и должен получить развитие в соответствии с планом.
Полагать, что, умножая число своих героев, романист приближается к жизни, – странная аберрация. Только по тротуару между Мадлен и «Кафе де ла пе» за какой-нибудь час проходит больше людей, чем можно изобразить в самом полноводном романе-реке. В этом смысле пятнадцатитомный роман так же далек от действительности, как «Принцесса Клевская» * или «Адольф» *.
Англосаксы и русские легко создают вымышленный мир, куда нас так влечет вслед за ними и где мы теряемся; чем меньше мы чувствуем себя в состоянии им подражать, тем больше поддаемся их очарованию. Глубинный инстинкт ведет их в самую гущу жизни, она сама несет их; они постигают ее сокровенные законы, не заботясь о внешних мотивах и формальной логике. Но когда молодой француз, волевой и рассудочный сын Декарта, пытается построить обширный вымышленный мир по их методу, мы оказываемся очевидцами захватывающего опыта, успех которого не может, однако, не внушать известных сомнений. Один из принципов Декарта гласит: «Делить каждую из рассматриваемых трудностей на столько частей, на сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить» 2. В назначенный час всяк совершит свой круг по беговой дорожке, за судьями же состязания остается – в лучшем случае – лишь право несколько изменить его программу.
1Ж. Санд. Собр. соч. в 9-ти т., т. 8, Л., «Худож. лит.» 1974, с. 668. ( Пер. Т. Хмельницкой.)
2Р. Декарт. Рассуждение о методе. Л., 1958, с. 22—23.
Французский автор, даже плывя по роману-реке, никогда не приноравливается к течению, не отдается на волю волн. Он до конца остается предельно внимательным и трезвым и, памятуя о другом принципе Декарта: «Делать всюду настолько полные перечни и такие общие обзоры, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено» 1, останавливается через каждые четыре тома, нумерует своих персонажей, промеряет дистанцию, которую пробежал, и улыбается публике, удивляясь, как это у нее хватает терпения следовать за ним в такую даль...
1Там же.
Поспешим оговориться: все эти препятствия можно практически не принимать в расчет, когда, как в случае с г-ном Жюлем Роменом *, романист является еще и большим поэтом. В первых четырех томах «Людей доброй воли» мы на каждом шагу ждем, что мощь поэзии вот-вот возьмет верх, разрушит прекрасную упорядоченность и внесет наконец сумятицу жизни в мир, размеренный и выверенный богом из Эколь Нормаль *. В начале долгого странствия, в которое увлекает нас Жюль Ромен, я особенно остро ощущаю эту волнующую схватку упорной тяги создателя к господству и упорядочению со строптивостью его стреноженных созданий.
Но пусть наши молодые собратья не уповают на ослепляющий их пример Жюля Ромена. Бывает манера писать длинно, суть которой в том, чтобы ничего не отбирать и не отбрасывать, но она не признак богатства и не дает произведению искусства пропуск в вечность. Объемистые сочинения гибнут так же легко, как и крохотные. На протяжении всей истории литературы мы не раз видели, как «Титаники» * с командой и грузом шли на дно, а утлые суденышки доходили до нас из тьмы веков.
Даже на современников объем книги производит гораздо меньшее впечатление, чем можно было бы предполагать. Я имею в виду такой роман-реку, который вот уже десять лет плывет по широко разлившимся водам в никем не нарушаемом одиночестве. А если какой-нибудь критик, более дотошный, чем его коллеги, интересуется подчас этими неведомыми просторами, он ограничивается тем, что лишь пролетает над ними, и, что бы он нам о них ни рассказывал, мы предпочитаем верить ему на слово, а не самим исследовать их. Да и много ли шансов на то, что нас заинтересует последний опубликованный томик издания, первые выпуски которого давно исчезли в пучине забвения? И наконец, размеры произведения не всегда пропорциональны его глубине, и, когда говорят, что книге суждена длинная жизнь, это никогда еще не означало, что книга длинна.
Разумеется, мои замечания ни в коей мере не затрагивают крупные удачи французского романа-реки. К тому же они ничуть не смягчают суровую критику, повсеместно обрушивающуюся на короткий роман. Этот последний часто несет в себе богатства, которые автор не сумел использовать. Краткость его не всегда оправданна. Она может быть приметой писателя-лентяя, гений которого в противоположность известному афоризму проявляется в нетерпеливости. Правда, после войны мы почувствовали, что издатели, критика, публика побуждают нас писать наскоро и подавать наши вещи горяченькими. Бары-экспрессы появились в литературе раньше, чем на Больших бульварах. Мы пускаем в ход все свое мастерство, чтобы скрыть от глаз нашу писательскую «кухню».
Следовательно, надо приветствовать новую поросль, преодолевшую нашу нетерпеливость и спешку, но в то же время предостеречь ее от опасностей романа в пятнадцать томов: литературная молодежь рассчитывает таким путем обрести простор, а на деле ее бескрайние создания грозят стать самой душной из тюрем.
На мой взгляд, сохранять верность своему ремеслу, преодолевать усталость и отвращение писателя помогает то, что, начиная новую книгу, он всякий раз вступает в неведомый мир, совершенно не связанный с предыдущим. Ему кажется – благотворная иллюзия! – что до сих пор он делал только наброски к шедевру, который создаст теперь. И если даже в глубине души он уверен, что его ожидания будут снова обмануты, надежда шепчет ему: «Почем знать? Может быть, на этот раз...» Я лично не выдержал бы без этого печальной участи – влачить на себе каторжное ярмо своих прошлых книг; опубликованные, они отчуждены от нас, умерли для нас. Зато как чудесно ценой новых усилий опять отправляться в странствие, страшась и нетерпеливо ожидая того, что тебе предстоит! Не знать, о чем тебе захочется писать через полгода или год, но всегда быть наготове, ибо дух дышит, где хочет *. Что ему делать в огромных пустых зданиях, куда вы намереваетесь его загнать? Вы, естественно, тоже вольны следовать своему воображению и можете оставить на время постройку своего небоскреба в пятнадцать томов. Только вот достанет ли у вас потом сил и мужества снова взяться за нее? Незаконченное здание не считается прекрасными руинами.








