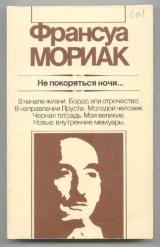
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
Но ведь как раз в молитве об умении использовать болезни во благо, о которой мы вспоминали вначале, Паскаль воскликнул: «О Господи, столь возлюбивший страждущую плоть!..» Значит, Марсель Пруст тоже был любим богом, и сейчас нам представляется, как он, живой, подходя к церкви в Бальбеке, с улыбкой любуется каменными статуями апостолов, которыми так восхищался: «Стоя справа и слева от Девы Марии, перед глубоким проемом паперти, они словно ждали меня и собирались со мной поздороваться. Приветливые, курносые, сгорбленные, они точно вышли меня встретить и славословили ясный день» 2.
1Из бездны ( лат.) .
2М. Пруст. Под сенью девушек в цвету. М., «Худож. лит», 1976, с. 240. ( Пер. Н. Любимова.)
IV
Любовь по Прусту
Два тома «Узницы» * вынуждают нас в определенной степени пересмотреть наше мнение о творчестве Пруста. Мы считали, что наш друг, подобно Бальзаку, хотел вступить в соперничество с отделом актов гражданского состояния, используя, впрочем, совершенно противоположный метод. И разумеется, он обнаружил в себе достаточно персонажей, чтобы оправдать подобное притязание. Персонажи эти, которых он как бы вобрал в себя в период светской жизни, вышли на свет в период затворничества, когда Пруст использовал болезнь для терпеливых раскопок, однако до конца он никогда их от себя не отрывал; самые разные, они схожи друг с другом, потому что похожи на него. Любовь Свана к Одетте, Сен-Лу к Рашели, Марселя к Жильберте и Альбертине по сути неотличима: это один и тот же тип любви, но если в первых книгах Пруст дает нам почувствовать опустошения, которые она производит, как романист, то в «Узнице» ведет исследование почти отвлеченно и как врач. Кажется, что персонажи, так занимавшие его, теперь пробуждают в нем все меньше интереса. Вышедшие из него, соединенные с ним неразрывной связью, они вновь возвращаются в автора, исчезают в его тени. Возможно, подстегиваемый болезнью, задыхаясь от желания высказать все, что осталось сказать, Марсель Пруст уже не чувствовал былой снисходительности к своим созданиям и видел только то, что они стоят между ним и нами. Постепенно отдалившись в последние годы жизни от ближайших друзей, он, возможно, с трудом переносил и тех, кто населяет его книги. В «Узнице» он впервые дает своему герою имя Марсель и решительно выступает на авансцену. Очертания его наиболее четко обрисованных персонажей становятся несколько размытыми. Когда Франсуаза ему говорит: «В этой белой пижаме, когда вот так вертите шеей, вы прямо как голубь», мы не узнаем знакомого голоса старой служанки семейства из Комбре. Разумеется, мы обнаруживаем здесь и Шарлюса, очерченного куда резче, чем в предыдущих томах, Шарлюса отвратительного (чересчур отвратительного!): это уже не больной, это – болезнь. Мы знаем про ракового больного, видим же только рак. У потаенного Шарлюса первых томов скверность проявлялась во взгляде, цветке в бутоньерке либо чересчур ярком платке, но здесь гнойник как будто лопнул, прорвался, потек и наконец иссяк. Поистине в «Узнице» для Пруста ничто так не важно, как представить в чистом виде результат своих изысканий относительно любви. Он очень озабочен достоверностью этого уникального исследования чувства, поэтому вынужден подчинять ему повествование и, ничуть не заботясь о правдоподобии, подгонять под него события. Мы допускаем, что молодая светская барышня Альбертина могла прийти жить к одинокому молодому человеку, но все-таки надо, чтобы автор заставил нас поверить в возможность столь необычного случая и показал его причины и следствия. Надо бы... но поспешим объявить, что, полностью захваченные жестокими открытиями, к которым приобщает нас Пруст, мы тоже поддались его безразличию ко всему, не имеющему непосредственного отношения к этому безжалостному исследованию. А с другой стороны, если в прочих персонажах жизни меньше, тем хуже для них, потому что сам Пруст, неподвижно лежащий на кровати, оказывается более живым, чем когда бы то ни было; наперекор закрытым окнам вся жизнь сосредоточивается вокруг его распростертого тела: он притягивает, приручает ее, ловит уличные голоса, солнечные лучи, шорох дождя. Как и Альбертину, он завлекает мир к себе в комнату и держит в плену. Прусту вполне достаточно одного себя для расследования, в котором мы ему сопутствуем, для этого восхождения под невыносимым светом, когда мы, близкие к головокружению, судорожно цепляемся за его пальто.
Словом «любовь» Пруст всегда обозначает страдание, причиняемое ему отношениями любимого существа с другими людьми, причем неважно, достоверно ли он знает об этих отношениях, догадывается, подозревает или только предчувствует. Его любовная активность ограничивается уловками, вызнаванием, бесконечной игрой в слежку, которая к тому же осложнена болезнью любовника, вынужденного жить взаперти. Альков превращается в следовательскую камеру. А чтобы сделать игру жестче, следователь запирает с собой в этой камере обвиняемую Альбертину, полностью подчиняет ее себе; выходит она только под конвоем. Увы, и прошлого вполне достаточно, чтобы подвергнуть испытанию спокойствие любовника, поскольку его чудовищная память не прощает коварной ни малейшего противоречия в ее словах; к тому же иные поездки становятся крайне подозрительными из-за участия Андреи, подруги на все случаи жизни, или слишком услужливого шофера. Это, сказали бы мы, «дознание ревнивца», хотя и доведено здесь до крайности, сохраняет всеобщий характер, что обеспечивает Прусту первое место среди мастеров ревности. Откроем наудачу книгу: «Бывает, что каждодневно в форме подозрений огромными дозами впитываешь одну и ту же мысль, что тебя обманывают, хотя даже ничтожное ее количество, введенное с уколом слова, рвущего душу, могло бы оказаться смертельным». «Не обязательно быть вдвоем, достаточно сидеть в комнате одному и неотвязно думать, что лучше бы, во избежание новых измен, твоя любовница умерла». Ах, какое собрание великолепных изречений для мучеников ревности можно было бы надергать из этой книги!
Но в «Узнице» идущий вглубь и вширь анализ в то же время постепенно суживается, ограничивается и превращается в исследование, правда, необыкновенно впечатляющее, одного-единственного, исключительного случая. По мере того как у этого тюремщика своей возлюбленной, у этого подозрительного любовника оказывается все меньше поводов для страдания, он утрачивает любовь, перестает любить: ему необходимо, чтобы Альбертина терзала его, иначе она наводит только скуку. Едва Марсель счел, что обезопасился, что Альбертина больше не мечтает встретиться с подругой в Трокадеро или у Вердюренов, он тут же начинает жаждать одиночества. Чуть только он уверился, что никто ее у него не похищает и она больше не ускользает от его желания, он перестает вожделеть к ее плоти. Альбертина тратит массу стараний, чтобы скрыть измены, и не понимает, что лишь они одни и удерживают любовника; перестав опасаться, он мгновенно становится безразличным. Он невыносимо страдал оттого, что ее тело принадлежит другим, но, едва оно безраздельно предалось ему, он как будто утрачивает инстинкт обладания, даже плотского. Конечно, он умеет похитить у этого безучастного тела некое полунаслаждение, но ежевечерние ласки лишь успокаивают его подозрения; они становятся чем-то средним между болеутоляющим и снотворным; Марсель, похоже, не способен воспринимать плотскую любовь как попытку раствориться в любимом существе, слиться с ним в одно целое, как попытку, наконец, стереть его тягчайшую, хоть и невольную измену, проявляющуюся в отличности от тебя. Пробовал ли он духовно сблизиться с Альбертиной? Жемчуга, дорогие ткани от Фортюни – это ведь всего лишь неуклюжие попытки заставить бедную птичку примириться с клеткой. Обладать Альбертиной в ее прошлом и будущем, во всех точках пространства и времени, где она пребывала и будет пребывать, не удается; неосуществимость такого невозможного 1обладания делает любовника безучастным к обладанию, единственно возможному, и исторгает у него странный и отчаянный крик: «Как люди смеют жаждать жить, как можно пытаться уберечь себя от смерти в мире, где любовь возбуждается только ложью и заключается в потребности упиваться страданиями, которые способно утолить лишь существо, причиняющее их?» Прусту следовало бы добавить фразу, заключающую в себе его концепцию любви: «В мире, где любимое существо перестает быть любимым, как только прекращает причинять страдания». Нам осталось бы только восхититься и умолкнуть, если бы Пруст не утверждал универсальный характер любви, расчленение которой он произвел на наших глазах. По-видимому, он убежден, что имеет дело не с одним из типов любви, а с любовью вообще. И тут, может быть, следовало бы ему возразить. Может быть... Но ведь любовь, в которой палач оказывается тем, от кого ждешь утоления мук, называется неразделенной. И если в «Узнице» показана самая распространенная разновидность человека несчастного, то посмеем ли мы отказать Марселю Прусту в умении приблизиться к человеку универсальному?
1Невозможного, ибо любимое существо не единственно, но множественно, а как обладать тем, что беспредельно? Одно «я» в нем бесконечно перетекает в другое; это все равно что пытаться остановить поток, желая его обнять. Потому-то и тщетно любое расследование. Именно на такой концепции личности должен основываться критик, изучающий Пруста. ( Прим. автора.)
РОМАН
I
Из всех людей романист более всего похож на бога: он, словно обезьяна, подражающая богу. Он творит живых существ, придумывает им судьбы, сплетая события и катастрофы, скрещивает их жизненные пути, доводит до смертного часа. Вымышленные персонажи? Несомненно, однако Ростовы из «Войны и мира» или братья Карамазовы столь же реальны, как любой человек из плоти и крови; в отличие от нас их бессмертная сущность не основана на метафизической вере, и мы тому свидетели. Все так же исполненные жизни, они переходят от поколения к поколению.
Какой романист не надеется даровать творениям своего разума вечную жизнь? А поскольку из всех литературных жанров роман пользуется наибольшим спросом у читателей и, следовательно, у издателей, нет ничего удивительного, что большинство литераторов старается внушить себе, будто они получили божественный дар от рождения.
И хотя подобные претензии, как правило, ни на чем не основаны, никто не имеет права сделать из этого вывод, что роман клонится к упадку; великие писатели были редки во все времена. Тем не менее, хотя роман и не умер, не признавать, что он переживает кризис, было бы заблуждением. Этот жанр не подвергался бы таким нападкам, не будь у всех нас – и читателей, и писателей – ощущения кризиса. Но если кое-кто видит в этом предвестие агонии и скорого конца, мы находим, что наблюдаем симптомы линьки, перипетии преображения – линьки опасной, преображения, чреватого гибелью, – и тем не менее ничуть не сомневаемся, что роман выйдет из этих испытаний возродившимся, обновленным и, может быть, даже во многом обогащенным.
II
В чем же заключается этот кризис? Романист создает живых людей, мужчин и женщин. Он показывает их нам в конфликте: в религиозном конфликте – бога и человека, в любовном конфликте – мужчины и женщины, в конфликте человека с самим собой. Но если бы потребовалось определить, с точки зрения романиста, послевоенное время, мы бы сказали, что это эпоха, когда напряженность конфликтов, которыми до сих пор жил роман, все больше и больше ослабевает. Разумеется, это определение несколько упрощенное, и мы воспользовались им только ради удобства изложения. Притом мы не собираемся представлять дело так, будто нынешнее и довоенное общество разделяет пропасть: множество характерных черт современной жизни, которые мы будем рассматривать, наблюдались до 1914 года, причем задолго до него; иные восходят к позапрошлому веку.
Но особенностью нашей эпохи является та убийственная искренность, с какой большинство молодых людей отказываются принимать во внимание в своей обыденной жизни ценности, вера в которые утрачена. Не требуйте от этого поколения, чтобы оно довольствовалось, как их сверстники в восьмидесятых годах, ароматами из разбитой вазы *. Зачастую современный молодой человек не обнаруживает ни малейшей склонности вступать в конфликт ни с религией, которой не исповедует, ни с моралью, порожденной этой религией, ни со светскими правилами чести, проистекающими из этой морали. Если он все-таки обратится, вся его жизнь изменится, и он душой и телом предастся новой вере. Но пока он этому чужд, то уж чужд вполне и непритворно: его страсть не признает преград, не ведает узды, так что конфликтов не существует. Весьма примечательно, что такой роман, как «Доминик» Фромантена, столетие которого мы отмечали в прошлом году, отрада наших юных лет, оказывается почти непонятен юноше 1927 года. «Лжешедевр!» – воскликнул однажды Леон Доде. Нет, конечно, это не лжешедевр, а шедевр, ключ к которому утратило нынешнее молодое поколение. «Доминик, или буржуазная честь» – так великолепно определил его Робер де Траз *. Но что может означать это превосходное по точности выражение «буржуазная честь» для современных молодых людей? Спросите самого тонкого из них, почему Доминик и Мадлен де Ньевр не поддались взаимному влечению... Он ответит вам, что не читал «Доминика».
Конфликты подобного рода кажутся сейчас необъяснимыми; впрочем, стали непонятны и куда более потрясающие драмы. Как-то одна молодая женщина призналась мне, что не понимает причин угрызений совести и проклятий расиновской Федры.
– Сколько шума из ничего! – заявила она мне. – Как будто влюбиться в пасынка не самое обычное дело! В наше время Федра с чистой совестью обольстила бы Ипполита, а Тезей закрыл бы на это глаза.
Да, сейчас то, что случилось с Федрой, не смогло бы послужить материалом для трагедии.
Как же может быть плодотворной для романистов эпоха, когда все, что касается плоти, перестало быть важным? Вне всякого сомнения, тут-то и кроется причина кризиса романа. Безусловно, сглаживаются и другие конфликты, питавшие в прошлом большинство романов; к примеру, космополитизм, эгалитаризм *, размывание границ между нациями и классами не дали бы теперь Жоржу Оне * возможности написать «Горнозаводчика» и «Мергельный карьер». Да и какой аристократ стал бы сейчас колебаться, отдавать или не отдавать дочь за владельца сталеплавильного завода!
Но самая грозная опасность для романа – это чудовищная логика, которая вынуждает наше общество, утратившее бога, видеть в любви всего лишь акт, ничем не отличающийся от любого другого. То, что некогда называлось любовью, большинству современных юношей кажется столь же далеким от действительности, сколь далеки от природы сады Версаля. Молодые женщины прекрасно понимают, что больше нельзя полагаться на эту древнюю игру с ее очаровательными правилами: измена перестала быть изменой, верность превратилась в слово, утратившее всякий смысл, ибо в любви уже нет ничего постоянного. Вдумайтесь только в название одной из глав у Пруста: «Перебои в сердце». То, что совсем еще недавно именовалось любовью, было сложным чувством, которое создавалось многими поколениями утонченных людей, включало в себя самоотречение, жертвенность, героизм и угрызения совести. Любовь опиралась на религию, на христианскую мораль. И эти прекрасные воды, полные небесной чистоты, не стояли бы так высоко, не удерживай их плотины католических добродетелей. Любовь рождалась из внутреннего сопротивления целомудренной женщины соблазну: героини Расина приносили себя в жертву по велению богов, ради интересов государства. Любовь не способна пережить разрушения сдерживающих ее плотин. Перед армией молодых людей, взбунтовавшихся против правил любовной игры, женщины теряют голову, и коротко стриженные волосы становятся у них, как у меровингских королей, знаком отречения.
III
Но что же делать романисту в обществе, где остается все меньше романных конфликтов? Во-первых, он может, чтобы не ходить далеко, воспользоваться знаменитым изречением Сен-Реаля*: «Роман – это зеркало, которое несут по большой дороге». Метод этот крайне прост и, как нам известно по опыту, плодотворен. Одним словом, писатель может, не ставя перед собой особых задач, изображать эпоху такой, как она есть, старательно исполнять свое ремесло историка общества. В этом случае даже отсутствие конфликтов не приведет его в замешательство, а станет предметом изображения. Недавно так писал Абель Эрман. Сейчас на это расточает свое незаурядное дарование Поль Моран *; в «Открыто ночью» и «Закрыто ночью» он показывает нам, как ищут, хватаются друг за друга, расстаются и вновь сходятся мужчины и женщины разных наций и классов, послушные одному лишь мгновенному инстинкту и уже утратившие способность наслаждаться, хотя они и не признают над собой никакого иного закона, кроме того, который велит им вечно искать все более рафинированных ощущений. Чем ниже они опускаются, чем больше грязи пристает к ним, тем меньше они это сознают, а главное, тем трудней им поверить, что все относящееся к сфере чувственности имеет крайне малое значение.
Беспощадная, жестокая картина; Морану удалось изобразить ее со свойственным ему обаянием. Но его многочисленные подражатели, надо признаться, безумно скучны.
Дело в том, что историю аморфного общества невозможно описывать бесконечно, как это делали наши предшественники, отображая конфликты духа и плоти, долга и страсти.
Здесь противники романа получают – и мы признаем это – очко в свою пользу. Они могут мне сказать: «Вы сами сознаете, что современные романисты оказались в тупике и не видят из него выхода». Конечно, мы могли бы им возразить: «А приключенческий роман?» Так называемое возрождение приключенческого романа представляется нам, в сущности, чем-то вроде попытки проложить дорогу в другом направлении: поскольку писателям недостает драм человеческой совести, они отыгрываются на из ряда вон выходящих событиях и необычайных интригах, вгоняющих читателя в дрожь. Я вовсе не собираюсь здесь уничижать приключенческий роман. Но, на мой взгляд, он имеет право считаться произведением искусства только в том случае, если его герои – живые люди, как у Киплинга, Конрада, Стивенсона. Короче говоря, для приключенческого романа, для того, чтобы он мог существовать в полном смысле слова, важны не приключения, а человек – искатель приключений. Стендаль говорил, что его профессия – познание мотивов человеческих поступков; он гордился званием наблюдателя человеческого рода. Поэтому романист просто-напросто обязан быть психологом; сегодня он, как все мы, находится в противоборстве с человечеством, чудовищно оскудевшим душой; пытаясь же отыграться на внешней интриге, он не обогащает, а обедняет роман. Должен сказать, что от сочинителей приключенческих романов я жду гораздо меньше, чем от тех, кто вслед за Ален-Фурнье, автором восхитительного «Большого Мольна» *, и вместе с Жироду, Эдмоном Жалу *, Жаком Шеневьером * открывает жанру романа царство Фантазии и Мечты. Но проникнуть туда дано очень немногим писателям: земли эти предназначены для потомков Шекспира.
IV
Тем не менее мы, лишенные фантазии, не отчаиваемся и продолжаем поиски в разных направлениях; мы спрашиваем себя, не проложил ли новый путь кто-нибудь из ныне живущих романистов. Возвратясь с Востока, Поль Моран в статье, напечатанной в «Нувель литерер», выражает отвращение к нашей цивилизации, низменно плотской и жадной до наслаждений; он восхищается племенами, среди которых побывал: они гораздо ближе нас к абсолюту, и благодаря постоянным медитациям мысль о смерти стала для них привычной. В своей статье Моран призывает нас открыть глаза на издевательский и лживый характер западной цивилизации, удовлетворяющей наши вожделения, но игнорирующей более глубокие запросы. Мы видим здесь, как может расширить свои горизонты историк современного общества. Даже если он полностью лишен религиозного сознания, он все-таки изображает, хочет того или нет, то, что Паскаль называл ничтожностью человека без бога.
Никому это не удалось лучше, чем ныне живущему крупному писателю, верней, писательнице, совершенно, если я не заблуждаюсь, равнодушной к вопросам религии, – Колетт. Кто не читал ее «Шери» и «Конец Шери»? Невозможно вообразить себе более гнусное, более ничтожное, более грязное человеческое существо. Мальчик, воспитанный ушедшими на покой старыми куртизанками, его любовная связь с женщиной климактерического возраста, которая годится ему в матери, атмосфера сладострастия и низменного распутства, полная слепота и глухота ко всему, кроме плотских побуждений... и однако, эти великолепные книги не только не унижают и не грязнят, но когда закрываешь их, не остается ничего похожего на ощущение тошнотворности и скверны, от которого страдаешь при чтении подобных непристойных сочинений. Своими старыми куртизанками, бездушным и гнусным красавчиком-мальчишкой Колетт потрясает до глубины души и, чуть ли не с омерзением показывая недолговечное чудо юности, вынуждает нас осознать трагическую скудость жизни тех, кто видит весь ее смысл в любви, столь же преходящей и бренной, как цель и предмет этой любви – плоть. Книги эти заставляют вспомнить о клоаках больших городов, которые изливаются в реки и нечистоты из которых, влекомые речным течением, достигают моря. Язычница, воспевающая плоть, Колетт неотвратимо приводит нас к богу.
Все это означает, что современный романист не может больше исследовать нравственные, социальные или религиозные конфликты, которыми жили его предшественники, что он начинает избегать даже изучения любви, во всяком случае такой, как ее понимали когда-то (ибо любовь подобна древней игре с устарелыми и слишком сложными правилами, которых нынешние молодые люди не признают); и получается, что у романиста не остается никаких иных тем, кроме плоти. Другие области для него закрыты, и он со все возрастающей дерзостью осмеливается вторгаться в пр о клятые земли, куда еще совсем недавно никто не решался забредать. Я имею в виду книги Жида и Пруста, книги Джойса, книги Колетт, Морана и Лакретеля * и, упоминая их здесь, лью воду на свою мельницу. Вне всякого сомнения, то, что отваживаются делать некоторые современные романисты, обращая взор к тайникам чувства, крайне важно; это лучше всех понял и выразил Жак Маритен в нескольких строках, где проблема ставится со всей ясностью. Я процитирую страницу из его эссе о Жане Жаке Руссо, опубликованного в книге, называющейся «Три реформатора»: «Руссо целит в нас, но не в голову, а чуть ниже сердца. Он растравляет в наших душах шрамы врожденной греховности, вызывает силы анархии и томления, дремлющие в каждом из нас, чудовищах, подобных ему... Он научил наш взгляд наслаждаться созерцанием самих себя и причащаться тому, что он там видит, научил находить прелесть в тайных синяках самого интимного чувства, которые в менее порочные века с дрожью открывали одному лишь господнему взору. Новейшей литературе и философии, которые тоже поражены им, потребуется много труда, чтобы обрести ту искренность и чистоту, которые некогда знал разум, обращавшийся к бытию. Есть некая тайна сердец, недоступная даже ангелам и открытая только духовному знанию Христа. Сейчас Фрейд пытается проникнуть в нее с помощью отмычек психологии. Христос взглянул в глаза женщине, взятой в прелюбодеянии, и проник в ее душу до самого дна; лишь он один мог сделать это, ничего не оскверняя. Ныне же любой романист беспардонно читает в этих несчастных глазах и тащит своего читателя заглянуть туда вместе с ним».
V
Я не знаю ничего, что может сильнее, чем эти строки, смутить человека, наделенного опасным даром творить живых людей, проникать в тайны сердец. Лишь в одном пункте я расхожусь с Жаком Маритеном: мне представляется величайшей несправедливостью возлагать всю ответственность на одного-единственного человека. Нет, пусть Руссо один из отцов нового анализа чувства, пусть он одним из первых был поражен недугами, переданными нам по наследству, движение, заставляющее нас обнародовать эти тайны, открывать сокровенные синяки, порождено не только им; ни для кого нет сомнения, что, даже если бы не было Руссо, современных романистов все равно бы влекло, тянуло в те же запретные сферы; путешественники знают, как с каждым днем все неуклонней сужается на карте мира зона неведомых земель.
И все же, хотя вечные конфликты, которыми роман жил более столетия, утратили в значительной мере свою остроту, это вовсе не значит, что их не существует; вселенная Морана еще не вся вселенная; есть провинции, где старые плотины пока прочны. Французская провинциальная семья в 1927 году дала бы Бальзаку столько сюжетов, что он мог бы разрабатывать их всю жизнь. Драмы еще существуют, и моему читателю известно, что я отношусь к тем, для кого они – источник наименее слабой части их творчества, однако часто оказывается, что писателя они не интересуют, да и не могут заинтересовать именно потому, что уже был Бальзак и бессчетное множество маленьких Бальзаков. Думаю, что иные критики, разрезая страницы новой книги, порой вздыхают: «Еще один Бальзак!» Как же мы теперь далеки от утверждения Брюнетьера *: «Уже более полувека хорошим романом в первую очередь считается тот, что похож на бальзаковский». Мы же, напротив, попытались бы сказать так: новый роман привлекает наше внимание лишь в той мере, в какой он далек от бальзаковского типа. Представьте себе лес, который исполин Бальзак вырубил чуть ли не под корень, затем, пришли другие и срубили все, что не тронул он, а нам остается только продекламировать вместе с Верленом:
Все выпито, все съедено! Ни слова! 1
1П. Верлен. Лирика. М., «Худож. лит.», 1969, с. 153. ( Пер. Б. Пастернака.)
Последователи Бальзака, и в частности самый известный из его литературных потомков, знаменитый Поль Бурже, изучали человека в его связи с семьей и обществом. Эти писатели составили себе крайне высокое представление о своем ремесле. Они жаждали служить людской общности, городу и миру; вся мощь их искусства была направлена против индивидуума. Бальзак же поначалу соперничал с отделом записи актов гражданского состояния и творил свой мир, не пытаясь ничего доказывать (по крайней мере в большинстве произведений, хотя имеются и исключения, например «Сельский врач»), и почти всегда писал без оглядки на свои политические убеждения; лишь задним числом он вывел из «Человеческой комедии» обязательные принципы общественной жизни. Его последователи пошли противоположной дорогой и проиллюстрировали своими романами вечные законы консервативной мудрости. Труд полезный, труд достойный всяческого восхищения, и он принес свои плоды (как в том убедился мир в 1914 году), хотя вполне возможно, что эти мои слова – реакция на гигантскую гекатомбу; но мы сегодня поражены грозным недугом – неспособностью поставить свое искусство на службу какому-нибудь делу, как бы ни было это дело возвышенно; мы более не воспринимаем роман, уклонившийся от своей цели– познания человека.
Без сомнения, Бурже с самого дебюта испытывал те же чувства и в посвящении г-ну Тэну «Андре Корнелиса» * сравнивал эту объемистую книгу с нравственным анатомическим атласом, составленным по самым последним данным науки о духе. Но сегодня мы опасаемся, что такой науки не существует. А более всего опасаемся использования в романе методов естествознания. Надо признать, что в школе г-на Тэна – это относится и к философии, и к литературе, – как ни в какой другой, господствовали общие места и бездоказательные утверждения; подчинившись пресловутой теории расы, среды и момента *, она никогда не обладала ни малейшим чувством вещи как таковой, вкусом к ней, никогда не интересовалась ни постижением индивидуума в его подлинности, ни изучением его как неповторимого, уникального существа. Леон Брюнсвик* в недавней статье о философской литературе девятнадцатого века приводит весьма своеобразное кредо г-на Тэна, взятое из его речи при вступлении в Академию. Тэн сказал:
«К счастью, как прежде, так и теперь в обществе существуют группы, а в каждой группе люди, сходные между собой, имеющие одинаковое происхождение, получившие одинаковое воспитание, руководствующиеся одинаковыми интересами, имеющие одинаковые потребности, вкусы, привычки, одинаковый уровень культуры и одинаковую сущность. Достаточно понять одного, чтобы понять и всех остальных, поскольку в любой науке каждый класс предметов мы изучаем по отдельным образцам».
Невозможно зайти дальше в презрении к индивидуальным различиям, на которых зиждется современный роман, и Леон Брюнсвик с полным основанием противопоставляет Тэну одну-единственную строку из Паскаля: «Чем умнее человек, тем больше своеобычности он находит во всяком, с кем сообщается» 1. Именно поэтому наше поколение так ополчается против школы Тэна, и нам представляется, что те, кто младше нас, пойдут в этом смысле еще дальше. Те, кто младше, а также некоторые из тех, кто старше: последние произведения Анри Бордо * свидетельствуют о глубинном усилении этой тенденции.
1Б. Паскаль. Мысли. – В кн.: Французские моралисты. БВЛ. М., «Худож. лит.», с. 114. ( Пер. Э. Линецкой.)
Прошлым летом молодой журнал «Кайе дю муа» объединил под общим заглавием «Суд совести» признания многих молодых людей, в большинстве своем еще не дебютировавших в литературе. Если Жак Маритен их читал, то мог понять, насколько непреодолим инстинкт, отвращающий нас и тех, кто следует за нами, от риторического, воинствующего романа, герои которого, являющиеся представителями нации, класса или поколения, мобилизованы на службу той или иной идеологии; он мог осознать силу порыва, толкающего нас совсем в другом направлении и с каждым днем хоть немного да приближающего к тайне сердец – каждого сердца, которое мы рассматриваем как целый мир, как вселенную, отличную от всех прочих, наконец, как пустыню. Мы утратили – возможно, это великое несчастье – способность возмущаться и испытывать отвращение; мы смеем читать в самых несчастных глазах, потому что ничто человеческое нас не возмущает и не вызывает отвращения.
Вот что, например, пишет Ален Лемьер, один из молодых сотрудников «Кайе дю муа»:
«Я верю только в четкую реальность, в то, что можно взять в руки, и живу прежде всего в самом себе. Когда я пишу, для меня главное передать объемность вещей, их теплоту, плотность, мягкость или жесткость. Передать неподдельную весомость жизни. Мне хочется, чтобы читатель почувствовал прикосновение к ним. Я пишу лишь для осязания. Но я хочу пробиться за внешние контуры. Психофизиология дарит наслаждение работы внутри живой плоти, наслаждение ощущать под пальцами плоть, живущую собственной органической, животной жизнью. Нет выше радости, чем ваять живое. Дать плоти жизнь, наполнить ее кровью. И почувствовать, как сотворенное по твоему хотению создание ускользает от тебя, потому что повинуется, как все живое, законам природы. И плевать на отвратительные частности, вызывающие брезгливость у писателей-идеалистов. Нет благородных тем, есть только жизнь и ее потребности».








