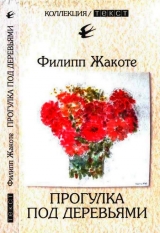
Текст книги "Прогулка под деревьями"
Автор книги: Филипп Жакоте
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Примеры
Житель ГриньянаБывает так тяжело на душе, что даешь себе слово делать и в особенности писать только то, что способно в действительности и по самому большому счету принести облегчение. Достижимо ли это простым описанием конкретного природного ландшафта? Вот о чем я задумываюсь, приступая к этим строкам. Но ничто другое сейчас по-настоящему меня не занимает, и, если я заблуждаюсь, – тем хуже для меня.
Со стороны может показаться, что я знаю законы, позволяющие совершить правильный выбор, полагаюсь на абсолютные ценности. Нет; но как бы объяснить? Это как если бы движение души навстречу невыразимой пока истине уже наполовину являло эту истину, питало бы ее; как если бы мы пускались в путь, подталкиваемые чем-то, и сам этот путь уже и был целью, или, вернее, проявлял ее. Нелегкий путь со скрытыми в тумане этапами.
Ну что же, снова в дорогу! Я пеший странник, согбенный под грузом сомнений. Но и меня порой подхватывает и возносит ввысь блаженное дуновение.
* * *
От меня вы точно ничего не услышите ни об этом замке, что не без некоторого величия, но и слегка заносчиво красуется над нашими крышами; ни о даме, чье имя прославило городок, а теперь Живет в ресторанных вывесках. У меня никогда не было вкуса к истории – ни литературной, ни любой другой. Я люблю только эту землю, могучую поступь смены дня и ночи, – и в этот самый миг я вижу в окно, как тень зимнего вечера медленно наползает на деревья, сады, виноградники, скалы, и скоро все это превратится в непроницаемую громаду тьмы, где кружат огни фар, в то время как высоко в небе еще медлит просвет, невесомая глубь, без единого облачка… Почти безнадежное дело – пытаться восславить эти чудные силы… но вот хоть какой-то намек на то, что я так люблю в этих местах.
* * *
Я не очень сведущ в административных делениях, но догадываюсь, что где-то здесь начинаются земли Прованса. Тут пока не растут оливы (их погубил бы мистраль), но зато есть скалистые холмы, изобильно поросшие каменным дубом, – это дерево тощее, с почти черною листвой, никогда не трепещет оно на ветру, дерево скаредное и древнее, благосклонное к трюфелям; а еще щетинистые можжевельники, узловатый тимьян, желтый дрок; здесь растут кустарники, не деревья, и всегда они сухи, корявы, не дают тени, лиственного шелеста, но зато как благоухают; рыхлую почву покрывают серые лишайники, усыпанные тысячами спор, это похоже на крошечные колесики древесного механизма; изредка, то там, то здесь, мелькнет какой-нибудь особо розовый цветочек, и камни повсюду. Дальше, на склонах, колеблются пинии. Потом, когда спускаешься ниже, все меняется.
Ибо рельеф этой местности подвижен; ни равнина, ни дол, но сменяющие друг друга холмы и впадины, и среди этих впадин кончается провинция Дофине. Мелкие речушки или прозрачные ручьи бегут вдоль берегов, поросших густой травой; даже болотца вечерами поблескивают за ивовыми и тополиными оградами, а над ними стремительно кружатся ласточки… Можно сказать, край пастухов и нимф. Бедный народ, суровые поджарые пастухи – и, словно для того, чтобы насытить их ночи, до самых глубин сотрясаемые яростным ветром, – эти женственные холмы, лиственная сень, нимфы; быть может, их связь и есть одна из тайн этого края. Он утоляет то нашу жажду буйства, то мечту о самозабвенном блаженстве. Я бодрым шагом иду по каменистым гребням, возвышенностям, окруженный воздушным потоком, а взгляд летит от холма к холму, достигая тончайшей дымки, где горы превращаются в туманное дыхание; или медленно спускаюсь в долину, иду вдоль садов, дивясь на ручьистые серебряные косы ив; и вот уже снова спускается вечер…
* * *
И снова – что сказать перед этим окном, вот уже два года – нашим главным сокровищем? Однако за это время мне часто снились катаклизмы: звезды падали наземь, на глазах гасло солнце, бунтующие океаны покидали свои берега; и как часто я думал о физическом страдании (не говоря уже о неодолимой усталости, нашем общем уделе), немыслимом ужасе слабого, мертвенно-бледного человечка, которого с каждой секундой, с каждой каплей крови покидает жизнь, о полной его беспомощности, о попытках борьбы – судороги листа бумаги, брошенного в огонь… Эти мучительные картины, или, вернее, эти малые вестники неизмеримо больших страданий, которые будут мучительней сотен нанизанных одна на другую бессонных ночей, – неизбывно живут во мне, и сколько бы я ни писал о красоте этих мест, я не буду лицемерно или из вежливости умалчивать о страдании. Но вот я опять стою у окна и, хотя уже совсем стемнело, еще различаю, как на западе густеет зелень луга, как последний луч вытягивается, истончается и, уподобившись наконец взгляду из-под опущенных век, тем вернее касается тайных глубин моего существа. Как будто – выскажу наивно и прямолинейно пришедший в голову образ – непомерная тяжесть соседствует с неуловимой хрупкостью, горная лавина – с поступью нимфы, разящий ужас с чуть заметным скольжением воды среди тростников…
* * *
К этим образам влечет меня, конечно, как это ни безрассудно, чудная греза, витающая над этим краем. А теперь мне лучше помолчать – до поры до времени. Добавлю только одно: хотелось бы сначала, прежде чем говорить дальше, вникнуть в смысл этих зимних предрассветных часов, когда едва заметный снежный и пенный свет начинает сочиться на булыжники, течь вдоль каменных плит крутых улочек, вдоль стен, чтобы затмить уличные фонари или принять у них эстафету – через несколько минут все они разом погаснут. И пусть каждый примется за свое дело!
Свет водит моей рукойС утра свет говорит, а я слушаю его речи, уже не задумываясь, правильно ли поступаю и как выгляжу при этом со стороны. Поначалу он как юная девушка, стучащая у каждой двери, будящая обитателей деревни, – свежая прохлада струится по камням, омывая стены домов, запятнанных ночной тьмой, – утреннее поливание улиц, омовение души. Сегодня с утра свет рассказывает мне лишь о чистоте.
* * *
«И философский свет, льющийся из окна, наполняет меня ликованьем…» Сейчас, когда солнце чуть приподнялось над горизонтом, мне вспоминается эта фраза Гёльдерлина из письма Бёлендорфу от второго декабря 1802-го, то есть незадолго до окончательного помутнения рассудка; и мне вдруг открылся их простой и подлинный смысл, – возможно, потому, что я не успел задуматься над нею, а вдруг увидел все напрямую. Ведь утренний свет не имеет ничего общего с огнем; еще меньше похож он на мерцание фонаря; это и не юный блеск солнца, он не напоминает ни о богах, ни о человеческом лице, пусть даже самом светлом и безмерно любимом. Он скорее (но опять боюсь спугнуть его своими словами) свойство вещей, а не их оболочка – никакие не белоснежные ткани и не блещущие серебром доспехи, но прозрачность, кристальная ясность; ясность не только неба, но и всего пространства, всего, что ни есть в пространстве, – далеких, парящих в воздухе гор, тонких облаков над их вершинами, деревьев, трав, земли, даже поленницы у стены дома; скорее отсвет хрусталя, нежели сам хрусталь, которому по-настоящему дано сверкать лишь в Альпах. Удивительно – ни одно дуновение не шевелит листву, свет льется неподвижно, отвесно, а все так безмятежно дышит. Что ж! Как бы смешно это ни прозвучало, но мне кажется сейчас, что передо мной сияет «душа» вещей; что мир озарен изнутри, явлен «во всей своей славе». Тем же светом наполнены многие стихи Гёльдерлина.
Конечно, нельзя утверждать, что это наблюдение целиком соответствует истине; но ведь не исключено, что иногда именно иллюзия может косвенно указать на ту правду, которая невыразима формально точными, прямыми словами?
* * *
К полудню даже самые дальние гребни гор воинственно выдвигаются вперед.
* * *
Если бы я не знал с детства, что вечер – самое таинственное и чудное время суток, то убедился бы в этом сегодня. Что происходит сейчас в подлеске дубравы? А там, дальше, в густой траве, среди ив – поди узнай! Темны, о как темны зеленые просторы, доходящие до невидимых гор, где на вершинах загораются огни, вестники близкой ночи, я буду бесконечно вопрошать вашу глубину, как будто она не просто материальная глубь простора, его цветов и оттенков, но сама сокровенность души, нет, я не знаю, что это на самом деле, и не в моей власти понять; но я вижу, как из этой влажной, таинственной, благоуханной глубины медленно встает, распрямляется, выходит, уж и не знаю, из какого чудовищно униженного состояния, та умершая дама и движется навстречу в шелковых складках своего черного платья; и если бы я больше напряг слух (но усталость и изумление мне мешают), то услышал бы знакомый голос, заветное слово, и поспешил бы ему подчиниться, не потому ли, что этот час – так было вчера и пребудет всегда – особое время, когда нужно принимать мир со всеми его непостижимыми тайнами?
Приближение к горамВдали, у самого горизонта, безмятежно покоится еще одно чудо, загадка, которая является нам каждый день, словно ждет, чтобы ее разгадали. Но слова влекут за собой шлейф машинальных образов, которые сперва следует отсечь.
* * *
Начать с того, что они не похожи на Альпы, здесь нет и намека на хаос или великолепие, никаких поползновений на величие, мнимой победительности, ни малейшей навязчивой идеи чистоты. Я сам родился в Альпах, даже по-своему люблю их: но не за то, что они являются «моральным символом»[3]3
Для Жакоте «море» воспринимается как «язычество», а горы – это «пуританство».
[Закрыть], а за магические холодные бездны, где воздух закручивается в воронки, за снежные пристанища духов, зыбкие мистики в ледяных тучах брызг; я помню горные потоки под ажурными сводами лиственниц, вихри бури над хребтов перевала; только захоти, я мог бы долго блуждать там, заново обретая звонкий стеклянный воздух, замки из камня, дерева и сланца, нависающие над бездной; мелкие звездочки горечавки, кристаллы и каскады… но я как раз и хотел сказать, что не буду касаться этих феерий.
* * *
А здесь – все мирно, битвы давно отшумели, ржавые доспехи и руины замков покоятся под слоем земли, поросли травой – и дремлющий горизонт.
* * *
Что же вы такое, мои горы? Последнее напоминание (скоро сотрется и оно) о минувшем великом неистовстве природы, временная передышка, отдых земли, движение по нисходящей… Но все это – ваша история, меня же интересует настоящее. Я гляжу на вас каждый день; и напрасно говорю себе: что мне за дело до этих гор, столько вокруг насущного, близкого, но снова, день за днем, я смотрю на вас, и никогда вы не перестаете удивлять.
Именно из-за близости гор у меня на родине любят говорить: «Мы растем, потому что тянемся к небу» – так иные думают, что ограда церкви, защищая от мира, тем самым приближает к Богу. Но эти невысокие горы провинции Дром, кажется, находятся в совсем других отношениях с небом; да и само небо ведет себя, если можно так выразиться, не совсем «по-христиански». И я вижу, что именно в тонкой линии, одновременно и соединяющей, и разделяющей небо и землю, заключена большая часть их власти и что об этом стоит подумать. Но что же такое воздух?
Ах! Однажды и я обрету такой живой и певучий язык, чтобы взвиться жаворонком и царить там в поэтическом ликовании! Неодолима наша тяга к облачным просветам! Но сегодня еще я просто сижу у окна и смотрю, мечтаю, размышляю… Воздух манит и зовет; он не требует, чтобы мы ему коленопреклоненно молились, он влечет к веселью, горению, тянет ввысь; он превращает нас в легких птиц. Подобно слоистой луковице, воздух составлен из множества прозрачных витков спирали, или он – анфилада прозрачных дверей, вечный призыв к странствию… А еще он – место, где все вольготно движется, снует, пересекается. Можно ли не любить обитель птиц? Однако чтобы воздух не стал для нас бездной, и нужны, быть может, в самом его основании эти мощные опоры, эти светлящие его линии, такие нежные, мягкие, но не вялые, бесконечно ясные и покойные. Словно уснувшая юная женщина. Она блаженно дремлет в разгар дня перед своим окном, дышит тихонько; она в облаке света. Свет на губах ее. Невозможно пройти мимо этих губ, никто не знает почему, в мире меняется все, но не это. Горы Нижнего Дрома тоже колеблет облако воздушных дуновений, и взгляд не может от них оторваться.
* * *
Каждое время суток несет перемены; идя вслед за светом, я превращаюсь из богача в бедняка. Стол мира накрыт изобильно – золотые приборы, хрусталь, блюда дымятся и благоухают от зари до полудня; но вот напитки пролиты наземь, хмельные сотрапезники дремлют, все стихло… Выходите теперь из лесов, обитых деревом залов дворца, вы, безмолвные прислужники Зримого; пришло время уносить все это золото на запад, уходить, сверкая огненными ливреями. Огни ночного празднества сияют вдали, под кровом листвы.
* * *
Этот причудливый и раскидистый образ я позволил себе набросать торопливыми мазками, пойдя на поводу энтузиазма. Но теперь должен вернуться назад.
В час, когда горы видны лучше всего, когда они ближе и, если так можно выразиться, реальнее всего, то есть в ясный день около полудня, я догадываюсь, что они мне напоминают – невысокие овчарни, выстроенные на равнинах или в лощинах, в каменистых, холодных, продуваемых ветром уголках, где бегут тонкие сверкающие ручьи. Порой, в ноябре, мимо нашего дома гонят стада с летних пастбищ, тысячи животных в сопровождении двух-трех пастухов, они проводят ночи под открытым небом, худо-бедно защищенные от холода какой-нибудь каменной оградой, у костра. Почему это так трогает нас, ведь нельзя сказать, что мы как-то особенно ценим прошлое, напротив, мы скорее остерегаемся насильственно поддерживаемых «обычаев»? Животные цвета камней меж каменных стен, цвета мешковины (край этот суров, ничуть не многоцветен), возможно, мы чувствуем в их перемещении отголоски каких-то древних обрядов; эти пастухи и их стада почти магически связаны с землей, они идут как рыба на нерест, движутся как звезды по небосклону, и мы приписываем этому предустановленному порядку безупречность, какой, быть может, и не существует… (В любом случае нас волнуют всяческие переходы, все то, что вовлекает дух в некое заданное движение; не исключено, что одно из наших самых горячих желаний, как это ни странно, состоит в том, чтобы жизнь превратилась в упорядоченную церемонию, но основанную не на внешних законах, а на внутренней необходимости…)
* * *
Скаты, округлости – движение словно нарисовано на фоне совершенно неподвижной земли; поля оплывают, текут вниз по склонам со своими пластами и комьями земли, травами, тропами, к дальней впадине невидной отсюда реки, а затем, чуть различимо, земля снова движется кверху и обрывается у кромки неба – свет словно лежит в колыбели, покоится в чаше дня… Есть люди, которые по-настоящему легко дышат лишь у грани беспредельного; я же предпочитаю это пространство, ограниченное, но не замкнутое горами, как можно любить каменную изгородь сада – одновременно за то, что за нею лежит неведомое, и за то, что она задерживает взгляд; когда мы смотрим на горы, то всегда возникает более или менее осознанная мысль о горном хребте, перевале, и тяга к тому, что лежит за ним, к невидимому…
* * *
Но наступает миг, когда подошвы гор растворяются в сиянии и видны только вершины, как на китайских картинах, как я их себе представляю; и тогда, сколько бы я с нею ни боролся, возникает мысль о «жилище богов» – но только не в религиозном и тем более не в мифологическом смысле, – это связано с ощущением легкости, высоты и незримости; боги воздуха, боги-птицы. И я все больше уверяюсь в том, что самый чарующий для меня миг созерцания гор – это когда они почти невидимы: их парящая легкость преследует меня неотступно. Вот, вот он, сладостный сердцу мираж: тяжкие громады стали как клубы дыма. Наши края окружают крепостные стены, но они тают как бивачный дым, становятся прозрачным шатром, а мы больше не пленники, хотя и остаемся под охраной. Холмистый простор, а вокруг бьются по ветру белые полотнища, и за ними – еще много, много воздушного пространства… Мы обитаем среди снов, дремлющие вокруг божественные существа тихонько дышат…
* * *
Горы с такими привычными, мягкими, округлыми, но совсем невялыми линиями, гармонично сменяющие друг друга. Невесомые горы, скалистые облака… Неужели и то, что волнует меня больше всего, – такая же иллюзия?
Вот об этом я все время и думаю. Я любуюсь природой не больше, чем любой работающий в поле крестьянин; наши дни настолько полны трудов и забот, что порой я едва успеваю мельком посмотреть в окно или взглянуть по сторонам на пути в лавку или за рубкой дров для утренней растопки – я почти уверен, что так же (пусть менее осознанно) поступает большинство местных жителей; они твердо знают, что их земля прекрасна, и даже занятые чем-то бесконечно более важным и необходимым, думаю, все равно постоянно ощущают присутствие гор, одного из редких украшений своей жизни. Тут нет речи о каком-то исключительном переживании; и если мне кажется, что я коснулся чего-то важного, отметив, что больше всего меня поразило превращение тяжести в легкое дуновение, если мир вокруг стал зримым воплощением мечты о легкости и высоте, неотступно преследующей меня сегодня, – разве я не имею права опасаться, что поверил в мираж? От тех мгновений, когда я созерцал горы, когда они потрясли меня, заново наполнив удивленной радостью бытия в мире, – мне остались только слова, чуть раньше выведенные моим пером – «невесомые горы», «скалы, ставшие дымкой», – образы, через которые я пытался выговорить правду – если не о мире или обо мне самом, то, быть может, – о нашей взаимосвязи.
* * *
Но пока что, любовь моя, если я еще смею называть вас так, ведь не всегда я обхожусь с вами со всей нежностью настоящей любви, отдохните еще немного; последний обездоленный, лишенный дара слова, в пыли и лохмотьях, и тот посвящен в тайну этих склонов, в чары этих сияющих ночами долин, знает эти рухнувшие, позабытые, блаженные в своем упадке громады; и вот дождь уже оросил траву, там, под деревьями, влажные испарения туманят взор, прачечный жар в потайных складках гор.
По лунному следуПочти абсолютное молчание, воцаряющееся порой на исходе ночи даже в большом городе, никогда не было для меня отрадно, напротив, наводило ужас, и когда-нибудь я попытаюсь описать эти моменты, порой до странности тяжелые: словно в невидимой, всегда защищающей нас стене вдруг обнаружилась брешь, к которой вплотную подтягиваются (но пока не проникли внутрь) воинства небытия, огромные обволакивающе-ватные призраки. И совсем иначе было в ту лунную ночь, когда тишина стала как бы другим наименованием пространства, – редкие звуки, или, скорее, музыкальные ноты, различимые в яме ночи, и прежде всего прерывный крик совы, уходили вверх, казалось, лишь затем, чтобы могли зазвучать дали, расстояния и чтобы из этих нот выстроился огромный, легкий и прозрачный дом. Тому же служили звезды; я было сравнил их со сверкающей растянутой над головой сетью, но тут же понял, что этот образ был слишком конкретным, и не так важно, что банальным; но и представить их всего лишь абстрактными знаками, числами, фигурами тоже не мог. Я был уверен только в одном – в их связи с криками сов… Но сначала скажу о других составляющих этой ночи.
* * *
Гора Ванту уже стала облаком пара, и оно в свою очередь было лишь намеком на нечто дальнее, последней различимой границей земли. Но на деле всё, что можно было различить в ту ночь – дерево посреди поля, стог сена, один-два дома и дальние холмы, – каждый видимый предмет, светлый или темный в зависимости от падения лунного луча, явился не просто дневным знакомцем, застигнутым врасплох в ночном одеянии, но настоящим созданием лунного света; и со всем увиденным, с тишиной, редкими звездами и листвой, в моем очарованном уме соединились образы, но ни одним я не был доволен: я думал о ледниках, ледяных мирах, о которых хранил смутные воспоминания, но легкий ветерок, доносивший к осиянным стенам дома аромат скошенной травы, сдувал прочь холодные картины; я задумывался о тумане, но ведь все окружающее проступало предельно ясно; вспоминал о прохладе горных потоков, которые всегда любил (водяные молнии, рассекающие скалы), но это сравнение своим избыточным буйством нарушало предельно спокойный пейзаж. Слова «легкий», «светлый», «прозрачный» возвращались без конца вместе с образами стихий – воздуха, воды и света; но произнести эти перегруженные значениями слова было недостаточно, следовало выстроить их в нужном порядке, создать между ними мелодические – и не слишком мелодические – интервалы. Нужно было искать дальше.
* * *
О чем же еще думал я посреди этого блаженства? Ну что ж! Пусть это покажется полным абсурдом, но мне явилась мысль о так называемом «царстве мертвых»; быть может, я погряз в грезах, поддался всем возможным иллюзиям, но коль скоро сам этот соблазн был частью лунной ночи, а я хотел понять ее истинный смысл, я был обязан прислушаться и к нему. Итак, на миг я, словно сказочный герой, опрометчиво распахнул доселе неведомую или запретную дверь и, не теряя присутствия духа, вдруг увидал перед собой потусторонний мир; там не было ничего мрачно-загробного, ни благочестиво-лубочного; то, что я увидел, не походило ни на одно привычное представление о мире ином, и я подчеркиваю, что перенесся туда легко, как в сказке.
Все вдруг утратило телесность; по крайней мере, исчезли казавшиеся непреложными свойства тел – влажность, тяжесть, утомляемость, старение, тление, – они были от всего этого свободны, настоящие птицы; но эта свобода не делала их Призрачными химерами, во всяком случае, перед моими глазами не колебались гротесковые дымные конструкции. Как и звезды, повторяю, эти тела не были ни видениями, ни абстрактными понятиями; подобно великолепной, хоть и почти невидимой горе Ванту, они принадлежали земле, но лунный свет все-таки изменил их. Мне показалось, что теперь я лучше постиг связанные с ними образы и свою спокойную радость при виде их. Та же земля – но свободней, прозрачней, умиротворенней; эманация здешнего мира, но при этом нечто более сокровенное, внутренняя жизнь самой жизни, воплощения света, парящие между закатом и рассветом, печаль и упоение, страна мертвых, возможно, с оттенком безотрадности, но не без ужасов ада, где каждый звук казался абсолютно уместным, необходимым, – не пришел ли я по лунному следу в самое сердце стиха? Я без страха шагнул в траву, готовый к любым переменам, перерождениям, метаморфозам, какие только могут случиться.








