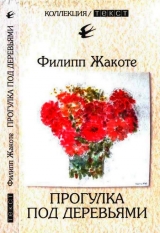
Текст книги "Прогулка под деревьями"
Автор книги: Филипп Жакоте
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Кажется, в особом мире, очерченном этими точками, мы могли бы еще на что-то решиться, чем-то рискнуть. Такие места – наши помощники. Не зря все больше и больше людей ищут их, порой даже не зная зачем. Там мы, наконец, не чувствуем себя чужими пространству. Только там мы начинаем дышать полной грудью, верить, что жизнь возможна. В каком-то смысле на нас ложится благословение этих мест, и наше существование уже не так фальшиво, как у прочих. Отсюда и странная свобода от любых сегодняшних треволнений, от множества страхов. Что ни говори, в этом есть немало преимуществ.
Безгрешность и культура: лучшее в культуре всегда хранит отсвет первоначальной безгрешности, а не противостоит ей. Дорогие нам труды человеческих рук тоже связаны с заповедными «местами», пусть они – другого порядка. Вот она единственная существующая культура – та, которая хранит и передает безгрешное, первородное. Все остальное должно называться иначе.
В нашем молчании копятся сокровища; в нашем одиночестве зреет воля его преодолеть.
июнь
Долгие, теплеющие день за днем вечера, то розовые, то оранжевые луны, и мир – голубой, невесомый, переполненный нежностью.
Переполненный ужасом.
* * *
Они и в самом деле переполнены нежностью, какой-то неожиданной добротой. Эти ночи при полной луне, скорее желтой, чем розовой или оранжевой, когда деревья, кажется, дышат под слабым ветром, – они словно бальзам. Их тепло, покой умиротворяют. Медленный, незаметный подъем золотисто-ржаного шара; дыхание листьев; кузнечики, совы, соловьи – и никаких других звуков. Так погрузимся в эту млечную воду, хотя бы на миг, пока нас отсюда не вырвали. Подремлем, поговорим в этой воздушной зыбке.
* * *
Ключевая вода мысли: слова, омывающие душу.
* * *
Нагрузка переживания на слово: она, вероятно, тем больше, чем глубже скрыта. В духе того, что Шагал говорил мне о Моцарте: чем его музыка светлее, тем ощутимее в ней смерть. Не уверен, так ли оно, но мысль по-своему верная и прекрасная. Закон противоречия: чем больше литература хочет быть чистым вдохновением, тем многословнее становится (сюрреалисты). Это, понятно, не значит, что многословие само по себе придаст ей вдохновения.
* * *
Удерживать вещи на положенных местах, и пусть смерть попусту не покушается на жизнь. Необходимость, благотворность границ (перечитывая, с абсолютно прежним восхищением, Анри Мишо).
Пусть эти пределы будут похожи на древние ограды здешних лесов и полей: старинные, человечные, наводящие на мысль не столько о препятствии, запрете, сколько о своеобразном законе и порядке, плодотворном без педантизма. Тайные преграды[50]50
«Тайные преграды» – загадочное название клавесинной сюиты Куперена, с его легкой руки стало впоследствии едва ли не крылатым (так названа картина Р. Магритта, книга стихов О. Ларронда, композиция для флейты и оркестра Л. Франческони и др.).
[Закрыть]. Плодоносная мера.
* * *
Завороженные, прозрачные вечера, и бывают минуты, когда над брызжущими веером или зонтиком струями поливалок вдруг видишь, что небо на востоке светится сквозь листья, как серебро: одного вещества с водой. Когда цвета исчезают.
октябрь
Идеальная книга – вовсе не сборник сплошных стихов: они могут появляться в ней изредка, в ничем не замутненные минуты, как праздничные даты в словесном календаре (что-то вроде пасторальных сцен в «Дон Кихоте»?). На самом деле такая книга создается из множества книг разных авторов, среди которых каждый может быть силен лишь в чем-то одном и написать всего несколько страниц.
* * *
«Волокна» Лейриса[51]51
Мишель Лейрис (1901–1990) – французский поэт, прозаик, этнограф-африканист, в 1920–1930-х гг. близок к сюрреализму; имеется в виду один из томов его автобиографической тетралогии «Правила игры» (1948–1976).
[Закрыть]: вот человек, который честно признается, что разорван между красотой и истиной. Но может быть, у него ложное представление о красоте? Как верный ученик Бретона, унаследовавший большинство его склонностей, он помещает поэзию в область off limits, иначе говоря, в некотором смысле вне закона. А там ли ей место?
* * *
«Федон»: «Когда ты говоришь неправильно, это не только само по себе скверно, но и душе причиняет зло» (115е)[52]52
Перевод С. П. Маркиша.
[Закрыть].
ноябрь
«Федон». Как будто совершенно необходимо, чтобы некая точка всегда оставалась неуловимой, ускользала от усилий мысли, сохраняла поэтическую неопределенность: убегающий луч.
Когда перечитываешь «Федона», убеждает не ход рассуждений, напоминающий скорее ловкий трюк, не миф, который может показаться наивным; захватывает сам пример Сократа, достигающего редкой высоты (таким же его видишь в ночь перед смертью, в «Пире», или в другие минуты жизни, где он всегда остается воплощением улыбающегося триумфа мысли). Захватывает именно это (пример одного из тех «единственных свидетелей», которым будет потом верить Паскаль); кроме того, притягивает мотив очищения души, которую признают бессмертной лишь в той мере, в какой она стремится к чистоте, а божественной – в той мере, в какой она связана с божественным. Здесь и особый порыв к высокому, и зерно христианского осуждения всего телесного. Отдельная вечность для философов?
* * *
Повседневность: разжечь огонь (а он с первого раза не занимается, дрова отсырели, часть приходится вынуть, на это тратится время), подумать о невыученных уроках детей, о просроченной квитанции, о визите к больному и т. п. Может ли среди всего этого уместиться поэзия? Либо она украшение, либо растворена в любом из этих шагов и действий: так понимала религию Симона Вайль, так понимает поэзию Мишель Деги[53]53
Мишель Деги (род. в 1930 г.) – французский поэт, переводчик, эссеист, Жакоте рецензировал его первые книги.
[Закрыть], так я сам хотел бы ее понимать. Но и здесь остается опасность искусственности, «нарочитой», натужной сакрализации. Может быть, стоило бы согласиться на еще более скромное, промежуточное место – поэзии, которая в редкие минуты озаряет жизнь как падающий снег: хорошо еще, если на нем задержат взгляд, чтобы заметить. Вероятно, стоило бы удовлетвориться и оставить поэзию исключением, такова ведь ее природа. Не впадать ни в ту, ни в другую крайность, а делать то, что можешь, хуже или лучше. Иначе – риск сектантской серьезности, соблазн превратить поэзию в священничество, отделить себя от других, предаться «молитвословию» (что порой смущает у Рильке). Во всяком случае, не скрывать, что ты слаб.
декабрь
Странно: на исходе этих глубоких, безоблачных зимних ночей, когда несколько звезд над чуть тронутым желтизной горизонтом сияют, как ни в какую другую пору года, мысли вдруг сами собой переходят на ясли, волхвов, библейский Восток. Зимний сумрак уже навевал мне эти образы в моих «Пейзажах с пропавшими фигурами». Вчера или позавчера явление повторилось, как будто те образы засели куда глубже, чем я думал, причем именно образы, я ведь никогда не был в Израиле. Старые детские мечты о ласковой, бархатной, глубокой ночи, озаренной серебряными или золотыми звездами. Узкий полумесяц в небе довершает сходство, доводя его до пронзительной остроты; но в воображаемой памяти встает скорее Аравия, чем Иудея (слово «Аравия», его магическая мощь у Шекспира, у Гонгоры).
Думаю о колдовских чарах, которыми опутывало меня, ребенка, иллюстрированное издание избранных сказок «Тысячи и одной ночи», – чарах, которые не раз возвращались ко мне и потом, иначе, но ничуть не слабее. И еще одна странность: ни Запад, ни Африка никогда не действовали на меня с такой силой. Напротив, колдовство тем сильней, чем восточнее я оказываюсь: Вена, Прага, Богемия, Польша, Москва, Тибет, Китай (или Иудея, а потом Персия). Почему? Может быть, одна из причин – в отсутствии у первых и наличии у вторых какой-то по-особому утонченной культуры. А другая причина – в чувстве, что наши корни на Востоке. Та волшебная власть, которую имели надо мной иллюстрации к «Мишелю Строгову»[54]54
Роман Жюля Верна (1876).
[Закрыть] в дивном издании Этцеля, – не знаю, с чем ее сравнить, чтобы дать о ней хоть какое-то представление.
* * *
И вдруг, в глубине этой заросшей тростником равнины – гора Ванту, висящая прямо в воздухе, как будто возносимая сквозным пламенем костра, розовеющего костра деревьев. Капля света среди нашего человечьего ада!
* * *
Психиатрическая лечебница. У самых молодых взгляд, мне показалось, более потерянный, пронзительный; застылость и неуверенность разом, застылость, «чтобы не потеряться вконец».
В чем-то вроде гостиничного номера на первом этаже, через застекленную, кое-как затянутую цветастыми шторами дверь видишь больных: одни остолбенели на месте, другие, наоборот, чересчур быстро ходят из угла в угол – мир «излишка» и «недобора».
Достаточно любого пустяка, чтобы перекинутый между нами мостик зашатался и рухнул. И ровно так же ничего не стоит столкнуться в подобных местах с безнадежностью, бедой, унижением. Возвращаешься потом к книгам, раскрываешь журнал и видишь ученых людей, по-ученому рассуждающих о смерти, о языке.
1967
февраль
Дождь, пенье птиц, первые цветы миндаля: от всего вместе исходит ощущение счастья. Может быть, именно с таким чувством улавливаешь общее в разных голосах единого хора? Или видишь, как из одного ствола рождается бесчисленное множество листьев? Тысячи, тысячи трелей, тысячи соцветий, тысячи звонких водяных шаров – и один мир, один дом?
май
Пролетающие над округой самолеты ничем с ней не связаны – вроде чужих мыслей или строчек на незнакомом наречии. Они не вспахивают небо. Можно ли сказать, что они «летят»? В них не чувствуется свободы. Проносятся, как пули. Полосуют воздух. И единственный их след – рев моторов.
* * *
Деревья, вставшие кружком: как в них смешаны тень и свет, заслоны и скважины, движение и неподвижность. Ларцы ветра, соты воздуха, купы воздуха. Вечно в движении, прикованные к одному месту. Так нас, наверно, приковывает смерть.
июнь
Плотин: «Будем же видеть в этих убийствах, этих мертвецах, этом захвате и разграблении городов лишь театральное представление; все это – не более чем перемена сцен, перемена костюмов, жалобы и стоны ведущих актеров. Потому что во всех обстоятельствах реальной жизни вовсе не внутренняя душа каждого из нас, а всего лишь ее тень, внешний человек стонет, жалуется и исполняет все подобные роли в том гигантском театре со многими площадками, который представляет собой наша земля» («О Провидении», 15). Эти слова отталкивают, но, быть может, Плотин и вправду презирал страдание и смерть как простую игру, ведь ему был открыт такой свет, который лучится еще и сегодня.
* * *
Он же: «…этот глаз, наполненный тем, что созерцает, это зрение, которому всегда предстоит образ, Эрос, чье имя, вероятно, происходит от того, что существованием своим он обязан зрению (orasis)…» («О Любви», 3).
июль
Кто первым назвал землю родиной? Кто-нибудь из «язычников»? Гомер, Пиндар, Эсхил?
октябрь
Я всегда по-особому чувствовал итальянский язык Петрарки, при том что, снова и снова открывая его книги, едва понимаю написанное. Я ощущаю этот язык – ощущаю непосредственно, до всякой рефлексии и анализа – как чистое и сквозистое целое, словно бы составленное из звучных скважин (точно идешь по галереям из одного пространства и стекла). Нежное и вместе с тем кристальное звучание. Но прежде всего – сквозящее небесной беспредельностью. Ячейки. Сеть слов, которая улавливает небо – или процеживает его, как это делают деревья?
Язык, неотрывный от просторов Тосканы; такими мне когда-то на Майорке привиделись строки Сан-Хуана де ла Круса.
1968
май
Жорж Батай[55]55
Жорж Батай (1897–1962) – французский поэт, прозаик, разносторонний эссеист, исследователь предельного опыта насилия, эроса и смерти, во многом определивший пути развития французской мысли и словесности 2-й половины XX в.
[Закрыть]: «И в природе, и в человеке есть некая сила, которая превосходит любые границы и укротить которую можно лишь отчасти. Обычно мы не отдаем себе отчета в ней. Она безотчетна по определению, и все-таки мы вполне ощутимо подчиняемся ее власти: увлекающий нас за собой мир не отвечает ни одной из целей, которые ставит перед ним разум, а когда мы пытаемся их соотнести с Богом, то безрассудно связываем их с беспредельным перехлестом, а разум, наш разум, при нем всего лишь присутствует. Но Бог, осязаемое понятие о котором мы пытаемся получить, силой подобного перехлеста снова и снова перехлестывая за границы понятия, опять ускользает при этом за пределы разума» («Эротизм», с.46).
О жертве: «Внешняя агрессия жертвоприношения скрывала внутреннюю агрессивность, открывающуюся только в извержении крови, разверзании органов. Эта кровь, эти полные жизни органы – вовсе не то, что видит в них анатомия, и не наука, а один лишь внутренний опыт может воскресить в нас чувства древних» (там же, с. 100).
Эротика есть преступание границ, разрыв – или ничто. Это темный, ночной путь, и только вступившие на него имеют право говорить о своем опыте. Иначе это всего лишь кокетство, еще одна мода. Наследие Батая заново поднимает вопрос Музиля о страсти Ульриха и Агаты[56]56
Герои романа Р. Музиля «Человек без свойств».
[Закрыть]: существует ли для гениев мораль? Возможна ли связь между «другим состоянием» (экстазом) и обыденной жизнью?
июнь
Тороне: что меня там поразило, это именно момент перехода – с улицы в собор и из собора в монастырь; это поражает, как лучшие вещи Баха. Дальше можно комментировать сколько угодно.
Перед нами – настоящий укром, но совершенно закрытый и совершенно открытый одновременно. В абсолютной тишине порождающий, распространяющий тишину, счастливую тишину, полную собой, как плод.
Можно сравнить с греческими храмами, какими их видишь сегодня, где свободно разгуливает ветер и сквозь колоннаду отовсюду видна округа, местность.
сентябрь
Совсем рядом, в полной тишине, вдруг услышал крик какой-то незнакомой ночной птицы – отдельную ноту, потом еще три, более короткие, одну за другой (перевернутый ритм ударов Судьбы из Пятой симфонии Бетховена); не трель, а именно крик, не длинный и модулированный, как у лесной совы, не такой призрачный, как у нее, и все-таки жуткий. Хоть я и не ищу больше смысла в таких окликах, таких голосах, я и сейчас ощущаю, до чего крепко связан с птицами, с их голосами в потемках. Подумав это, я внезапно почувствовал необъяснимый страх, один лишь страх. А следующая мысль была, что пора бы чему-то научиться и встречать подобные минуты лицом к лицу, не думая ни о красоте, ни о впечатлении.
октябрь
Смерть Жана Полана. Вот один из умов, которые были так нужны сегодня своей правотой, своим правосудием. Необыкновенная чистота сочеталась в нем с необходимой хитростью: затрагивая мелкие с виду сюжеты, узкие проблемы и странные случаи, он умел говорить о самом главном, самом высоком.
1969
сентябрь
Сомнение, пустота. Приступ неуверенности ни в чем. Несобранность, разброд в мыслях.
Что этому противопоставить? Слепой барьер.
* * *
Клиника в М. Сухонький старичок с огромной повязкой на крохотной кисти, с выцветшим, морщинистым лицом, усталой улыбкой, сивой головой – и невыносимый крик из-за двери, когда он входит к врачу.
октябрь
Светает: темная зелень смоковницы, желтизна другого дерева, чуть подальше, разводы виноградника и туман. Краски приглушены. Тишина, даже немота. Застаешь какую-то незнакомую, скрытую сторону мира, сада. И снова сдаешься, теряешь дар речи. Эти краски и туман, когда солнце еще не взошло.
Мир непривычнее, неповторимее, чем когда бы то ни было. Более приглушенный, да, более скрытый, ушедший в себя. Само собой всплывает слово «лимб». Лазарь.
Может быть, это спеленатая туманом смоковница напоминает Лазаря? Все – накануне возвращения к жизни, еще до первого отчетливого звука, первого блеснувшего в глаза луча: ночные огни погасли, дневные – не зажглись. Промежуток. Чистилище. Боковой (чуть призрачный пока?) свет. Даже не свет, а что-то еще накануне света, тепла, накануне жизни.
В замешательстве между ночью и днем,
в тумане, который клубится, словно зародыш,
еще до всякого звука,
какая глухая, глубокая зелень смоковницы, какая безмолвная желтизна другой листвы непоодаль,
застигнутых в их растительной жизни, как незнакомцы или как сторожа, —
на свету, который еще не свет, до первых проблесков жизни
и в такой тишине, что зелень темнее, а желтизна – непривычнее.
Деревья лимба! Еще ни тени
для отдыха, ни вехи для сомневающейся души.
Глухая зелень смоковницы, застигнутой перед зарей, глыба желтой листвы непоодаль —
в тумане до первого проблеска, до первого звука дня,
деревья лимба! ни тени, ни шевеленья, ни шелеста
для передышки, ни вехи для души на распутье.
Деревья с пустыми, черными, вывернутыми карманами,
с одной застывшей крупной листвой, темной, как бронзовый гонг, потерявший голос,
гонг, заглушенный туманом.
* * *
Кто знает, может быть, «ангелов» Рильке не было рядом с ним в его смертный час. Думаю, там скорее мог быть Христос, дающий смысл смерти, которой требует от человека. И все-таки кажется, что для жизни и для смерти нам сегодня нужны разные ангелы.
1970
январь
Внешнее и внутреннее. Мысленно возвращаюсь к тем, порой затруднительным, вопросам (дело в их тонкости, а не в нескромности или враждебности), которые задавали мне студенты в Женеве и Невшателе. Например, такому: «Значит, вы считаете, что создать можно только то, что уже существует?» Из-за неспособности отвечать на подобные вопросы мне как-то не по себе. Немного утешают только ответы такого тончайшего писателя, как Борхес, Жоржу Шарбонье[57]57
Жорж Шарбонье (?-1990) – французский писатель, автор книги об Арто, работ о Жарри, сборников бесед с Р. Кено, М. Дюшаном, X. Л. Борхесом и др.
[Закрыть], попросившему его дать определение литературы. Борхес теряется, ограничиваясь словами, что поэзия для него – потрясение, волнение, и произносит дальше такую фразу: «Писать и думать – вещи в каком-то смысле противоположные…» Словно существуют два автора – настоящий и другой, созданный читателями и критикой, и критики сегодня начинают мало-помалу считаться с настоящим, тогда как сами авторы взялись, наоборот, писать от имени «другого».
февраль
Мои руки, точь-в-точь как лапки у лягушек. Даже кости ноют, когда подумаю, как с лягушачьих лапок снимают кожицу.
1971
апрель
Урок нескольких моих публичных выступлений о Рильке, а потом – о пяти франкоязычных поэтах Швейцарии: в первую очередь поражает единство собственных оценок, будь они одобрительными или сдержанными. Словно не можешь поверить, что ты и вправду – отдельное существо со своим выбором, своим неприятием, своими пристрастиями. Проделанная работа в конце концов убеждает, что, при всем несходстве разбиравшихся произведений, наибольшей «правды», наибольшей «чистоты» они достигают в миг, когда автор «сосредоточен на главном», освободившись от какой бы то ни было мифологии, традиционной или придуманной для индивидуального пользования: Рильке после «Дуинских элегий», Рамю без «хлеба и вина» вместе с их обычным окружением, Шаппаз[58]58
Морис Шаппаз (род. в 1916 г.) – швейцарский поэт и прозаик, переводчик идиллий Вергилия и Феокрита.
[Закрыть] без своего Вале, «подобья Индии», Маттеи и Кризинель[59]59
Пьер-Луи Маттеи (1893–1970), Эдмон-Анри Кризинель (1897–1948) – швейцарские поэты.
[Закрыть] в самых личных подробностях биографии, Ру (у которого это и открылось мне ясней всего), наконец впустивший в стихи частности собственной жизни – дом в Каруже или дом детских лет и, скорей уж, тот старый рог, которым работников скликали тогда к столу, чем более или менее типичные, чуть ли не символические, плуги и косы вкупе с крестьянином, сработанным под языческое божество.
май
Еще один урок тех же выступлений: невозможность вернуться назад (архаизмы Рамю, к концу жизни полностью им оставленные), невозможность удержать «классическую» строгость («Альциона» Маттеи). И то и другое сегодня отдает фальшью.
* * *
Пассаж о празднике окончания зимы в «Мышлении китайцев» Гране[60]60
Марсель Гране (1884–1940) – французский этнолог-китаист.
[Закрыть]: «…Но главным было испытание шестом. Шест воздвигали посреди Мужского Дома, который был прообразом Мин Тана и представлял собой дом, выстроенный под землей. Взобравшись до верхушки шеста, можно было припасть к небесной груди – так становились сынами Неба – или, скорей, к небесному Колоколу, причем сосцы этого „небесного Колокола“ (сталактиты) свисали со сводов пещер. Лишь выдержав испытание таким подъемом, новоявленный сын Неба — звено, соединяющее Небо и Землю, – удостоивался высшей чести: его рост определял теперь высоту гномона и становился мерой для трубы закона. А сам он отождествлялся с Царским путем».
Противоположности для китайцев не столько противоположны, сколько взаимодополнительны и меняют смысл в зависимости от «клеточки», в которую поставлены.
И ниже: «…настоящая смерть сопровождается, напротив, замыканием всех отверстий тела. Усопшим смежают веки, закрывают рот. Несомненно к древности восходит обыкновение запечатывать все щели нефритом, а ему сродни обычай изображать на крышках гробов семизвездие Большой Медведицы».
Тяга к конкретике (недоверие к абстракциям) и к ритуалу (непонятная разуму точность этикета) здесь неразрывны. Ровно к тому же внутренне стремится поэзия: конкретность, ритуальность, упорядоченность, космос.
* * *
Я хотел бы сейчас научиться писать прозой, как прозаик. Понимаю, это неосуществимо. Как же быть?
Вместе с тем во мне растет тяга к рефлексии. Желание продолжить вопросы, которые ставят передо мной мои книги, наперекор всему, что я же сам столько раз говорил: что подобных вещей нужно по возможности избегать.
Тяга к неведомому сталкивается во мне с некоторым рационализмом. В чудеса я не верю, разве что в тайну.
Тут же впадаешь в жонглирование словами.
Я хотел бы ограничиться частным, интимным, интимно пережитым. В то же время для меня совершенно невозможно говорить о близких, пока они живы, близки; по крайней мере, говорить с той нескромностью, на которую я не способен. Как это романист, делающий свою повседневную жизнь материалом для книг, еще может жить, зная, что все им прожитое станет материалом для книги? Настоящее безумие, пусть уж оно завладевает писателем, который живет один.
В этом для меня постоянный риск излишнего самораскрытия, отсюда и «пропавшие фигуры».
С другой стороны, полная неспособность «выдумывать» сюжет.
* * *
Гёльдерлин у столяра Циммера: «Со мной больше ничего не происходит…»
* * *
И еще урок моих выступлений: обращение исключительно к субъективности у Рильке заводит в тупик, а ограничение внешним по отношению к чистой субъективности у Рамю и Шаппаза выглядит порой неестественно, натужно.
Чистая субъективность может кончиться вычурностью, нарциссизмом, идолопоклонством: искусство как высшая религия. Сезанн, который не пошел на похороны матери, чтобы не отрываться от работы, – пример, восхитивший Рильке, и само его восхищение, вызвавшее упрек Касснера[61]61
Рудольф Касснер (1873–1959) – австрийский мыслитель-эссеист, друг Рильке.
[Закрыть]. Но даже при этом в субъективности Рильке больше правды, чем в мифологии, которую Рамю пытается сызнова смастерить из крестьянского обихода.
* * *
Кажется, Христос никогда не обладал для меня настоящей, осязаемой реальностью, даже в годы религиозного воспитания, когда я сильней нынешнего верил в то, что область божественного – это в первую очередь невидимая власть иного, морального порядка, как бы высшая совесть, заставляющая одуматься, прежде чем совершить тот или иной грех, чаще всего, разумеется, плотский. Это была не просто отрицательная, угрожающая, принудительная сила, но и суровая требовательность, вовсе не бесполезная и отнюдь не только вредоносная. В конечном счете – думаю, что задним числом не перекраиваю сейчас прошлого, – здесь нам, в соответствии с протестантским духом, давали прежде всего моральный урок. Кем-кем, а визионерами наши пасторы не были.
Может быть, баховские «Страсти», которые я как раз в ту пору открыл и жадно слушал, внушали мне в минуты, пока звучала музыка, более величественный, более реальный образ Христа. И все же, могу теперь в этом признаться, он никогда не проникал в самую глубь моего существа. С другой стороны, в атеизм я тоже никогда не верил.
Тон пасторов я не выносил тогда, не выношу и теперь, сохраняй ли они традиционную елейность, эту неуклюжую попытку установить дистанцию, которую в других местах так легко создает латынь, или усваивай новейшую, прямую и, по-моему, еще более неуместную манеру. Все равно в церквях царил только холод и старухи в черном. Позднее, в парижские годы, мне куда больше нравились священники, вполголоса бормотавшие в глубине приделов, где в любой час дня горели свечи: сама отчужденность делала их ближе к Богу, они казались членами тайного общества, рассеянного по миру и скрывающегося от непрерывных преследований. (Помню, однажды я задержался в церкви Сен-Сюлпис, как в надежном убежище. Я и не думал, что могу вдруг встретить старого, больного Одиберти[62]62
Жак Одиберти (1899–1965) – французский поэт, романист и драматург.
[Закрыть], находившего здесь, как он писал в своем «Кануне воскресного дня», «монгольфьер милосердной свежести»). Пастор оставался для нас просто еще одним «наставником» (так у нас в деревнях зовут учителей).
Их дело в наши дни до того усложнилось, что иные решаются невесть на что, лишь бы ему еще осталось хоть какое-то место, но только ухудшают положение. Точка отсчета теперь – не само Неведомое, а высшее Благо или Справедливость, в которых уже нет ничего сакрального.
А для меня, есть ли для меня за всем сказанным некий членораздельный «смысл»? Самое большее, предположение о возможности (здесь нужен был бы какой-то сверхусловный залог, какая-то гипервопросительная форма) где-то или, верней, нигде – вне подобных различий! – чего-то или, верней, ничего – вне подобных противоположностей! – своего рода всеобъемлющего света, в котором все, даже самое черное, прояснится, верней, уже не потребует никаких прояснений, причем никто из нас не сумеет ни постичь, ни сказать, как такое возможно. Света, в который войдут все стороны реальности, каждая по-своему, но каждая умаляясь в своем значении по мере того, как все сложнее, все ненадежнее, все мучительнее, все неоднозначнее будет их общий строй. Некоторые из видевших этот свет вблизи, наверное, посвятят себя его распространению, каждый на своем собственном языке, средствами, доступными в отпущенном ему месте и времени. Порой – вплоть до фанатизма и мученичества.
Христос был, наверное, одним из таких людей, но особой, несравненной светоносности, людей, указывающих путь, открывающих выход, приняв – а не отвергнув – разрыв, страдание. Но каждый из подобных «посланцев», видимо, и сам подчиняется закону Времени, его сияние мало-помалу ослабевает, тускнеет. Так что сегодня, скорей всего, почти не осталось даже отблесков прежнего света. Разве что воспоминания об отблеске, бесконечно раздробленные, разрозненные воспоминания.
И никто не может догадаться и растолковать почему.
Или, как считали иные, то сияние было лишь завесой, за которой – полная тьма, а истина есть полнота этой тьмы? Если так, наше существование и существование мира – еще большая тайна.
* * *
Для Леопарди иллюзии и величие человека неразделимы. В поэзии древних говорила природа; в новой поэзии (он называет ее романтической) говорит поэт. Согласно Леопарди, это знак безнадежного одряхления.
* * *
Пусть иллюзии, ошибки, неточности (я говорю о религиях), но которые намечали бы верный путь. Образы прежних вожатых теперь потеснены или отвергнуты.
Сегодняшняя, лишенная хоть какого-то спутника и помнящая только, что он был, потерявшаяся толпа. Молодежь, убивающая одного отца, чтобы тут же заменить его другим, – ведь без поводырей она не может.
А потому в глубине в конечном счете вся эта несобранность, это бессилие: предельная отчужденность. Мне дарят книги, которых я не понимаю или, едва поняв, выпускаю из рук. И остаюсь со своими деревьями и цветами, недостаточно ученый для простодушного, слишком неученый для роли исследователя, лингвиста, со своим страхом, малодушием, малокровием, скудословьем. Со своими заботами о жалких или чудовищных вещах, не находя ничего, способного окрылить или затмить мои слова – и уж тем более без какого бы то ни было о них знания, – в доводящем до паралича раздоре между тем, что еще дышит в этих словах правдой, и тем, что их опять извращает, поскольку они ведь тем временем дают мне еще и средства к жизни, шанс на успех; с теми же старыми, замусоленными вопросами, не сделав ни шагу вперед, а уж скорее назад, с тем же неокрепшим голосом, мечтая соединить легкость вещей и груз времени, чтобы сделать из этой смеси «что-нибудь стоящее», и оставаясь не собой, а кем-то, кто издали смотрит, как растет его одиночество, копятся годы, слабости, страхи, но вместе с тем видит, что по саду перепархивают птицы, проходит ветер, и не понимает ничего или боится слишком хорошо понять все; а небо по-прежнему непоколебимо, небо стоит себе на месте, я же опять пишу ровно так, как писать, по-моему, нельзя, не умею просто улавливать особенное, частное, и безошибочные детали ускользают, прячутся от меня – или это я от них прячусь.
сентябрь
Сент-Обен. Стадо коров, которых не видно (за участком высокой кукурузы, складкой рельефа или изгородью), а слышны одни колокольчики: как будто церковь плывет над полями.
Потом видишь, как они ищут тень под деревьями сада, как тяжело укладываются и лежат наподобие желтых валунов. Спокойствие их движений, неторопливость на пути к тени или к водопойному желобу.
Едкие, до невозможности дышать, запахи свинарника.
Этот сад на покатом склоне, ближе к вечеру, когда под деревьями уже тень, а сами они – одно, другое, третье – еще горят, золотятся. Что тут заставляет меня снова задавать себе все тот же безответный вопрос?
* * *
Если я иногда настолько хорошо осознаю свои «догадки», то, может быть, дать себе законную свободу и не пытаться выразить их как можно лучше? Либо же на самом деле они могут только «сказаться», а «высказать» их не в моей власти, и они должны расчистить себе дорогу во мне помимо моего сознания?
* * *
Гигантский «Реквием» Верди, стоны и жалобы Джезуальдо[63]63
Карло Джезуальдо ди Веноза (ок. 1560–1613) – итальянский композитор.
[Закрыть], финал «Lied von der Erde»[64]64
Песня о земле (нем.) – оратория Густава Малера (1909).
[Закрыть]. Снова и снова думаешь об этих гигантских симфониях, которые делают Малера таким тяжеловесным. К подобным масштабам тянешься, когда самому под силу лишь несколько нот на полях.
* * *
Письмо Сезанна Виктору Шоке от 11 мая 1886 года, из Гарданны: «Небо, безграничность природы меня по-прежнему притягивают и дарят возможность наслаждаться, глядя на мир». Кажется, читаешь состарившегося Гёльдерлина.
октябрь
Шесть вечера. Бледная, как бы уже прозрачная луна. Абсолютная, почти невероятная неподвижность деревьев, куда ни глянешь. Мягкий воздух, легко и точно прорисованные горы, на земле в саду – огромный черно-красный костер из листьев, его дым, поднимающийся к другому, более плавному пламени каштанов. Пролетающие по прямой птицы. Редко случаются такие светлые, умиротворенные минуты.
Языки огня, среди этого покоя, кажутся явлениями другой природы, дырой в холсте… Взбалмошные, трескучие, неистовые.
ноябрь
Снег на вершине Ванту, далеко-далеко, вечерней порой, когда небо становится темно-синим, серым, почти черным и краски окрестностей тоже все темней и темней – коричневые, зеленые, черные; это далекое пятно словно зажженная лампа, нет, не лампа (опять я наталкиваюсь на невыразимое), лишь отсвет, пронзающий неизвестно чем, – так случается, когда птица вдруг приоткроет на лету светлый испод крыльев, вспыхнув, как зеркало под солнцем, или про такую белизну лучше сказать – под луной? Этот лунный проблеск, а вокруг – бесконечные земля и небо, темно-синие, иссера-синие, исчерна-синие, синие по-грозовому, сплошная темнота, приоткрывающая вдруг в сердцевине пятнышко снега.
1972
февраль
Сон. В Транссибирском экспрессе, ночью, пересекая бескрайние, серые, затуманенные равнины и думая о смысле слова «Сибирь» (из-за всего, что знаешь, похожего на удар бича, на шквал ледяного ветра), о лагерях, о Мандельштаме, напротив молодой незнакомой женщины, которая будет ехать со мной до самого Китая. Слышу, она тихонько плачет. Говорит, что сама не знает почему. Возражает, когда я спрашиваю, может быть, это я виноват, может быть, я слишком стар для нее и она чувствует себя пленницей; выглядит искренней. И вот когда она встает у окна, я приоткрываю ворот ее блузки, словно хочу показать луне, в чьем туманном свете за стеклом проплывают леса и снега, красоту ее шеи, ее лица, и сбивчиво спрашиваю, за что ей дана такая красота, как она с ней живет, и за что, для чего дарит ее мне? Лицо у нее понемногу светлеет. Но ни один из нас не находит ответа.








