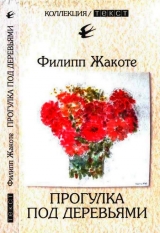
Текст книги "Прогулка под деревьями"
Автор книги: Филипп Жакоте
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
* * *
Снова Гёте: родство его Миньоны с моцартовским Керубино. Гёте, как и Моцарту, принадлежат самые разные женские образы, но притягательны и соблазнительны они у обоих. Керубино и Миньона соперничают в двойственности; Филину и Церлину объединяет природная, нежная и задорная чувственность; Аврелия и Эльвира, кажется, находятся в дальнем родстве. Чудесные начальные страницы «Годов учения Вильгельма Мейстера» дышат возбуждением, легким безумием, беззаботностью оперы, которую мог бы написать Моцарт.
* * *
В эти дни мне часто слышится одна мелодия из «Свадьбы», мотив Сюзанны, ждущей Фигаро в ночном саду, – настоящий фонтан звуков, самый чистый, самый нежный из всех, что можно себе представить. Может быть, он – хочется даже сказать, он один – в силах вырвать нас из мрачных бездн Шестова? Как бы движение, устремленность воды, способной проточить черные стены, в которые упираешься лбом?
* * *
Слушая пьесу «У родника» из «Годов странствий» Листа: подражание здесь настоящему источнику, так же как дождю (у Дебюсси) или игре воды (у Равеля), не рождает той чистоты, той свежести, которые есть в мелодии Моцарта, не думавшего ничему подражать. И вообще – не многовато ли в этой музыке подражания? Как в абстрактной живописи мне не хватает реального мира, так в музыке – например, в «Море» Дебюсси – меня смущают отсылки к реальности. Попробовать слушать вещи Дебюсси, не вспоминая их злополучных наименований.
* * *
Итак, еще раз прослушал «Долину Обермана». Начало вызывает в уме уходящие вдаль террасы, широкое открытое пространство с ясно обозначенным верхом и низом, тьмой и светом. Еще я подумал о горном скоплении звуков, о темных скалах. И о заглавии последнего стихотворения Унгаретти, «Застылость и бархат», только у него речь идет не о бархате травы под скалистыми обрывами, а о женском теле, «которое так нежно».
* * *
Почти восемь утра, но солнца еще не видно, горы голубеют, укутанные холодным туманом. Приоткрытый затвор, колыбель, расселина с чем-то упрятанным внутри: оттуда доходит парок, дыхание сырой земли, заметное лишь в такой вот утренний холод. Всегда трогающая красота испарины. Если зеркало, поднесенное ко рту, не запотевает, перед нами смерть. Грязь, дыхание грязи, в которой сегодня чудятся стекляшки, льдышки, хрустящие на каждом шагу.
апрель
Куст розмарина, улей голубых пчел.
* * *
Музыка. «Просверки»[153]153
Такое название носят записные книжки Шарля Бодлера.
[Закрыть], которые я в ней иногда слышу (еще вчера вечером эти поразительные модуляции шубертовской «Фантазии-сонаты»), кажется, начисто отсутствуют в современных вещах, больше того – уже у Дебюсси. Нет ли здесь общего с провозглашенной «смертью Бога», с трудностью произнести сегодня слово «душа»? И не перекликается ли это с исчезновением в живописи обнаженной натуры, еще радовавшей Ренуара, Боннара, Матисса? Когда оно ушло? Почему? Но мы ведь чувствуем его, как прежде? Что же мы, стали обломками, пережитками? Повернулись к будущему спиной?
* * *
Первая листва на липах. И – пронизанная утренним солнцем – такая же на смоковнице. Изобилие, светоносность, скорее золото, чем зелень, свежесть их всех. Дыбящиеся листья смоковницы, свисающие – липы. Они как будто и вправду горят; они преображают утренний свет в узоры орнамента, прозрачные веера, сияющие чаши: зелень сверкает, как поток. Проклевываются, разворачиваются, разгибаются, разглаживаются, вися или торча на ветках.
* * *
Приближаясь к смерти, нужно повернуться к ней спиной, чтобы видеть только жизнь.
ноябрь
На этрусских надгробьях из обожженной глины, в Лувре, женщина часто держит в руке веер. Смерть и беззаботность, легкомыслие, изящество – смерть и это дуновение ветра, которое вдруг освежает уже спящие, нездешние черты.
* * *
Два сна о семейном ужине, где я прислуживаю за столом: дядья, тетушки, все уже умершие. Как будто на несколько шагов стал к ним ближе.
1992
январь
В последней книге Тома «Радость жить» – чудесное название для чудом живущего человека – столько трогающих за душу фраз, которые для меня подлинные просветы, грустные и озаряющие разом, необычайно близкие к лучшему, что я смог бы придумать сам, но мне никогда так не написать:
«Да обретете вы ласковую вечность, люди, дрожащие перед тайной лет».
«Бывают голоса, похожие на ясное небо за рощей».
«Там, внизу, те, кто для меня еще жив. Слабеющие огни моего существования, мои потери».
Может быть, однажды, в особенно непримиримом настроении, я решусь и вычеркну из числа друзей всех, кому эти содрогания слов ничего не говорят.
февраль
Вальзер[154]154
Роберт Вальзер (1878–1956) – швейцарский немецкоязычный прозаик, высоко ценимый Кафкой, В. Беньямином, Музилем, Т. Манном, Г. Гессе. Во второй половине жизни отрекся от литературы, помещен в лечебницу для душевнобольных, где и умер.
[Закрыть] и Дотель, такие похожие в своем простодушии.
июнь
В поезде на Мюнхен, идущем по берегу Невшательского озера оттенков стали: всюду изобилие зеленых насаждений, и все-таки полное убожество архитектуры, если сравнить ее с прекрасными старыми домами в последних селеньях на берегу, выглядит как предвестье конца света.
Почти поражаешься, замечая среди этих тщательно выстроенных декораций обычные полевые цветы – шалфей, мак; вот так же я поразился, увидев, как над садиком наших друзей в Голландии протянулся выводок цапель. Стихи – из разряда этих цветов, этих утесов, ничего общего с остальной архитектурой, ничтожной и вездесущей, они не имеют. Только не нужно принимать эти слова за избитое сожаление о потерянном рае.
июль
Перечитал сборник стихов Кристины Лавант, составленный Томасом Бернхардом[155]155
Кристина Лавант (наст, фамилия Тонхаузер, 1915–1973) – австрийская поэтесса, прожила жизнь в нищете и болезнях, умерла непризнанной, Жакоте переводил ее стихи; Бернхард Томас (1931–1989) – австрийский поэт, романист и драматург.
[Закрыть]. Прекрасно, как старые распятья деревенских церквей, как старая тканина – суровая, жесткая.
август
Птица на другой стороне поля ныряет в лес, под сень деревьев, теснящихся на опушке: не знаю, чем она меня так тронула.
Но может быть, это не так уж трудно понять: птицы, особенно такие крупные, как эта сойка, почти всегда свободно передвигаются в пустом пространстве. А тут всё меняется, как будто она вошла под домашний кров, в зеленый приют.
* * *
Думал об Анри Тома, о посланной ему открытке, где изображен лекиф в форме девушки с лирой.
Изображение этого изображения, сможет ли оно ему помочь?
Сможет ли хоть какое-то жертвенное вино напоить дух в том краю?
Изображение девушки или изображение лиры в ее руках,
или ее живое присутствие, само ее похожее на лиру тело – сумеют ли они выручить старика там, где он теперь?
Или единственный выход – химия Морфея?
сентябрь
Сон, один из нескольких, или, точнее, одна подробность в нем, которую я посчитал важным запомнить. Смерть – сказали мне или я сам себе сказал посреди полного приключений сна – была той дверью, которую я видел перед собой, если не ошибаюсь, в стене какого-то подземелья, почти квадратной, тяжелой, сбитой из массивных досок дверью, и в просвет ее была видна другая такая же, кажется, увитая чем-то вроде плюща, но только уже запертая, явно обреченная никогда не открываться.
октябрь
Какие слова еще хватит твердости произнести на ухо умирающему или даже просто истосковавшемуся, потерявшему всякую надежду вернуть прошлое? Нужно найти – найти безошибочно – те, которые единственно уместны; и ни малейших фиоритур (хоть они и в родстве с цветами).
Есть ли вопрос серьезнее этого?
Удержать свет. Когда начинает смеркаться и видишь только смутные образы, только тени, преврати их в звук, сумей создать звук, который сохранит сияние для слуха. А когда заглохнут и звуки, высеки пальцами хоть искру. Подумай: ведь над этим холодеющим телом сейчас вспорхнет то невидимое, чьим летучим отблеском в нашем мире служат птицы.
* * *
Деревья начинают желтеть, словно пытаются возместить светом убывание дня.
* * *
Майнц. Архитектура барокко или рококо в Германии, где современные постройки нередко – и чаще, чем в других краях, – подавляют массой, тусклой окраской, квадратными очертаниями, как-то озадачивает. В ней, понятно, не чувствуешь связи с этим позднейшим стилем, но еще меньше – со стилем жизни людей, в отличие от Италии, где городская жизнь кипит, бурлит, а потому отлично согласуется с волютами, взрывами, выбросами камня или гипса. Здесь контраст еще резче, поскольку всё вокруг отстроено заново, сделано с иголочки, вылизано до блеска.
Большинство прохожих выглядят людьми скромного достатка. Нигде ни малейших следов роскоши.
Дважды накатывавшее тяжелое чувство. Сначала при виде ребенка, на автобусной остановке вырвавшегося у матери и бросившегося на набережную, рыдая и хрипя; при виде его лица, озверевшего и несчастного разом, и страха матери, кинувшейся ему вслед, видимо боясь слишком близкой реки. А потом – при взгляде на белого как мел калеку с изрытым морщинами лицом, резким движением направившего инвалидную коляску к столику чайного салона, где я обедал, болезненного, агрессивного еврея, предвидящего краткосрочное возвращение нацизма, намеревающегося вскоре обзавестись двумя специальными автомобилями для инвалидов и перебраться в Америку. Он был явно обозлен на весь мир; если я правильно понял, искалечили его долгие годы тюремного заключения по политическим мотивам.
1993
апрель
На северном склоне горы Ленсёй. Резкая зелень луговой травы напоминает окраску крупной зеленой ящерицы, которую Данте называет словом «ramarro», о чем я узнал, работая вместе с Лучано Эрбой[156]156
Лучано Эрба (род. в 1922 г.) – итальянский поэт, Жакоте переводил его стихи.
[Закрыть] над переводами мотетов Монтале, где одна такая выскакивает, как стрела из лука.
Минуя Кюрнье, милую деревушку, скучившуюся у дороги, я заметил на берегу реки совсем другой луг. Чем он так отличался? По нему не бродил скот, на нем не играли дети, и все-таки он не пустовал. Солнце – показалось мне еще раз, может быть, из-за близости реки – напоило его такой нежностью и чистотой, что он выглядел как обещание.
* * *
Погожий день в саду – и картины мира, множимые и опошляемые телевизором: невозможно на это смотреть. Раненые под Тель-Авивом, один из которых похож на Квазимодо, слепые летчики, играющие в мяч, контуженая, потерявшая чувствительность девочка с длинными зубами животного. На следующий день – слепой боснийский мальчик, сразу вслед за абсолютно вылощенными разглагольствованиями нашего премьер-министра.
Фотографии эсэсовцев, скалящихся, отрезая пейсы евреям Варшавского гетто: заушение Христа. И абсолютный, отвратительный ужас ненависти. Конца этому не будет.
* * *
Вопросы, как стрелы, как тучи стрел, но, может быть, это один и тот же вопрос
июнь
Сиена. Идя вдоль палаццо Пикколомини, неизбежно вспоминаешь строку Дю Белле: «Иримские дворцы с их дерзновенным ликом»[157]157
Из сонета «Heureux qui comme Ulisse…».
[Закрыть]:какую гордыню, какую уверенность в себе предполагают эти масштабы! И вместе с тем здешняя чрезмерность, в отличие от многих других случаев, не производит впечатления пустоты. В восхитительной раковине площади Кампо, как и на лестницах римской церкви Тринита-деи-Монти, собирается сегодня немало жалких людишек, чье нежелание что-либо делать – полная противоположность тому, чем питались здешние замыслы и их постройка. Рядом с ними то здесь, то там звучит простенькая флейта.
июль
Цветущий цикорий: неизменная и настоящая небесная синева, – полевой Фра Анджелико[158]158
Анджелико (Фра Джованни да Фьезоле, прозванный Беато Анджелико, ок. 1400–1455) – итальянский живописец флорентийской школы.
[Закрыть]. Цветы разрослись вдоль всей дороги, забравшись уже туда, где их раньше не видели, но показываются только утром, а к полудню их как не бывало. Синие, как платья приютских девочек-католичек. Переносят только утреннее солнце. Стоит ему окрепнуть, налиться жаром, и они закрываются – как глаза.
сентябрь
Мягкий, погожий день. Чистка стоков в саду.
Водяные косички, которые, кажется, можно расплести, не замутив. Столько осеней в одной, написал об этом несколько строк.
Еще я подумал о Шаламове, который, вырвавшись из последнего адского круга, краев вечной мерзлоты, был одержим одной мыслью: вернуться к стихам. Такое должно развеять любые сомнения. Человек, спасшийся от худшего, что может быть, нуждается в самых чистых словах. Никогда не забывать об этом.
Стихотворное слово, пишет он, еще на каторге, «это моя крепость посреди зимы».
октябрь
Шелест палых листьев, сухой, невесомый шелест, худосочный шорох, как будто они лишились тела, плотности, гибкости. Легкие, ломкие, начинающие твердеть – лишенные земных соков. Бабки, в которые на шахматных плитах дорожек небрежно играет ветер. Старики с хрупкими костями, тусклым взглядом.
* * *
Горящие буквы, слова, которые, оказывается, горят. Поразительное различие между бумагой, на которой они были написаны и которая теперь чернеет, вспыхивает и развеивается щепоткой пепла и дыма тех же пепельных тонов – единственная разница в том, что один падает, а другой подымается в воздух, – и этими значками, горящими совсем иначе.
* * *
Может быть, единственное стоящее сегодня – это несколько кратких слов без малейшего вибрато.
ноябрь
Тумас Транстрёмер[159]159
Тумас Транстрёмер (род. в 1931 г.) – шведский поэт, далее его стихи цитируются в переводе А. Прокопьева.
[Закрыть]. С той поры, как мы впервые встретились в 1989-м в Триесте, у него был инсульт, он почти потерял речь, с трудом передвигается, но все еще приезжает на вручения премии Петрарки, с той же далекой – не скажу недосягаемой – доброй улыбкой. Несколько его стихотворений, переведенных на французский Жаком Утеном[160]160
Жак Утен (род. в 1947 г.) – французский переводчик немецкой и шведской поэзии.
[Закрыть], превосходны. Например, «Шубертиана»:
А он умещает сигналы целой жизни в несколько совсем простых аккордов,
извлекаемых пятью смычками,
он заставляет поток пройти через игольное ушко —
упитанный господин из Вены…
Я тут же и в который раз ставлю пластинку Шнабеля: от Опуса 935, № 1 остается ощущение полотна, ткани с ее узелками, меха, – это скорее звуковая материя, чем картина. На Опусе 899, № 3 мне вспомнилось, как я пытался в конце моей последней книги[161]161
Имеется в виду книга «Спустя много лет» (1994).
[Закрыть] передать этот странный и далекий шелест ткани – тоже ткани – там, на предельной высоте. Но что ни пытайся мы сказать о таких чудесах…
* * *
Второго ноября, в поезде Монтелимар – Женева. В Грюа дымка, туман, высоко поднявшиеся воды Роны: настоящий край призраков. Солнце возвращается только на берегу Изера. Там на несколько минут предстает картина Милле или Добиньи: коровы, телеги под тополями и свет, до того хрупкий, что кажется бесплотным, почти нереальным. Дальше, все в том же тончайшем свете, слева за Греноблем возникает в виде усеченной пирамиды гора, подлинный священный монумент из какого-то другого мира. А на озере Бурже, абсолютно гладком и сверкающем под солнцем, высящийся над лодкой рыбак отражается в воде и похож на карточного короля.
* * *
Давняя мысль о том, что Песнь песней в переложениях Сан-Хуана де ла Круса – это одна из высших точек, достигнутых поэзией всех времен. Как вершины в горах, которые горят, когда остальные уже погасли.
1994
январь
Продолжаю, сонет за сонетом, перечитывать Ронсара: как это не похоже на то, что я чувствовал, когда, больше тридцати лет назад, с головой уходил в антологию Блайса, где любое или почти любое хокку день за днем наполняло меня жизнью, возвращая окружающий мир, чуть ли не саму способность дышать. А здесь, несмотря на прекрасные места то в одном, то в другом стихотворении, приходится буквально заставлять себя двигаться дальше. Сочинитель хокку – прежде всего мудрец или безумец, а Ронсар – прежде всего мастер, одержимый стремлением обогнать современников, сравняться с древними образцами или превзойти их.
февраль
Долгий путь вдоль хребта, с видом на гору Сен-Жюльен. Ни облачка, ни ветерка. Долго не слышишь ни единого звука, разве что далекие голоса альпинистов да изредка птичий крик. Мягкие холмы, глубокие лощины, множество душистых сосен и на самом гребне хребта – эти камни, словно белые зубцы, наклонный частокол, за которым открываются ослепительные снега Ванту.
* * *
К северу от Сен-Жалль[162]162
Деревушка в департаменте Дром, недалеко от г. Нион.
[Закрыть] – каменистые, наводящие грусть склоны, кое-где – настоящие залежи серых аммонитов, несколько лощин, по которым довольно быстро бежит вода, – земля повсюду еще насыщена влагой, – со следами прошедших отар: клочки шерсти зацепились за колючие кусты утёсника. Как-то слишком тихо и пусто, погода прохладная. На холме высится крест, собаки пастуха сбегаются нас сначала облаять, а потом поприветствовать, как будто мы их единственное развлечение в долгий воскресный день; они выскочили с полуразрушенного хутора, жалкой, почти нищенской времянки.
* * *
Дети в Сараеве натягивают невидимую бечевку через заледеневшую улицу, чтобы прохожий споткнулся; другие достали санки. Неуничтожимая сила живого.
апрель
Заросли цветущих ирисов. Склоняешься к ним и как будто плывешь; иными словами, когда их много, они наводят на мысль не столько о небе, сколько о воде, но слою «мысль» тут не самое подходящее. Скорее, зрительное ощущение влаги, тоже, впрочем, довольно смутное: скажем, вода не бывает таких тонов и скорее бежит или блестит. Может быть, эти цветы и влагу сближает свежесть и прозрачность; скажем, ноготки внизу выглядят совершенно непрозрачными и почти твердыми – они ближе к земле. Ирисы отличает то, что их цветы подняты высоко, на вершину стебля, как вымпела на мачте, как флаги на древке, – это придает им особую легкость. (Можно было бы, как во множестве других случаев, превратить их в иллюстрацию вычурности, настолько сложно они устроены, элегантны, душисты и выглядят совсем по-женски, но это – как опять-таки во множестве других случаев – значило бы остаться лишь на поверхности видимого, в области ложной или низшей магии, как это случилось со мной при попытке изобразить пионы, когда мне удалось проникнуть чуть глубже только в самом конце написанного.) Ощущение влаги, ощущение непосредственное и смутное, может быть, и есть самое верное: влага зари – точно такая же льется летом с далеких гор, когда видишь их на фоне восходящего солнца. Хочется поблагодарить за эту влагу, за этот глоток свежести, за это летнее утро.
Самое живое ощущение влаги, влажной свежести ирисы дают в тени – тени липы, смоковницы. На солнце они выцветают, блекнут.
май
Сон. Начинается он, насколько помню, с огромной рыбины, которая плавает в водоеме у моих ног – рядом со мной дочь и, может быть, друзья, – делается все больше и выглядит все более угрожающей, поднимаясь на поверхность: уже видна ее зубастая морда, она злобно вцепляется мне в ногу, мне удается вырваться. Потом, следуя за каким-то ребенком, все оказываются в странном месте с часовней, смысла происходящего не понимает никто. Дальше идет какой-то большой город, где мы то и дело теряем друг друга и, расставаясь, каждый раз забываем уговориться о месте встречи (кто эти «мы», я не знаю, знаю только, что среди нас мои отец и мать). К концу дня мне становится все тревожнее, я боюсь, что гостиницы закроют, что я не сумею встретиться с другими, от которых теперь осталась, кажется, только мама. Сон как будто хотел напомнить мне, какой «оставленной» она была в конце жизни и как навсегда невозможно теперь побыть с ней рядом.
* * *
Запахи растений, другого голоса у которых нет. Жимолость, бирючина. Это для пчел.
Свист, просверк неутомимых стрижей, их эскадрильи. Черные, словно литые, словно орудия для литья. Лапок почти не видно.
июнь
Середина дня, жарко. Небо над самым коньком кажется раскаленным добела и выгоревшим выше; даже стрижи словно притихли, отяжелели и, кажется, медлят на лету.
* * *
«Окрестность с желтыми птицами» Валенте[163]163
Хосе Анхель Валенте (1929–2000) – испанский поэт, переводчик английской и итальянской лирики, вдумчивый эссеист; в 1954–1986 гг. жил за рубежом (Великобритания, Франция, Швейцария).
[Закрыть]. Временами трудно входить в эти оголенные строки, как в иные стихи Хуарроса или Жабеса[164]164
Роберто Хуаррос (1925–1995) – аргентинский поэт; Эдмон Жабес (1912–1991) – французский поэт, мыслитель-эссеист.
[Закрыть]. Помогают слова, обращенные им к умершему сыну и давшие название всей книге: «Я думал, что знаю твое заветное оюво, способное тебя окликнуть. Но я его не знаю, не нахожу. Это я умер, я забыл твой секрет, говорю я себе».
И ниже: «Человек, несущий пепел умершего в маленьком свертке под мышкой. Моросит. Никого. Он идет, как будто его сверток можно куда-нибудь принести…»
Зацепляет на этой странице, конечно, «маленький сверток»; без этого, без этих слов все растворилось бы в бесплотной белизне.
Валенте хватается за тонкую, тончайшую нить, но этого достаточно, чтобы удержаться: «Я на самом обрыве всего лишь узенький край бестелесной тени».
* * *
Заметка в книге Валенте «Камень и средоточие»: «Предельную смелость испанского поэтического слова ищут и видят у Гонгоры. А ее – и без малейшего ущерба для великого кордованца – следовало бы искать у Сан-Хуана де ла Круса». И еще: стоит прочесть дальше его эссе «Зрачок воды», о связи между водой и ночью, той рекой, теми водами, дна которых, как в «Духовной песни» Сан-Хуана, человеку не достичь и которых никому не перейти вброд, «aunque es de noche», «хоть мрак все гуще».
июль
В «Рыцаре телеги» Кретьена де Труа[165]165
Кретьен де Труа (1130–1191) – французский поэт, автор стихотворных рыцарских романов.
[Закрыть] королева забывает гребень на краю источника – словно ей не во что больше посмотреться, кроме воды. Янтарь, безлюдье. Янтарь и чистая вода. Вот, как и в предыдущей заметке, те места, где я хотел бы бродить.
ноябрь
Высокие тополя, похожие на веретена с падающей, золотого чекана, листвой; веретена, с которых понемногу сматывают пряжу. Всё это без шума, без надрыва и скорее похоже на дар, как будто время раздает золотые червонцы или поэт отрывает от себя последние стихи, последние сияющие страницы, которые и падают в здешние расселины с их всегдашними лужицами.
Я вспоминаю Гонгору: «О ваша зелень, сестры храбреца», чудесный сонет, представляющий, по Овидию, превращение Гелиад, сестер Фаэтона, в тополя:
Чудесное переплетение сказок, если угодно – выдумок, за которыми таится полновесная правда: падающая в воду листва, слёзы, превращающиеся в украшения.
* * *
Расходящийся золотым веером вечерний свет, голые деревья, кое-где тронутые багрянцем, холодное полукружье луны облачного оттенка, – всё это, стоит поднять глаза, перекликается с «Ricordanze» Леопарди, которые я снова перечитываю. Как на себе, пусть не с такой глубиной и, конечно, не с такой остротой, переживаешь эти чувства – едва ли не те же, что у меня самого, на которых я остановился, так что не могу ни отделить их от моего существа, ни помешать им возвращаться снова и снова.
Никто из поэтов, кроме Леопарди, не сумел сделать грусть такой прозрачной; может быть, для этого нужен доведенный до высшего совершенства итальянский язык?
* * *
Последние фортепьянные вещи Листа в прекрасном исполнении Альфреда Бренделя: их вполне можно назвать «угрюмыми», «траурными», – первый эпитет отчасти передает это самим звуком. Всякая виртуозность забыта, кажется, здесь нет больше никого, кроме странника, почти наугад бредущего по бескрайнему пространству, по жизни; в «скорбной гондоле» уже не слышится ничего венецианского, мне она скорее напоминает некоторые страницы Леопарди, наподобие «А se stesso»[168]168
К себе самому (ит.).
[Закрыть], где он, угасая, доходит в своем отчаянии до самого дна.
* * *
Та же роща гигантских и с каждым годом все более высоких платанов огненного цвета, возносящих верхние ветки на уровень голубого гребня гор. Представляешь себе что-то вроде наряда, написанного Климтом[169]169
Густав Климт (1862–1918) – австрийский живописец-символист.
[Закрыть], только более воздушное, ажурное, дышащее ветром, – так или иначе, зрелище в этот час дня и в эту пору года поистине царское. «Золотая голова»[170]170
Название драмы Поля Клоделя (1890).
[Закрыть]. Благородство без малейшей скаредности. Зеленый замок? Корни этих платанов питает река Шалерн, чаще спокойная, чем прыгучая и болтливая. И кажется, что они подняли на предельную высоту отблеск той самой воды, которая бежит у их подножия, миновав школьный дворик, наполненный детскими голосами.
Все возможные метаморфозы движения, метаморфозы времени; кажется, здесь удается замедлить ход жизни, выводя слова на листве, которую может сорвать первый же ветер.
* * *
Снова слушал Веберна. Предельной сжатостью, предельной экономией средств он напоминает Моранди. В августе 1919 года, в письме Альбану Бергу, он говорит о своей любви к горам: «…в поисках высочайшего… Причина моих чувств – тот глубокий, непостижимый, неисчерпаемый смысл, который открывается в любом явлении природы… Я обнаружил тут одну травку (это была грушанка из семейства вересковых). Маленькая, вроде ландыша, неброская, еле заметная. Но ее бальзамический запах. Этот запах! В нем для меня сама нежность, сама изменчивость, глубина, чистота…»
14 февраля 1945 года его единственного сына Петера убило в поезде во время воздушного налета. Его самого, пытавшегося бежать вместе с женой из Вены, по ошибке застрелил пьяный американский солдат. Жена умерла четыре года спустя.
декабрь
«Записные книжки» Жубера. Юношескую вещь, кажется, 1787 года, под названием «Ночные музыканты» хочется привести целиком: «Так музыканты, маршируя небольшими оркестрами, расхаживали по городу весь день. Летом в этом городе иногда чувствуешь себя в Багдаде из „Сказок тысячи и одной ночи“, где улицы обрызганы душистой водой, а в домах раздаются счастливые песни. Цветочные клумбы на перекрестках, наполняющие воздух ароматом, бродячие музыканты, наигрывающие то здесь, то там, множество горожан в окнах домов – все это вместе отмечено каким-то необъяснимым очарованием».
Самое начало этой вещи, которого я здесь не привожу, – о власти музыки, звучащей вдалеке в молчании ночи, – могло бы принадлежать Леопарди. Жубер родился в 1754 году, Леопарди – десятью годами позже[171]171
Леопарди родился в 1798 г.
[Закрыть]. Может быть, в каждую эпоху существует братство близких умов, пусть даже не подозревающих друг о друге: чудесные созвездья, которые так хорошо находить на собственном небе.
Хочется цитировать страницами. Особенно вот эти несколько висящих в воздухе слов: «Снег. Стоит поднять его завесу…» — они соединяются в моей внутренней алхимии еще с несколькими формулами, которые уже давно служат мне сезамом и сила которых с годами не потерялась. С этой записью 1802 года перекликается другая, на ту же тему: «Пятна снега, среди оттепели белеющие здесь и там на фоне зелени».
Или такая находка, датированная июлем 1806-го: «Аромат – это душа цветка. Он чувствуется и в стране теней». И эта короткая запись: «Голубь. Горькие зерна и чистые воды…» Что он хотел сказать? На этих коротких словах лежит странный свет.
А вот еще, это я бы сделал жизненным правилом: «Лучше отдавать силы тому, что есть, а не тому, чего нет. Думай о том, что тебе осталось, а не о том, что потерял». Золотое правило, лучше не скажешь.
* * *
Встал чуть раньше обычного (еще только семь утра). Толкнул кухонные ставни, а над садом – сияющая Венера, как звук трубы, как крик радости, от которого разом рушатся любые стены.
* * *
Я подумал, что можно собрать своего рода «волшебные слова», разбросанные по стихам разных эпох и разных стран, вроде того фрагмента из гимна Гёльдерлина «Колумб», который не случайно оценили Андре дю Буше и я («…как бы нарушенная снегом…»), тех или других хайку, которые я не раз цитировал, но еще и нескольких строк или строф Бодлера или Леопарди, – собрать в противопоставление «формулам», предлагаемым философской мыслью: те, при всей их глубине и убедительности, никогда не приоткрывали передо мной просвет, который сумели подарить эти несколько лирических проблесков.
* * *
Запомнить эту притчу из «Книги испытаний» Аттара. Обнищавшая и побелевшая с годами старуха сидела у ворот кладбища. В руках она держала кусок ткани, расшитый множеством точек. Всякий раз, как приносили умершего, она делала стежок. Сколько бы их за день ни принесли, одного или десятерых, каждую смерть она отмечала точкой. А поскольку смерть не мешкала ни минуты, точек на ткани были уже миллионы.
Однажды смерть свирепствовала так, что старуха не смогла справиться с работой. Разом принесли столько трупов, что она сбилась со счета. Выйдя из себя, она закричала, порвала нить и сломала иглу. «Всю жизнь я занимаюсь одним! – воскликнула она. – Сколько еще я буду сидеть так, с иголкой и ниткой? Я не возьму больше в руки эту иголку и брошу в огонь эту тряпку. Все время меня мучит один вопрос, но разве он под силу иголке с ниткой? Лучше я буду кружиться без остановки, как небесный свод. Это не под силу иголке с ниткой!»
А ты, бездыханный и невесомый, эти слова никогда не дойдут до твоего слуха. Если бы ты расслышал хоть одно из них, саван у тебя на спине обратился бы в рубаху.
Это не под силу иголке с ниткой!
Прежде всего меня остановил образ этой старухи, вышивавшей у кладбищенских ворот, а потом – этой тряпки, усеянной миллионами точек, иными словами, картина повседневного труда, напомнившая прекрасную другую из знаменитого, и по заслугам, ронсаровского сонета:
Картину такого труда, казалось, видел в далеком детстве каждый, независимо от смысла, приданного ей Аттаром.
Если же говорить об этом смысле – я совершенно не сведущ в старой персидской философии и, может быть, серьезно искажаю его, воображая, что может значить для нас сегодня аттаровская притча, – то вот в чем он для меня состоит: забота о смерти, ужас перед миллионами и миллионами умерших с начала истории – не вопрос счета, и какие бы терпеливые пальцы, какое бы неустрашимое сердце ему ни предавались, для него все равно не хватило бы ткани, будь она величиной хоть с целый мир. Единственный ответ, который можно этому противопоставить, – священный танец, перекликающийся с молчаливым кружением ночных небес. А для нас, поскольку мы уже не пляшем как дервиши, – нечто более скромное, постоянное вслушивание в голоса мироздания и перенос их на поверхность страницы, так чтобы никому в ней больше не виделся могильный саван.
________________
Перевод Б. Дубина








