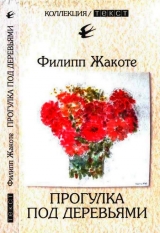
Текст книги "Прогулка под деревьями"
Автор книги: Филипп Жакоте
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Кроме того, Такемото, не указывая источник, цитирует определение поэзии, которое, по-видимому, относится к искусству в целом: «…то, что называется поэзией, есть, вероятно, ставшая вдруг ощутимой созвучность с миром».
Я бы охотно подписался под этой фразой. Только дополнив ее вот каким вопросом: переживание этой созвучности – чистейшая иллюзия или нет? И понимая, что все самое прекрасное, самое великое в искусстве пришлось бы тогда считать плодом иллюзии, а это противоречит простому здравому смыслу…
* * *
Возвращаясь к Такемото: он приводит фразу из «Вневременного» по поводу уже не самого водопада в Начи, а его прославленного изображения, как и других шедевров японского искусства: «Чувствуешь, что художник не копирует и не истолковывает тут увиденное. Он ожидает, когда ему откроется мир» – мир, где, в отличие от нашего, «не будет ни борьбы, ни греха». В искусстве Дальнего Востока «видимое ведет к абсолютному», и «мир – это их соприкосновение».
В той же книге Мальро, стоя у подножия молитвенных изваяний, пишет, что они представляют собой искусство не выражения, а «приобщения». Я много раз, не слишком вдумываясь в это, чувствовал, что любая большая книга, особенно книга стихов, не столько выражает, сколько приобщает к миру, открывает нас ему навстречу: ни больше ни меньше.
* * *
Дождь и туман: зажженная где-то лампа светится, как плод в соломе.
* * *
В комментариях Клоделя к Песни песней среди догматов католика иногда вдруг встречаешь просто большого поэта; к примеру, когда он слышит голос горлицы: «Какая печаль! В торжественном исполнении всех обещаний года ей достается одна невозвратность, одна безутешность. […] Бесконечный укор, таящийся за всеми исполненными желаниями, сумрачное предвестье иной доли…»
* * *
Открытость, открытость всегда – или хотя бы пока есть силы.
Так открывается свету неба цветок у самой земли. Словно распускаясь из темноты вместе с зарей. Вьюнок: тысячи утренних новостей, рассыпанных у нас под ногами.
1997
февраль
Нуно Жудисе[187]187
Жудисе Нуно (род. в 1949 г.) – португальский поэт и романист.
[Закрыть] чем-то напоминает мне Борхеса, когда пытается воскресить прошлое, образы умерших вроде каноника Амадора Гомиша в «Обрядах», – печальная нежность ко всему ушедшему сведена здесь к простой и короткой могильной надписи. Голос овевает людей и вещи, как легкий ветер. То же самое – в замечательной «Элегии», где он опять хочет вернуть давно утекшую воду, залечить раны потерь. Тени, призраки, темные фигуры – и всегдашняя осень; опустевшие дома, заброшенные сады: во всем таинственные превращения утраты.
…Почему мы не можем вернуться к рассвету,
и по соседству с птицами ждать
первых судов, уже поднимающих сети?
Потому что на том берегу – никого…
* * *
Шубертовская фортепьянная соната си-бемоль мажор в исполнении Клары Хаскил: вещь, к которой возвращаешься снова и снова, но какими словами о ней рассказать? Чем она – особенно в первой части – доводит почти до слез? Я не знаю ничего, что лучше, и всякий раз заново, передавало бы чувство преодоления границы, стены, чувство движения в «Открытости», этом внутреннем и вместе с тем внешнем пространстве, которое представлял себе Рильке, отпуская в нем на свободу своих ангелов, и которого достигают в «другом состоянии», описанном Музилем. Но нужно, насколько удастся, уточнить: в движении по этим пространствам нет ничего отвлеченного, бестелесного, в них есть свои неровности, оттенки, взлеты и падения, – жалоба, ностальгия, даже страсть, овеянные дыханием сути, преображены здесь с естественной простотой, так что беда и тоска теперь уже не преграждают путь к миру, а по-своему расцветают ему навстречу.
Еще Шуберт, его песни в исполнении Элизабет Шуман. Их звуки связаны для меня с целым миром образов, отсылающих к Германии и только к Германии, хотя – нужно ли это уточнять? – в песнях, о которых я сейчас думаю, никогда не было ничего «местного»: это и картины Каспара Давида Фридриха с их повернувшимися к нам спиной героями, погруженными в созерцание пространства; и силуэты городов с колокольнями, башнями, бастионами, всем, что при взгляде на затянутый летним туманом Эставайе по другую сторону Невшательского озера всегда и непреодолимо напоминало мне Гёльдерлина; и дороги с лошадьми, с белокурыми девушками, множество дорог, то мощеных, то грунтовых; и холмистые долины со снегом, сияющим (как у меня на родине) на вершинах далеких Альп; и тяга к бродяжничеству (странствия Вильгельма Мейстера, странствия Антона Райзера[188]188
«Антон Райзер» (1785–1790) – автобиографический роман немецкого писателя-романтика Карла Филиппа Морица (1756–1793).
[Закрыть]); и великие взлеты и приступы глубочайшей меланхолии (почти по тем же дорогам пройдет позднее такой человек, как Гюстав Ру); и жизнь и труд людей, еще связанных со стариной, – мукомолов, пастухов, рыбарей; и Gemütlichkeit, стиль бидермейер, этот душевный уют без взрывов, тем более – без грандиозных фантазий романтиков вроде Гюго, особенно его готических или восточных вычурностей… Да, по сути, дом и жизнь Ру в Каруже были еще совсем близки подобному миру.
«Кому не смешон мечтатель, что видит зимой цветы», – эти цветы, которые Шуберт воскрешает в одной из лучших lieds своего цикла «Зимний путь», Ру видел каждую зиму у себя на стеклах, и рисунок мелодии, сопровождающей два приведенных стиха, кажется, в силах растопить самый твердый душевный лед.
март
Собирая в одно заметки о поездке в Израиль, снова перечитываю последние стихи Целана и комментарий, который отважилась сделать к ним его еврейская подруга, так поздно найденная в Иерусалиме[190]190
Имеется в виду Илана Шмуэли, дружившая с Целаном еще в его юношеские годы в Черновицах, уехавшая в Палестину и снова встретившаяся с поэтом в Иерусалиме в 1969 г.
[Закрыть]. Каждое такое перечитывание меня подавляет: все трудней продолжать собственную работу, – какие слова в сравнении с этими не покажутся слишком смутными, слишком легковесными, едва ли не пустыми?
И все-таки сад: фиалки, фиолетовые и белые, среди новорожденной зелени – деревья в цвету и т. д. И все-таки нужно продолжать. В бескомпромиссности Целана, в самом его даре есть какая-то гордая, жесткая сила, которая меня впечатляет, однако, мне кажется, возможны и другие пути. Ошибкой – и смехотворной ошибкой – было бы претендовать на какое-то особое право в очередной раз штурмовать эти крутые вершины, с которых, кстати говоря, он никогда не поучал, в чем я готов упрекнуть Шара.
И опять Целан:
Правда,
ты не поступишься
ни травинкой.
* * *
Прогулка в Рош де л’Уа, над Пьерлонгом. Всюду сосны. Многие сады уже отцвели, но некоторые в самом расцвете. Самые красивые – вроде пены, едва держащейся на склонах. Под оливами трава гуще, и я вспоминаю о Мальорке, где это меня тронуло впервые, как позднее в Греции; смутная мысль о колыбели, о легком сне среди этого серебристого пепла, у вековых стволов, скрученных, как давно остывшее пламя, витых колонн галереи для отдыха пастухов.
* * *
Д’Обинье, комментируя после смерти жены один из псалмов: «Я уже не из тех, кому зелень приносит надежду…»
* * *
Снова слушая (если не ошибаюсь, «Реквием» Моцарта), отметил для себя, хотя не очень понимаю зачем, образ «черты», быстро пронесшейся в высоте, – он напоминал белую птицу, озерную цаплю в Сен-Блезе, в давние времена, только теперь он представился мне в небе над Иорданом.
Стрела? Быстрый посвист на огромной высоте, и при этом совершенно ощутимый, совершенно безусловный, мгновенный и ощутимый: словно подпись? или росчерк? Просверк металла, молнии, но не гибельный, а как бы ставящий подпись под каким-то белоснежным обещанием.
* * *
Опять принимаюсь за «Духовную песнь» Сан-Хуана. Много полезного о ней есть в «Камне и средоточии» Валенте: Таков странный путь поэтического слова, путь постоянно начинающегося начала: путь зари. Выезд сеньора Дон Кихота, как помним, происходил на заре. «Должна наступить заря», но сеньор Дон Кихот не складывает оружия всю ночь. И Сан-Хуан пишет: «В ней [пятнадцатой строфе] говорится, что эта умиротворенная ночь – пора не беспросветная, а такая, когда близится приход зари».
апрель
Только что дочитал «Черную птицу под утренним солнцем», одну из немногих книг Клоделя, которых до этого не знал. Как можно его упрекать за то, что он укрылся от мира на своем Дальнем Востоке, если, отбросив обычный догматизм, он так необыкновенно пишет о тех краях? Скажем, о театре но, а ведь к нему не так легко подступиться (вспоминаю то, что нам удалось увидеть несколько лет назад в Бульбонском манеже, и как это было временами прекрасно, но вместе с тем непроницаемо).
Итак, Клодель о главном герое (это амплуа носит имя ситэ): «Одним движением магического веера он, словно дым, разгоняет настоящее и медленным ветром этого колдовского крыла ставит на места всё, чему отныне заказано появляться рядом. Чарами слов, каждое из которых стирается перед следующим, над ожившим прахом постепенно встают сады подземного мира…»
«Сновидческая драма»: как точно это передает ощущение, остающееся у зрителя!
И дальше: «Тяжестью и складками просторного одеяния герой в каждом движении как бы стремится преодолеть смерть, а сам он – отчеканенный в вечности двойник пережитой страсти». Вот что Клодель пишет по этому поводу о рукаве и особенно о веере: «Это единственное в подобном изваянии, что может дрогнуть».
Зрение на Востоке обращено вверх. Взгляд взмывает, «как птица, а возвращается на землю дождем». «Смотрящий вверх ожидает и молится, смотрящий прямо перед собой желает и завоевывает, смотрящий вниз господствует и владеет».
* * *
Если существует молчаливое или тайное (однако все менее молчаливое) братство душ, которое живопись Моранди воскрешает у нас на глазах, как ставший редким язык, язык глубоко внутренний и вместе с тем совершенно не субъективный, то существует и семейство душ, чары которых уже столетиями исходят с фаюмских портретов; впрочем, обе эти семьи – в чем нет ничего удивительного – нередко сливаются. (Листая книгу «Немой призыв», которую посвятил этим портретам Жан-Кристоф Байи[191]191
Жан-Кристоф Байи (род. в 1949 г.) – французский поэт и эссеист.
[Закрыть], и глядя на цветную репродукцию «Мужчины с оливковой ветвью», я поразился, до чего эта ветвь, розовая и зеленая на фоне белой тоги, по цвету и даже по мазку напоминает великого болонца.)
Байи пишет о фаюмских портретах очень точно. Мало того: его собственный язык, приглушенно вибрирующий и остающийся при всей серьезности легким, в высшей степени достоин своего предмета. Ведь эти портреты смотрят на нас «с порога страны мертвых», оттуда, где неуместно говорить громче их самих. В египетском представлении о смерти, противопоставляя его греческому, но не думая одним опровергнуть другое, Байи подчеркивает самое главное: «Жуткую тишину Стикса этот „любящий тишину край“ сменяет другой тишиной, – она включает смерть в общий счет живого и объединяет жизнь и смерть напряженностью общего вслушивания. По представлениям греков, поток и скважина разом, Стикс, которого, если верить Гесиоду, „страшатся даже боги“, – это своего рода смерть в глубине смерти, всегда живая память об изначальном хаосе. В этом смысле он близок к египетскому небытию, чья угроза неизменно подстерегает живущих. Но при том, что Стикс походит на Гадес, а последний почти неразличим и как бы укутан полутьмой, египетская мысль в ответ на угрозу хаоса находит в смерти ясность избавления. Яростного Цербера здесь сменяет молчаливый пес, всезнающий бог».
И дальше: «С этих портретов на нас смотрит само неистовство, с которым жизнь вторгается в жизнь, но которое мягко удержано на границе, где жизни приходит конец. […] Взгляд тут ничего не символизирует, ничего не выражает, он молчалив и непроницаем, как ничто иное, как не молчаливы даже сомкнутые губы, поскольку перед человеком сейчас одно: мир, куда он некогда пришел и откуда сейчас уйдет, – так что взгляд здесь не выражает прощание, он и есть это прощание…»
За книгой Байи мне впервые пришло в голову, до чего эти портреты должен был любить Рильке (хотя упоминал ли он о них, не помню), Рильке, который, вместе со всей современной эпохой опираясь лишь на ностальгию по сакральному, так часто навещал воображением подобные края, рубежи между жизнью и смертью, и с такой страстью мечтал, что рубежи сотрутся, как стерлись они когда-то для Орфея и как стираются сегодня для пригрезившихся Рильке ангелов.
июнь
Среди книг этого лета со мной по-прежнему Байи, чью «Сущность языка» я читаю с тем же ощущением единомышленника, что и «Немой призыв», только еще более острым, особенно когда речь у него заходит о мелочах мира, которые, как я чувствую, все нежней и настойчивей говорят мне о беге времени, – и тогда мысленная близость смешивается едва ли не с досадой, поскольку признаешься себе, что во многих случаях не сумел бы сказать лучше.
Вот о цветах: «[…] бутон, раскрывающийся, как дар, живет сам по себе и безо всякой цели, цветы не возносят молитв и не поют песен, роза не обращена ни к кому» (эти последние слова навеяны Ангелом Силезием), – точно то же почувствовал я, но не в один миг, а постепенно, со временем и раз за разом возвращаясь к этому чувству.
Так же и со светляками, чью диковинную феерию я незадолго перед тем для себя открыл, – что о них напишешь после этого: «Эти крошечные существа, чьи крылышки, ударяя по светящемуся тельцу, и вызывают мерцание, можно было бы назвать блуждающими, но блуждающими, как неприкаянные души, как непроизнесенные слова. Призрачные души без тел, живущие единственный миг ночного свадебного торжества…» Как удается оставаться таким точным, не умерщвляя тайны, а, напротив, углубляя ее насколько возможно? Следом идут страницы о могилах: «В Зальцбурге, на кладбище Святого Петра под скалой, или на островах Греции у каждой могилы горит лампада. В ее слабом свете живет, превращаясь в воспоминание, душа умершего. Безымянный, этот горящий светильник оказывается сильнее имени, поскольку не принадлежит миру. Представляя покойного или мысль живых о нем, тончайшее пламя живет над землей и перекликается с ночным небом. Чудесно было бы представить Землю отражением небес, чтобы лампады мертвых молчаливо отвечали созвездиям. Словно присевшая на стекло ночная бабочка, здесь вдруг возникает мысль о Земле, уменьшенной до последнего приюта, до исчезающего следа, и, как ни странно, вместо страха картина спящего мира вдруг озаряется светом: над „вечным покоем“, кажется, реют светляки».
И еще, о тайне: «Тайна неописуема, поскольку не может и не должна быть описана. От нее доходит одна молва – смутное „говорят“, которое ни о чем не говорит, а только молчит, говоря, что нужно умолкнуть. Но тем самым весь язык, вся возможность членораздельной речи неразрывно связываются с этим молчанием, и не столько ограничены, сколько зачарованы им, кружа у входа в святыню, как вьются в слепом танце притянутые огнем мотыльки. По правде говоря, еще таинственнее здесь другое: что этот огонек не гаснет, что память о богах или о том, именами чему они служили, продолжает молчаливо жить в языке, который уже так далеко от них ушел…»
Недавно мы чуть было не встретились с Байи в залах фонда Маньяни – Рокка под Пармой, где висят несколько замечательных вещей Моранди: по их поводу он придумал небольшое представление, которое должно было, о чем я не знал, состояться вскоре после того, как я уже уехал. Не важно. Он часто бывает в местах, где я только что побывал, всюду, где еще жив этот огонек, который для меня, пожалуй, дороже всего иного и который упорно светит в двух шагах от молчания – там, где черный псоглавец Анубис кладет на нас свою лапу, неся гибель и спасение разом.
август
Вьюнок, который я видел сегодня утром на склоне у дома Бертранов: то, к чему не стоило бы прикасаться словами, но что мне – именно поэтому – важнее всего высказать. «Всё, что рождается чистым, – для нас загадка», – писал Гёльдерлин в стихотворении «Рейн». Вот к чему я упорно хочу вернуться, всякий раз колеблясь на развилке, где один путь обещает долгий, смиренный и трудный поиск, а другой – мгновенное проникновение, передать которое в слове было бы наивысшим счастьем.
* * *
Обычный, повторяющийся у меня, да, наверное, и у многих других, кошмар: заблудиться.
В разгаре светский прием у П. В., множество приглашенных, толпа растет, повсюду люди, всё больше из крупной буржуазии или аристократии, разные уголки парка, статуи среди скал, часовенка, внутри которой виден крохотный человек, занятый каким-то своим делом. Эта скученность, эта толчея и сбивает меня с толку. Дороги тонут в лощинах, темнеет, и страшно уже не только заблудиться, но и споткнуться. Как предупредить, как успокоить домашних?
Позже я возвращаюсь в Гренобль, там меня сопровождают двое моих детей, но как попасть в Гриньян, по-прежнему непонятно. Такси нет (кажется, кто-то объяснил нам почему). Потом находится автомобиль, который нас отвезет, мы с облегчением забираемся в кабину, но шофер отлучается к себе взять что-то забытое, а машина сама трогается с места, и мы, без водителя, оказываемся в лабиринте незнакомых улиц. Любой ценой нужно найти дорожную карту. Перед нами еврейская книжная лавочка, совсем старая; окошко, к которому нагибаются, если хотят спросить. Потом, уже в «настоящем» книжном магазине, мы так и не обнаруживаем ни одной карты района, только планы города с выездами из него. Тоска и страх наваливаются, растут, пока я наконец не просыпаюсь.
сентябрь
Снова эти вечера, когда смотришь на них с холмов, ветерок в листьях, уже начинающих кое-где ржаветь, цветы горца, легко несущие тонкие белые гроздья, перестук досок и инструментов здесь и там, птица, забавно припрыгивающая то ли как живое существо, то ли как древесный листок, молочное небо вдали, ласковый воздух: говоря словами Рильке, «Alles atmet und dankt», «всё дышит и благодарит»[192]192
Из стихотворения Рильке «Утро».
[Закрыть].
Ветер веет до того легко, что его не слышишь; листья, словно крылья, подрагивают в лучах, которые не назовешь иначе как золотыми.
* * *
Свет второй половины дня каплями падает в листву, шевелящуюся чуть быстрее, чем вчера. Редкие отдаленные звуки: машины, лай собак.
ноябрь
Светлая и холодная ноябрьская луна, а на земле пышные кучи опавших листьев хурмы.
Напоминает Леопарди: «Che fai, luna in cielo? Dimmi, che fai, // silenziosa luna…»[193]193
«Что делаешь на небе ты, Луна? // Безмолвная, ответь» (ит.) – из стихотворения «Ночная песнь пастуха, кочующего в Азии», перевод А. Ахматовой.
[Закрыть] Как я люблю начало этого стихотворения и как рад снова услышать его нынешней ночью, распахивающей перед сознанием дороги куда глубже тех, что прокладывает в реальности свет реального светила.
* * *
В городок, похожий и не похожий на Гриньян, небольшими группами стекаются люди, неизвестно зачем – то ли как туристы, то ли на праздник. Скоро становится ясно, что у них, хоть они и не кажутся с виду уличными хулиганами, на уме недоброе, что пришельцы готовятся к драке и, даже при абсолютном спокойствии, выглядят все более угрожающими. Эти угрозы обращены против магазинов с большими, открытыми для обозрения витринами или против домов с широкими проемами дверей и окон. Я нахожусь попеременно то в тех, то в других, с ужасом чувствуя, что в них абсолютно невозможно укрыться. Пытаясь хотя бы запереть ставень, я убеждаюсь, что он еле держится на штырях. Самое гнетущее в этом сне – спокойная вездесущесть угрозы и совершенно заурядный вид «врага».
Одним этим кошмар не кончается. Моторы ненависти понемногу включаются повсюду, хрипят всё громче, и от этого хрипа становится тошней и тошней.
1998
январь
Луна посреди чистого неба в теплый, подозрительно теплый для января день. Как будто ноготок или бумажный фонарик. Ночная гостья, ненароком забредшая в ясный день. Лепесток вишни, зацветшей раньше времени. Свет в сердцевине света.
* * *
Похоже на март, хотя зима еще в начале. Из окна видны – как много раз прежде, хотя сегодня, может быть, еще лучше, поскольку гостиничный парк подрезан, – тени стволов, легко лежащие на лужайках, и переливающиеся кроны лип; это свечение неподвижных веток (в воздухе ни ветерка), это слабое излучение, это совершенно безмятежное ожидание похоже на дневной сон: сиеста деревьев. И то же самое – на вершине Ванту, то же самое – в прядках облаков, то же самое, если бы я мог рассмотреть, – на луне.
* * *
«Музыкальная комната» Сатьяджита Рея[194]194
Рей Сатьяджит (1922–1992) – индийский кинорежиссер.
[Закрыть]: одно из самых прекрасных и самых грустных выражений благодарности красоте, когда она приходит к концу. Этот образ жизни, эта архитектура (куда чего только не намешано), сама эта музыка от нас далеки, но скрытая в них мечта все-таки живет в нас с тех пор, как мы научились читать, с незабываемых страниц «Тысячи и одной ночи»: это даль, спрятанная в глубине сердца, и благодаря искусству режиссера мы чувствуем себя почти такими же зачарованными, а под конец такими же потрясенными, как эти собравшиеся в гостиной раджи. Даже когда огни в последних кадрах гаснут, ничто не мешает светильникам по-прежнему выглядеть невесомым и лучезарным чудом; даже когда смерть становится жестокой реальностью в виде севшей на мель черной лодки, ничто не может помешать хозяину дворца любоваться танцовщицей, все убыстряющей свои каллиграфические движения, как будто ее тело выводит в воздухе самые прекрасные стихи о такой любви, которая только могла пригрезиться человеку.
февраль
Читать «Исчезновение» Жака Бореля[195]195
Борель Жак (1925–2002) – французский прозаик и эссеист.
[Закрыть] я начал, только что прослушав сонаты Баха и Моцарта в исполнении Леонхардта и братьев Кёйкен – исполнении, для Моцарта неожиданном, а у Баха поразившем и захватившем меня тем, что я тут же назвал порывом, «оленьим прыжком» всего существа (выражение, нравящееся мне сейчас только отчасти), – и при чтении Бореля у меня в уме вдруг всплыло слово «маловеры». Это был нечаянный, самопроизвольный отклик на первые страницы, озаглавленные «Проигрыш». Борель с презрением пишет там о тех, кто любой ценой хочет победить, и противопоставляет им прежде всего фигуру Клейста, увлекшего свою подругу в омут совместного самоубийства. При чтении этих строк я, не забывая, из каких глубин они взывают, обращенные никуда, все-таки подумал, какой абсурд – превращать в образец Клейста, словно он проиграл не после того, как безумно хотел выиграть, и выиграть слишком много, и что для нас сегодня речь, в конце концов, идет не о желании проиграть или выиграть, а о выборе совсем иных ориентиров. Именно это уже давно отдалило меня от писателя, которого я прежде чувствовал близким и который всегда вызывал у меня самое живое восхищение. Кроме того, сегодня, при звуках Баха и Моцарта (а Борель говорит о них в той же главе и по тому же поводу), все мои сомнения на этот счет рассеялись, хотя, должен признать, и не сменились ясной уверенностью.
Я перелистывал дальше эту книжечку, принадлежавшую человеку очень близкому, сталкивающемуся с теми же трудностями и прибегающему к тем же ресурсам в борьбе против смертной тоски перед лицом неизвестности. За исключением того, что дух отрицания в нем сильнее и почти всегда готов его увлечь. (Допускаю, что это связано исключительно с разницей наших путей, у него он был куда извилистее.)
Продолжая читать, я наткнулся на такое место «в манере Гильвика»[196]196
Гильвик Эжен (1907–1997) – французский поэт.
[Закрыть]: «Чаша и те же давно исчезнувшие губы, которые продолжают из нее пить». Она перекликалась с тем, что я сказал раньше о проигрыше и выигрыше: стремиться нужно не выиграть или проиграть, а совсем к иному – вобрать, собраться.
Вспоминая один из «Сонетов к Орфею», где Рильке пишет «Петь значит быть»[197]197
«Сонеты к Орфею», III.
[Закрыть], Борель замечает: «Что столько лет по-прежнему живет во мне – эта трепещущая надежда или, с самого детства, ее опустошительное опровержение, сознание бессмысленности?»
Это главный вопрос: может ли понимаемая так поэзия, наряду с живописью и музыкой (например, Шарденом и Моцартом, которых автор так часто сближает в книге), все еще быть для нас «трепещущей надеждой» (надеждой, что между «песней» и «бытием» есть глубокая связь, если не равенство, иными словами, что искусство говорит о смысле, о тех или иных возможностях этот смысл понять), либо оно – всего лишь «опустошительное опровержение», и жесткое слово «опустошительный» точно передает горечь нашей неистовой, но обманувшей страсти?
Этот же вопрос остается с тобой, когда немного ниже читаешь: «Море давно унесло те построенные на песке замки, и ради кого, ради чего их, еще более хрупкие, теперь возводить?» Да, конечно, конечно… но я часто вспоминаю свои давние стихи о «вербных сережках»: «Не важно, что им предстоит рассеяться пылью, если они сияют», если они несколько мартовских дней сияли, опровергая, что тень смерти простирается и на пути к ней.
«Моя мать, моя дочь, одно и то же похороненное заживо детство – как будто та же сдвоенная, смутная улыбка скользит над той же плитой, плывет, как когда-то, в воздухе за стеклом, и эта трель давно исчезнувшей птицы дрожит и переливается». Две невыносимые смерти, одна долгая, другая внезапная, и улыбка, которая помнится, и птица, поющая за стеклом, – вот что все-таки удается заною связать словам (тут думаешь о Шуберте, но менее переменчивом); как будто, в другом месте книги, почти бессмертная роза, при виде которой невозможно поверить, что это просто призрак…
* * *
Дымка в садах – шарф или шаль, в которые может закутаться гостья, невидимая прохожая этим прохладным вечером. Шарф на плечах подступающей ночи или тишины.
* * *
Византийские церкви Армении, Грузии, Каппадокии, которые мне открыли две книги: «Искусство Армении» («Фламмарион», 1989) и «Средневековая Византия» («Галлимар», 1996), – чем они так глубоко захватывают, хотя видишь простые фотографии? Закрадывается мысль, что во всем современном искусстве нет ничего даже близкого (справедлива она или нет, но эта мысль приходит). А еще признаешься, что изо всех мест, куда бы еще хватило смелости отправиться, к этим тянет больше всего. Почему?
Вспоминаю свой восторг перед храмом Святого Анфима в полях, к югу от Сиены (и перед многими другими храмами, к которым, не веруя, приходил), – что здесь, то же самое? И то же, и другое.
То же – это присутствие в самих храмах и вокруг них чего-то сакрального, все еще колышущегося здесь, как слабое, но неопровержимое пламя.
А другое – это, быть может, их местоположение на краю, в пустынях, на взгорьях. Словно выдвинутые вперед башни, сторожевые или оборонительные: слово, воздвигнутое там, где опасность больше всего.
Камни, высящиеся над рассыпанным щебнем.
(Достаточно лиственной вязи, тонкой аркатуры, чтобы мы поняли: это не просто узилище, колодезный голубец или пилон.)
Массивные, плотные, чтобы надежней сберечь невидимую суть. Кажется, возведенные по образу гор, которые их окружают и осеняют. Несущие семя божества.
* * *
Баховские сонаты для скрипки и клавесина: они вызывают во мне тот же восторг, что и в первый раз, когда наша подруга Андреа В. сыграла одну-другую, сев за орган на хорах Гриньянского собора. Представляются какие-то венцы, умиротворенное венчание, замершие в воздухе ангелы с «Крещения Христа» Пьеро делла Франчески: свободный строй, открытый, настежь распахнутый храм. А еще нечто складывающееся и раскрывающееся, как большое белое крыло.
Когда сразу после слушаешь одну из сонат, написанных для тех же инструментов Моцартом (скажем, Опус 376), поражает торжествующая молодость, легкость, живость, временами почти дерзкие, невесомость птицы. Да и птичий дрессировщик неподалеку: в третьей части, кажется, различаешь его смех, – Ариэль, залетевший в Вену. На этой высоте воздух и вправду до того чист, до того переливчат, что самого тянет рассмеяться, но так, как смеется ребенок или засмеялась бы фея. Светлым, неомраченным смехом.
июнь
При входе в первый из новых египетских залов Лувра – бронзовые «пластинки», таинственные и восхитительные, даже если ничего не знаешь о них, об их употреблении и смысле. Знаки, воздвигнутые при начале пути, темные, почти немые, полные нерастраченной силы. Сегодняшний художник, вздумай он им подражать и попросту вернуться к началу, не породит ничего, кроме пустоты.
сентябрь
Глядя сегодня вечером на деревья, ставшие угольно-черными на фоне закатного солнца, я вспомнил строчку из стихов, написанных году в сорок третьем: «И птицы плыли вниз, в земную глубину». Во-первых, потому, что они и вправду почернели от птиц, явно возвращавшихся в гнезда, а во-вторых, из-за следовавших далее строк: «Роняя золото, над кровельным коньком // решеткою ветвей был забран окоем». Иными словами, теперь меня тронуло то же самое, что тогда, с одной существенной разницей: в ту пору увиденное связывалось для меня с любовной тоской, которой сейчас, пятьдесят пять лет спустя, я уже не чувствую. С бегом времени меня примирило то, что после стольких прожитых лет я, пусть только до известной степени, все-таки вроде бы научился лучше выражать свои чувства. Уже не отвлекаешься неведомо на что, не так опьяняешься словами, а благодаря большей скромности идешь дальше, глубже. Сказать о тех птицах, что они «спускались к сонному безмолвию любви», – какая глупость, какое ненужное, бессодержательное пустозвонство! Париж, парижские друзья очень помогли мне потом избавиться от этих штампованных модуляций и сомнительных туманностей, хотя я так до конца и не излечился от «мелодичности», которую впитал со стихами поэтов, восхищавших меня тогда больше всего, – Бодлера, Малларме, Верлена, даже Клоделя.
Верней было бы сказать, что внезапно почерневшие ветви напоминали решетку, выкованную из материала более гибкого, чем сталь, или черное кружево на небосклоне телесного цвета, но, как всегда, для этого не так просто подобрать слова. Как будто ночь, окутавшую, пропитавшую эти деревья первыми, вывели рашкулем на все еще светлом небе, на миг замершем, чтобы через минуту смешаться с ними. Набросок рашкулем, углем, сажей. А обитавшие на деревьях и видимые сейчас за решеткой их ветвей птицы в наклонном, уверенном полете спускались с высот, где радовались дню, в свои гнезда, и это было как фраза, идущая к концу, как мирное, счастливое завершение дневных трудов. Всё вокруг с неизбежностью следовало их примеру. И скоро в воздухе остались лишь одна-две сони, которые, словно посмеиваясь, продолжали кувыркаться, наподобие акробатов в черном трико, уже неотличимом от их хрупких трамплинов, да, может быть, чуть позже, все ясней и ясней сиявшее зеркало поднявшейся напротив луны, где отражались их неугомонность и радость.
* * *
Дети, играющие в бабки костями предков, – «мысль» между явью и сном. И другие образы чего-то хрупкого, пустотелого. Костяшки или домино смерти. Скорлупа. Оболочки, лишенные содержимого. Нежелание думать об этом, думать о том, что ждет, бегство от таких мыслей. И все-таки охватывающая внезапно дрожь, смутный, слабый, скрытый и едва ощутимый страх, скорей даже в ногах, чем в сознании (так кажется).
Нагромождение зелени, нагромождение туч; хаос в небе, по крайней мере – на первый взгляд.
* * *
Вглядываюсь в коврик фиалок, внезапно обнаруженный на выходе из леса. Так очень сутулый человек, лежа на земле, читал бы книгу. Богоявление в миниатюре. Вот то, чем живет поэзия: первинками. Благодаря ей в мире становится меньше повторяющегося, пусть даже она всегда говорит более или менее одно.








