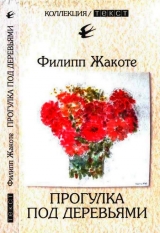
Текст книги "Прогулка под деревьями"
Автор книги: Филипп Жакоте
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Бытует ошибочное мнение, что вы якобы удалились в эту деревню как отшельник, убежали от ужасов нашего времени, тогда как на самом деле вы не только «прогуливались под деревьями», но и жили «среди людей». В самом начале своего пути вы написали «Реквием», но и позже у вас были стихи, созданные под впечатлением конкретных исторических событий.
Да, но эти случаи все-таки исключения. Вы имеете в виду два стихотворения из «Непосвященного»: «Восстание по ту сторону дубравы» и «В снежной буре», – возникшие как реакция на трагические события в Венгрии в 1956 году. Что же касается «Реквиема», то речь шла о французских юношах-заложниках на плато Веркор, чьи фотографии я увидел, когда мне было двадцать лет.
Вы делаете справедливое различие между работой более и менее высокого уровня, но, когда читаешь ваши газетные статьи, становится ясно, что вы внимательно следите за тем, что происходит в мире, не закрываете глаза и уши!
Разумеется, иначе и нельзя, я думаю, что всякая поэзия, достойная этого слова, возникает как результат столкновения с внешним миром, а следовательно – с историческими событиями. Но делать их темой творчества я считаю опрометчивым, ведь, как правило, мы участвуем в этих событиях только в качестве зрителей, так что в девяти случаях из десяти стихи на злобу дня годны только для прокламаций, это поэзия-однодневка, которую вскоре забудут, она не имеет отношения к настоящей поэзии. Возможно, я вернусь к этой теме, когда буду говорить о Мандельштаме. Что касается «жизни отшельника», то это, конечно, совсем не так, потому что здесь у нас много друзей, некоторые поселились поблизости, временно или постоянно, и это дружеское присутствие всегда было важным в нашей жизни. Но об этом, пожалуй, не стоит много распространяться. И еще, даже если удается достичь душевного равновесия, это не избавляет от сомнений, и, в частности, от главного сомнения (одна из основных тем моих книг) – сомнения в праве на поэтическое творчество, в том, что считать источником поэзии, да и в самой поэзии как таковой. Об одном из таких кризисов рассказывает роман «Тьма», написанный в 1960 году; тогда отчасти я смог его преодолеть благодаря открытию поэтической формы, о которой до того знал очень мало, я имею в виду хайку, японскую поэзию XVII и XVIII веков. В то время я каждый день прочитывал и пытался переводить одно-два стихотворения из очень высоко ценимой тогда английской переводной антологии хайку. Это было как капли прохладной воды для жаждущего, как бальзам на раны, которыми я тогда мучился и о которых говорю в романе «Тьма». В значительной мере именно благодаря этим стихам, этим простым словам, которые исподволь, незаметно словно бы вбирали в себя тайну нашего мира, я смог снова взяться за работу; сборник «Мотивы», несомненно, многим обязан этому чтению.
Спустя несколько лет, уже по иным причинам, я снова почувствовал чуть ли не отвращение к поэзии. То направление, в котором развивалась в те годы французская поэзия, приводило меня в замешательство, в оцепенение, мне казалось, что она утратила вдруг человеческое измерение, сердечность, самодостаточность: это была литература, занятая литературным процессом, тем, как она возникает, как происходит ее становление… Меня тогда спасла от упадка духа поэзия Мандельштама. Я открывал ее постепенно: сначала прочел воспоминания его жены, затем – «Путешествие в Армению», переведенное Андре дю Буше с сыном, а затем и стихи. И тут, когда я стал пытаться читать их в оригинале, немного изучив русский, передо мной вживую предстал сам поэт, как раз не пытавшийся создавать «политической поэзии», но сосредоточивший всю мощь своего искусства на том, чтобы каждое стихотворение, как скала, противостояло стихии всемогущей смертоносной власти. Это открытие было для меня равно чуду; без сомнения, Мандельштам – один из самых значительных поэтов XX века, он вплотную столкнулся с политикой в ее худшем проявлении и, можно сказать, вышел из этого столкновения победителем.
Поэт Пьер Воелен сказал в своей «Похвале Мандельштаму»: «Заслуга Мандельштама – и вместе с ним всей современной поэзии – состоит в том, что он осмелился взглянуть в лицо Террора и вслух его обличить».
Именно так, причем сделал это с удивительным мужеством, но опять же, оставаясь прежде всего поэтом, создавая истинно свободные стихи на языке, не похожем на тот жуткий суконный язык, который подчинил себе всю страну.
И вы продолжаете переводить Мандельштама?
Нет, это была в каком-то смысле любовная встреча, счастливое стечение обстоятельств, свобода, досуг, позволивший мне тогда погрузиться одновременно и в русский язык, и в творчество этого поэта. Потом возникли другие обстоятельства, и я уже не мог продолжать. Но он, несомненно, остается для меня одним из самых великих спутников в мире поэзии.
Вы всегда, на протяжении многих лет непрерывно читали, причем с пером в руке, вашим именем подписаны сотни критических статей, обзоров, литературных хроник в газетах и журналах. Считаете ли вы литературную критику частью своего творчества?
И да, и нет. С одной стороны, конечно, да. Но одновременно – это критика, а значит, она для меня не так важна, как стихи и проза, куда вложен человеческий опыт. Да я и не считаю себя настоящим критиком, я просто читатель, который с максимальной честностью и порой со страстью делится впечатлениями о своих любимых книгах. Мною часто двигало желание рассказать о некоторых недостаточно известных и недостаточно оцененных авторах, я думал о людях, которым такое чтение могло бы доставить радость, и старался написать так, чтобы им захотелось прочесть эти книги, а после этого они могли бы преспокойно забыть мои тексты, ибо больше они ни зачем не нужны.
Читаете ли вы романы, повести?
Сейчас гораздо меньше. Я вообще читаю меньше и меньше получаю книг, потому что уже давно перестал быть профессиональным критиком. Очень немногие вещи интересуют меня в этих современных романах. Следовательно, у меня много пробелов, и я воздержусь от суждений. Да, я читаю, безусловно, гораздо меньше, чем раньше, по той же причине, по какой я почти утратил интерес к современной поэзии; к тому же с возрастом наступает усталость от книг, возникает желание перечитывать любимых писателей юности, чья слава неслучайна; ведь если Шекспира продолжают играть на подмостках, то это не случайность, и не случайно Гёте считается одним из величайших немецких писателей.
Его как раз я и перечитываю в последние годы. В молодости мы обычно предпочитаем Гёльдерлина и Клейста, романтиков, на которых сам Гёте смотрел почти с ужасом, если не с отвращением, находя их болезненными и неуравновешенными. Но именно такое и нравится по молодости, а сам Гёте как раз может отталкивать своим образом (который, кстати, не так уж соответствует реальности) царственного поэта, тайного советника, министра, человека слишком уверенного в себе, слишком уравновешенного, хотя, внимательно читая его, замечаешь, что это было не совсем так. Но нет ничего удивительного в том, что с возрастом больше привлекает именно он, может быть, единственный из поэтов, сумевший сохранить свой дар до самой глубокой старости. Три четверти поэтов, если не девять из десяти, либо умирают молодыми, либо перестают писать в молодости, либо занимаются перепевами самих себя. У Гёте каждый новый этап жизни знаменуется новыми отношениями с языком, новым уровнем поэтического напряжения, всякий раз созвучным его новым переживаниям; в мои годы для поддержания бодрости естественно читать поэта, который в таком же возрасте и даже старше сохранил неувядающий поэтический дар. Для переводчика, такого, как я, Гёте неимоверно труден (но и особенно привлекателен) тем, что его лирическая поэзия, составляющая лишь часть его почти необъятного творчества, практически непереводима на французский язык. Специально этот вопрос я не изучал, не будучи человеком библиотечным, и не прочел всех переводов Гёте, начиная с XIX века, но не думаю, что ошибаюсь, считая его поэзию не поддающейся переводу. На первый взгляд кажется парадоксальным, что Рильке или Гёльдерлин, поэты, слывущие гораздо более сложными во многих смыслах, были переведены, оказали влияние на французскую поэзию и литературу в целом на разных ее этапах. Гёте же переводу не поддается, а причина в том, что в его стихах головокружительное словесное искусство, исключительная поэтическая техника сочетаются со свободным лирическим дыханием. То есть он одновременно и необыкновенно виртуозный мастер, и живой, непосредственный, затрагивающий сердце и душу поэт. Такое же сочетание мастерства и естественности можно наблюдать у Пушкина, который тоже плохо поддается переводу. Достигнуть чего-то подобного в переводе невозможно; даже если переводчик проявит невиданную виртуозность и воспроизведет утонченнейшую структуру стиха Гёте, то немыслимо будет сохранить при этом естественность, потому что перевод – это работа над уже существующим текстом, а не создание оригинального. И мне грустно думать, что люди, не читающие по-немецки, оказываются лишены представления о такой драгоценной и чудесной части европейской лирики.
Что именно в творчестве Гёте привлекает вас больше всего?
Должен признаться, я не могу по-настоящему ответить на этот вопрос, я ведь только начал заново узнавать Гёте, у меня здесь не было полного собрания его сочинений – раньше он не так уж меня интересовал. Совсем недавно я подписался на новое издание, оно еще продолжает выходить, так что теперь я читаю все с самого начала и пока не могу определиться с выбором. Возможно, со временем буду записывать что-то в ходе этого чтения, попытаюсь, за невозможностью сделать перевод, хотя бы «пересказать» некоторые самые прекрасные стихотворения, воспользовавшись свободой комментатора. А пока я открываю чудесные вещи на каждом этапе, начинаю с ними знакомиться, но, повторяю, отдавая предпочтение поздним стихам Гёте, это его абсолютная вершина в этом жанре.
Среди недавних публикаций есть книга, которая вас тронула, это последнее сочинение Луи-Рене Дефоре «Стихи Сэмюэла Вуда».
Да. Должен сказать, что мне не хотелось бы завершить эту беседу, не упомянув имени Луи-Рене Дефоре, он слишком мало известен, хотя в какой-то момент о его книге «Болтун» много говорили – вслед за Морисом Бланшо. Однако потом Дефоре замолчал, и его забыли. Я бы отнес отрывки из прозаической книги «Остинато», над которой он сейчас работает (они были опубликованы частью в «Нувель ревю франсэз», а частью в «Ire ветров», журнале, который, к сожалению, прекратил свое существование), а также сборник «Стихи Сэмюэла Вуда» к самым прекрасным страницам, написанным за последние годы на французском языке. Нужно говорить о нем, читать его – для многих, я уверен, это будет важная встреча. Когда видишь, какую шумиху вызывают сегодня какие-то совершенно ничтожные книги, то хочется с этим как-то бороться – да вот, хотя бы просто упомянув в нашей беседе об этих двух книгах.
Что в стихах Луи-Рене Дефоре показалось вам таким важным и необходимым?
Ну, на этот вопрос не так-то легко ответить. Я пережил потрясение и пока еще мало размышлял об этом. Но мне видится, что помимо глубокого знания литературы и прекрасного владения языком у Луи-Рене Дефоре есть какое-то душевное кипение, глубинное, яростное, напоминающее внутреннее движение его любимого океана, так много значившего в предыдущих его книгах; в нем есть стихийная страстная сила, которой ему тем не менее удается овладеть, превратить в язык – такой обыкновенный, нисколько не «возвышенный», лишенный красноречия и ложного пафоса, всегда сдержанный, словно бы связанный внутренней требовательностью, жесткостью и честностью перед словом.
Жива ли еще, по-вашему, поэзия?
Да. Недавно в газете «Либерасьон» напечатали вызвавшую споры статью, в которой, со свойственной газетному стилю резкостью, был выражен крайне пессимистический взгляд на положение современной поэзии: оно было названо катастрофическим, и само собой разумелось, что сейчас совершенно нечего читать и не стоит ждать откровений. Мне кажется, что оба эти утверждения, слава Богу, абсолютно ложные. Например, говоря об одном аспекте проблемы, я могу сравнить ситуацию современного начинающего поэта с той, какая была в 40-х или 50-х годах, когда я приехал в Париж. Действительно, есть отрицательные моменты, например досадное исчезновение многих замечательных литературных журналов, еженедельников высокого уровня, но многое изменилось и к лучшему. Какими бы спорными ни представлялись публичные литературные чтения, нельзя отрицать, что они позволяют любителям открыть новые имена, услышать поэтов, которых иначе им никогда не довелось бы встретить, и хорошо поэтому, что таких мероприятий проводится все больше. Если крупные издатели сегодня публикуют стихи с большой осторожностью – впрочем, в отношении поэзии они всегда были крайне осторожны, – то существует множество мелких, чрезвычайно активных издательств, возмещающих этот дефицит поэтических сборников. Наконец – и это, может быть, более существенно, – если заглянуть еще подальше в прошлое и вспомнить, каково было положение даже самых великих европейских поэтов – Леопарди, Гёльдерлина, Бодлера в начале или в конце XIX столетия… Леопарди практически так и не увидел большинство своих произведений опубликованными, а сегодня любой мало-мальски талантливый поэт сразу печатает все, что пишет, и более того: о нем сразу же выходят критические исследования, диссертации, библиографии и тому подобное, а такие поэты, как Сен-Жон Перс или Рене Шар, безусловно, не дотягивающие до Бодлера, уже при жизни взошли на пьедесталы, причем оба явно злоупотребляли своей славой. Поэтому думаю, что довольно неприлично было бы стенать о бедах современного поэта – в смысле его социального статуса и отношений с издателями.
Другой, более важный аспект этого вопроса: можно ли говорить о том, что «поэзия умерла». Я думаю, во-первых, нельзя судить изнутри своего времени, нужна дистанция, ведь в истории истина проступает довольно медленно. Конечно, в целом можно сказать, что сейчас среди французских поэтов и прозаиков нет таких впечатляющих и значительных фигур, какие были в начале века. Тем не менее где-то в стороне от «основного потока», к счастью, всегда можно встретить такие произведения, где еще звучит голос чистой поэзии; и это утешает – я думаю сейчас о первых книгах Жана Пьера Лемера или последних сборниках Поля де Ру, есть и другие поэты, ищущие примерно одного: поэзии тихой, смиренной, которая ближе к Верлену, чем к Малларме, поэзии, созидаемой из самых неброских элементов повседневности; даже в самое убогое время мы продолжаем слышать, вопреки всему, глубинную музыку, без которой немыслима истинная поэзия.
Если иметь в виду ваш собственный путь – вы сами говорили о том, что сначала взяли высокий, «слишком высокий» тон, а потом пришли к необходимости сбавить его, – то нельзя ли сказать, обобщая, что эпоха величественных поэтов миновала и теперь мы читаем у названных вами авторов нечто менее возвышенное, но зато более человеческое – быть может, «слишком человеческое»? – и не произошло ли это затем, чтобы французская поэзия именно в этот момент своей истории стала более человечной?
Ну да… только я бы поостерегся употреблять слова «человеческое», «человечное» – ведь тогда получится, что у Бонфуа, дю Буше, Дюпена меньше «человечности», а это не так, просто она менее очевидна. Мне кажется, о поэзии нужно говорить очень осторожно, взвешенно, судить здесь чрезвычайно сложно, нельзя хвалить одно в ущерб другому.
Я совсем не это хотел сказать. Только то, что в вашей жизни и в жизни поэзии целого народа появилась необходимость заговорить тоном ниже.
Наверное, если внимательно взглянуть на то, что происходит вокруг нас, мы просто вынуждены быть смиренней. Но и в самом деле, возвышенная речь, стремление к вершинам, всегда бывшие назначением поэзии, сегодня, кажется, сходят на нет; подобные претензии легко могут сорваться на фальшь – на мой взгляд, это произошло в случае Рене Шара, – сегодня гораздо труднее находиться на вершинах, чем во времена расцвета нашей цивилизации, когда перед ней не стояла прямая угроза исчезновения. Я думаю, что эта жажда смирения сродни позиции Достоевского, с его голосом из подполья, или, несколько в другом ключе, Кафки; разумеется, речь не идет о прямом преемстве, я просто хочу указать на эту попытку выхода из нашего отчаянного положения, о котором часто говорил Франсис Понж.
Давайте поговорим теперь о ваших последних работах, о том, что вы делаете сейчас. Меня особенно поражает, когда я читаю недавно опубликованные тексты, причем некоторые из них почти неизвестны во Франции, например прекрасное выражение признательности вашему давнему другу Жану Айшеру, или стихи к Генри Пёрселлу, или совсем недавно опубликованные мадригалы, так вот, у меня возникает чувство, что в последнее время вы достигли какой-то внутренней легкости, свободы – по отношению к себе самому, к людям и даже, возможно, к тем страхам и сомнениям, которые долгое время вас преследовали и в любой момент могут вернуться… Что сами вы думаете об этой свободе, которой сейчас отмечены ваши труды и дни?
Я думаю, что вы несколько идеализируете положение вещей… Кроме того, хочу отделить критические статьи, написанные по заказу, от всего остального: это статья о Понже для «Кайе де л’Эрн», еще не опубликованная статья о Тардье для того же издания, затем статья о Шаппазе, которому исполнилось семьдесят лет, и эта книга о моем давнем друге, который еще в отрочестве начал рисовать, занялся гравюрой, ведомый неким стихийным даром, вызвавшим в те годы всеобщий восторг в Лозанне. Поэтому я написал небольшой текст, дань дружбе. Здесь, надо признать, я действительно обрел ощущение большей свободы слова, мысли, что, возможно, связано с возрастом, теперь я меньше робею, меньше думаю о себе самом, говоря о своих знаменитых старших современниках, например о Понже. В этом смысле я скорее счастлив, считаю, что это благо – решиться наконец говорить о своем любимом писателе то, что приходит в голову, когда хочется просто хвалить, а не анализировать в какой-нибудь строгой университетской или дидактической манере, чего я и не умею. У возраста есть свои преимущества, годы, слава Богу, не только многое отнимают, но и дают кое-что, например богатство опыта, воспоминаний. Так что в этих текстах произошло нечто удивительное: проявились связи, внутренняя перекличка накопившихся за долгое время впечатлений от прочитанных книг, встреч, событий, разумеется, лишь тех, которые не стерлись из памяти. В тексте про Жана Айшера говорится о том, что он молился на Рембрандта, он был еще и последователем Рембо, и существует связь между некоторыми текстами Рембо, где речь идет о Христе, и гравюрами Рембрандта. Когда мне случилось поехать в Марракеш, незадолго до того, как сам Айшер рисовал этот город, я пережил там ощущение встречи с миром, в котором жил Христос, в особенности это относится к евангельским рассказам о нищих и об источнике Вифезды. Все это открывает возможности для перекличек и связей, какой обычно не бывает, когда только начинаешь писать, к тому же не всегда решишься сказать о таком прямо. По-моему, это большое преимущество.
Что касается стихов, то здесь я бы проявил большую сдержанность, исключение – сборник «Навеянное облаками», в частности стихи к Генри Пёрселлу, где, кажется, мне и в самом деле удалось выразить то, что иногда дает почувствовать музыка: восторг одновременно очень высокого и очень чистого регистра. Отрывки из мадригалов отчасти сочинялись под знаком Монтеверди, но связаны скорее с самой эмблематической фигурой Монтеверди, чем с его музыкой, со страстным, пламенным характером этого музыканта, и я пока еще не очень хорошо знаю, насколько все получилось. Я согласен с тем, что порой в этих стихах достигается довольно большая свобода: я стал непринужденней, возможно, меньше себя контролирую, и это, может быть, как раз не очень хорошо, если сравнивать, скажем, с требовательностью Луи-Рене Дефоре… Теперь я легче позволяю себе лирические порывы, которых очень остерегался прежде; это видно уже по стихам к Пёрселлу и еще очевиднее в других фрагментах, но пока еще я не собрал это все воедино, потому что до конца ни в чем не уверен. Я не могу подробно обсуждать вещи, над которыми еще работаю.
Недавно у вас вышла книга под заглавием «Другие дни», это как бы продолжение «Самосева», но в то же время книга кажется совсем иной, именно благодаря ощущению свободы, которая чувствуется даже в рассказе об особенно тяжелых моментах жизни, например, когда вы говорите о похоронах Пьера Альбера Журдана. Ведь этот поэт был в этом смысле вашим единомышленником, то есть он искал свободу, легкость и способы преодоления силы тяжести.
Да, и я скорблю о нем, это был один из самых близких друзей, мы всегда с огромной радостью встречались с ним, когда он возвращался к себе в Каромб; было тяжело видеть, как всего за несколько месяцев болезнь превратила его в высохшего старика. Впрочем, он переносил свою болезнь с беспримерным мужеством. Мы были очень близки, его манера речи и письма отличалась простотой и естественностью; он был гораздо более непосредственным человеком, чем я. Но, говоря это, я все-таки не думаю, что та новая легкость и естественность, которую вы почувствовали в моих последних заметках, возникла благодаря общению с ним и чтению его текстов. Все-таки эти заметки – всего лишь дневниковые записи, следующие одна за другой, но тем лучше, если они создают впечатление новизны; они в самом деле более разрежены, чем то, что писалось раньше. В подобного рода текстах нужно всегда опасаться повторений, перепевов старого. Я думаю, это часть той эволюции, благодаря которой я теперь чуть меньше терзаюсь сомнениями; быть может, не так уж и плохо, если удалось сохранить или обрести заново непосредственные порывы юности, не стать натянутым и чопорным стариком.
Как вы думаете, насколько необходима для художника та внутренняя свобода, которая присуща вам и другим поэтам?
Я думаю, что она и есть само средоточие поэзии; ведь одно из основных ее качеств – это свободное слою – не в политическом смысле, который чаще всего имеют в виду, и не в моральном тоже, но свободное по отношению к мертвой схеме, клише, к газетному языку, свободное от того, что нас обступает, и душит, и всегда готово разрушить самое драгоценное, что есть в жизни. Даже в том случае, когда речь идет о не очень большом поэте, но если его творчество хоть сколько-нибудь самостоятельно, самоценно, оно уже является орудием свободы, причем это происходит само собой, спонтанно. В любом случае оно помогает человеку глубже дышать.
________________
Перевод А. Кузнецовой








