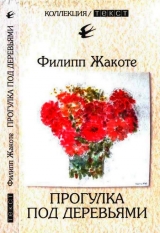
Текст книги "Прогулка под деревьями"
Автор книги: Филипп Жакоте
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Многие этот путь и выбрали или встали на него без особых размышлений. Без долгих рассуждений. Они ведут себя как воины, но ничуть этим не кичатся. Это люди поступка, их взгляд не блуждает в призрачных далях, поэтому они лучше видят близкое: это ремесленники, тесно связанные с вещами, их тяжестью и плотностью, именами. Я знал, любил и чтил таких людей; они хорошо видят лишь вблизи, но зато твердо стоят на ногах… Иногда мне просто хочется описать подобную жизнь. Я больше доверяю не идеям, а таким вот живым примерам. Я показал бы их спокойствие, благодушную мудрость, неизменное мужество, скромность, кроткое и мягкое внутреннее сияние. С восхищением и завистью смотрю я на писателя, способного воссоздать повседневность, тайно окруженную неведомым пространством, подобным полости музыкального инструмента; мне кажется, что он будет ближе к той самой, трудно уловимой истине. Но сам я ничуть на это не способен. Я пытался, но потерпел горькое поражение. С этой ограниченностью приходится смириться, и мне не дано понять ее причину.
(Я знаю, сколь хрупко равновесие, которое до сих пор я кое-как поддерживаю; и если однажды – вероятно, очень скоро – оно рухнет, как уже рухнуло у очень многих, – это меня не удивит. Исчезни та внутренняя защита, которую я поддерживаю по мере сил, – и мне конец: погрузившись во все время подстерегающий ужас, я тут же сломаюсь. Но это не повод, чтобы сдаваться раньше срока. Моя личная слабость не основание для оправдания слабости как таковой.)
Но те-то люди как раз тверды. Перед лицом смерти, перед лицом самой жизни они обычно держатся гораздо лучше, чем многие философы, чья мысль зиждется на отчаянии и страхе. Потому мне случалось думать, что, прежде чем пичкать детей знаниями, которые больше сбивают с толку, чем помогают жить, нужно учить их твердости, выносливости. И еще – доброте.
Но нет, несбыточно и это, я снова теряю время! Пусть эти люди кажутся мне образцом для подражания – я все равно никогда не смогу быть таким, как они, раствориться в них, чтобы избыть свою слабость, справиться с внутренним врагом. Я никогда и не жил в их устойчивом, надежном, понятном мире. Что ж, значит, я вынужден идти к тем, кто ищет, спрашивает, сомневается, берет на себя риск жить без всякой уверенности, заблуждаясь, отступая, падая… Неведомое, иное! Вспышки, зарницы поэзии! Наши глаза устремлены в дальнюю даль, в надежде (всегда ли ложной?), что ее нестерпимое пламя охватит наконец все случайное, спалит преграды, преобразит мрачный и безнадежный мир. Но нет, и они, бесстрашные искатели приключений, тоже не возьмут меня к себе: у меня нет питающей их отваги, веры, благородства и беззаботности. Я не могу пойти с ними в те области, где обрываются все пути. Так, раздираемый сомнениями, я постепенно отсекаю все земные пути. Мне место среди нерожденных.
Может быть, есть нечто среднее между людьми, выбирающими близкое, и теми, кто вечно стремится вдаль? В этом случае жизнь должна стать вызовом смерти. Достичь высочайшего осуществления, исчерпать, по призыву Пиндара, все возможности, но при этом помнить о невозможном, быть готовым встретить неведомое. Принять границы, не замыкаясь в них, – границы временные, проницаемые и непредсказуемо подвижные. Такой человек не гордился бы отказом от богов; напротив, жил бы робкой надеждой обрести их, иных, всегда непостижимых – завершив тяжкий труд в пределах возможного, – так мы получаем в награду милосердный вечерний свет.
И снова повторю: как же легко мы уходим – когда пишем, мечтаем, «мыслим» – за пределы вещей, подальше от реальности! Как быстро забываем ее вкус – единственную подлинную основу жизни! Все эти страницы писались ради свежего, трепетного, живого чуда, замеченного мимолетно при особом небесном свете, в один-единственный день; и еще – ради того мучительного и страдальческого, что померещилось мне сквозь это цветочное кипенье; и вот, прошло совсем мало времени – а я уже так далеко ушел и от того и от другого, хуже того: я уже просто в ином мире, где только прах, сажа, копоть слов.
Даже будучи убежденными домоседами, мы, по сути, всегда кочевники. Мир подарен нам на время. Нужно учиться терять; к образу цветущего сада можно лишь притронуться мимолетно.
Возьмем человека – хрупкое существо, недолговечное, обреченное на скорую смерть, но обладающее взглядом, который можно уподобить небу, куда он устремлен; существо, которое может погубить любая малость; существо из мяса и костей, несущее груз своей плоти, существо навеки загадочное – вообразим себе его, смертного, ветшающего, отходящего; и вот он видит это снежное облако, на мгновение зависшее в ветвях, словно слияние цветов и снега, видит, как новый снег идет на смену прежнему, подхватывая эстафету, и думает: «Белые птицы – вестники богов».
(Белые ключи, отворите двери в непроницаемой стене.)
Подобные мысли приходят все реже, всякий раз все более смутные; многим они приходили в голову и раньше, тайно или явно, и ничего никогда от этого не менялось. Но если они так никчемны, то как их объяснить? Зачем рождаются они? Может быть, они просто расцветают – как эти цветы?
И если, что скорее всего, человек никогда не узнает смысла всего этого, не поймет, зачем дана ему жизнь, для чего же тогда он вообще приходил? Был обманут и, следовательно, сам стал обманщиком?
Или навсегда забыть о вопросах? Разомкнуть порочный круг, заняться чем-то другим, может быть, более важным, а не погибать от удушья, ведь петля стягивается все туже…
Что ж, значит, остается слепота, потому что если не найден выход, то разорвать круг можно лишь вслепую, отрекшись от поисков смысла, во всяком случае – здравого, и просто сказать:
«Вот что я видел в тот апрельский день, когда блуждал наугад, моя жизнь медленно утекала без моего ведома; и вдруг словно снежное облако повисло над землею под серым небом – и даже если в этот миг своей жизни я не испытывал никакой боли, я знал, что ждать недолго, что однажды у меня не будет сил для борьбы, ведь то, с чем я столкнусь, крепнет и разрастается час от часу; и вот я, в недалеком будущем тело-рубище, прежде чем навеки погрузиться в кошмар или отупение, пишу, что мои глаза видели нечто, на миг отменившее смерть».
Что же рождается при встрече глаз с небом? Глаза легко гаснут, быстро закрываются, быстро исчезают (под землей); небо вроде бы пребывает немного дольше, но когда-нибудь исчезнет и оно. Что же происходит при их встрече?
Быть может, некий выход все же существует. Ибо то, что остановило меня в моем порыве – когда я собирался пересечь сад, как беженец границу, чтобы спасти жизнь, – было так плотно, огромно и осязаемо, так явно превышало всякое понимание и восприятие, что приходилось либо признать за ним полную победу, после чего оставалось лишь тупо прозябать остаток жизни, либо вообразить нечто столь же невообразимое и неуместное, что взорвет эту стену, нечто, явившееся в рассеянных отблесках этих видений из иного пространства, чуждое пространству, отличное и от внешнего, и от внутреннего мира, возникающее на их границе – но вечно неуловимое, недоступное…
Май 1971 – январь 1974.
________________
Перевод А. Кузнецовой
Из книги «НАВЕЯННОЕ ОБЛАКАМИ»
(1983)
Слово «радость»
Помню, прошлым летом, когда я в очередной раз бродил за городом, у меня в мыслях, нарушив их течение – так иногда по небу проносится птица, появления которой не ждешь и названия не можешь сразу определить, – мелькнуло слово «радость». Кажется, сначала во мне отражением этого слова прозвучало другое: «парус», и не совсем случайно, потому что летнее небо, сияющее, легкое и тонкое, напоминало в ту минуту широчайшие паруса, которые, отливая серебром, плыли над деревьями и холмами, – между тем как из глубокого, заросшего камышом рва доносились голоса невидимых жаб, тоже, несмотря на всю их резкость, серебристо-призрачные, лунные. Мгновение счастья… но мне сразу стало ясно, что созвучие с парусом не относится к существу дела.
Слово, заставшее меня врасплох и, казалось, уже не совсем понятное, было круглым, как плод, поднесенный к губам; когда же я стал искать еще более точное сравнение, мои мысли перенеслись от серебра (цвета местности, по которой я шел в тот миг, когда это слово впервые пришло мне на ум) к золоту, от вечера к полудню. Передо мной вновь возникла нива, залитая солнцем, но и на этом нельзя было остановиться: я чувствовал, что нужно преодолеть страх, дать подействовать закваске метаморфозы. И я увидел, что каждый колос становится медным духовым инструментом, а все поле – оркестром из соломинок, тонущим в золотой пыли; оно излучало звучный блеск, который я мог бы назвать пожаром, если бы тут же не понял, что блеск этот не имеет ничего общего с бешенством, с пожиранием, да и вообще с необузданностью. (В то же время он не вызывал во мне образы наслаждения, блаженной неги.) Я попытался еще глубже вдуматься в это слово (принадлежавшее, как могло показаться, едва ли не к иностранному, даже к мертвому языку). Округлость плода, золото пшеницы, ликующие звуки духового оркестра – все эти подобия были верны лишь отчасти, им недоставало главного – полноты, но не просто полноты (имеющей в себе что-то неподвижное, замкнутое, вечное), а воспоминания или мечты о некоем пространстве, которое, при всей своей наполненности, при всей законченности, не переставало бы – спокойно, властно – расширяться, раскрываться, подобно разрушенному храму, где колонны (поддерживающие только воздух) разбегаются в стороны, бесконечно отдаляются друг от друга, но при этом не разрывают соединяющие их незримые связи; или колеснице Ильи, колеса которой разрастаются, достигая размера галактик, но все же не переламывают ось.
Это почти забытое слово вернулось ко мне, несомненно, из такой же далекой выси: еле слышным отголоском счастливой и бескрайней грозы. И спустя некоторое время, зимой следующего года, между январем и мартом, я принялся – не размышлять о нем, нет – вслушиваться в некоторые внушенные им образы, а потом переносить их на бумагу, позволил череде этих образов вести себя, понимая или, лучше сказать, безвольно признавая, что на большее я не способен: заранее примирившись с тем, что в конечном счете мне удастся сберечь только несовершенные, почти не связанные друг с другом отрывки – такие, какими, не считая нескольких исправлений, их принесла мне эта близившаяся к концу зима, столь далекая от увиденного мною мельком громадного солнца.
* * *
Я как будто разрываю этот туман
в поисках того, что неподвластно туману, —
ведь почти рядом я услышал шаги
и слова прохожих, говорящих друг с другом…
* * *
(Тот, чье зренье ослабело, пусть доверится ребенку,
похожему на дикую розу…
Освещенный зимним солнцем, он делает шаг,
переводит дыханье, вновь решается шагнуть…
Он, не давший себя впрячь в ярмо наших дней,
не дышал и привольем воздушных лугов.
Он скорее сродни туману, но ищет
хоть немного тепла, разгоняющего туман.)
* * *
Радость вся в далеком прошлом.
Видно, слишком далеком,
иначе б он не думал, что был таким всегда,
и в детстве тоже: ведь ему легче вспомнить
запах мокрого пиона, прикоснувшегося к колену,
чем лицо своей юной матери
в саду, где рябина обрызгала аллею
алыми пятнами.
Теперь он даже и не ходит
в дальний конец сада.
* * *
Так бегун, уже выбившись из сил, следующему
передает светлую деревянную палочку, —
но что отдаст моя рука? есть ли в ней ветвь,
которая позже расцветет или запылает?
* * *
Неужели я сумел это увидеть: кисть заката
на шероховатом холсте земли,
золотое масло вечера на лугах и рощах?
Впрочем, это напоминало
лампу на столе, где лежит хлеб.
* * *
Теперь, когда ноги подкосились, вспомни,
найди в этом тумане ослабевшими руками
и возьми, чтобы подстелить страданью,
хоть немного соломы в морщинистую ладонь,
может быть, она засветится в твоей горсти,
словно вода времени.
* * *
День, чуть ярче окрасивший камни, чуть удлинившийся,
можешь ли ты спасти мое сердце?
Солнце, забывшее робость, солнце, идущее в рост,
спаяй его своим оловом.
Свет, встающий сводом, приподнимающий мрак,
свет, стряхнувший с плеч зимнюю стужу,
я искал одного – понимать тебя, быть верным тебе.
Настал февраль, и ты распрямляешься мало-помалу,
медленно, словно борец, брошенный наземь,
но теперь берущий верх, —
подними и меня на своих плечах,
промой мне глаза, развей этот сон,
оторви меня от земли, чтобы я малодушно
прежде времени не забивал ею рот.
Я теперь могу говорить лишь обрывками,
похожими на камни, которые собираешь
вместе с приросшей к ним тенью,
спотыкаясь о них… разметанными
так, как никогда не раскатятся камни.
* * *
Но быть может, мы в силах каждый день чинить
рваную сеть – ячея за ячеей, —
как если бы там, высоко-высоко,
мы сшивали, звезда за звездою, ночь…
* * *
(Молитва умирающих: жужжанье
черных пчел, достающих свой взяток
из самой сердцевины исчезнувших цветов,
чтобы сделать мед, какого мы
не пробовали никогда.
Как будто доносится пение монахов,
живущих на крыше мира
в храмах, которые подобны крепостям
и стоят на пути неведомых ветров,
вбирая, как раковины, их яростный гул.
Грохочет монастырский гонг,
или, может быть, расседается ледник…
Сами же их голоса сильнее
и ниже любого из тех, что мы слыхали, —
словно жуют свою псалтырь быки,
которых впрягли по нескольку в упряжку,
чтоб они, не отдыхая, могли распахать
отверделое поле вечности.
Ровно ли они вели борозду,
от рассвета и до заката
волоча свой плуг, где лемехом – ледник?
Их голоса, соразмерные горам,
всегда ли соблюдали эту меру?
Мы слышим их теперь издалека,
мы, заики, с голосами сорванными,
развеянными, как солома при дуновении ветра.)
* * *
В горах, в неподвижном воздухе дня
и в молоке света,
залившем ветви еще голого орешника,
после долгой тишины
журчанье воды,
на какой-то миг вышедшей к тропе, —
воды, которую уже слышат
эти сверкающие почки,
эти стеклышки, блестящие в пыли, —
ее чистый и слабый голосок
испуганной синицы.
* * *
Сегодня утром в тумане плыло круглое зеркало,
серебрящийся диск, готовый стать золотым,
стоило лишь вглядеться, чтобы увидеть в том диске лицо
женщины, нежно с него смывающей
следы ночной темноты…
* * *
И хотя день еще сер,
везде, как языки бледного огня, струятся
свежие побеги лип…
* * *
Теперь, когда в февральских садах
сжигают старые листья
(и, похоже, не столько для расчистки земли,
сколько в помощь прибывающему свету),
правда ли, что мы не в силах сделать то же
с нашими незримыми сердцами?
* * *
Смотри, она бежит, почти не касаясь земли
молодыми ногами,
навстречу любви,
как стеклянный ручей, звенящий на камнях,
вся – порыв и смех!
Не бич ли стрижей, свистя над сырыми лугами,
ее подгоняет?
* * *
Мы идем, поднимаясь все выше по горным тропам,
между лугами, напоминающими подстилки,
с которых, гонимые кнутом ветра,
только что поднялись стада облаков.
Большие фигуры животных как будто ступают по небу.
Свет усиливается, разрастается пространство,
горы все меньше походят на стены,
они сияют, являясь во всем величье,
над нами кружатся птицы, привратники этой выси,
и слово, что по небу медленно чертит коршун,
пусть и пропавшее в воздухе, – не то ли, какое мы
уже не надеялись услышать?
Что мы оставили за спиной?
Виденье, похожее на синюю пашню?
Сохранится ль на наших плечах след
прикоснувшейся к ним руки?
* * *
В воздухе прорисовалась розовая жилка,
еще одна, и еще, словно под кожей
юной руки, поднятой при встрече.
В свет проникает какая-то мягкость,
словно помогая выйти из тьмы.
Сколько перьев, горлинка, для твоих крыльев,
сколько нежных слов на губах твоих, незнакомка…
* * *
Есть разъедающая боль,
есть холод, с которым невозможно сладить,
порою с тебя словно снимают кожу
и остается лишь каменный костяк,
клетка из камня, а в ней
стылая сердцевина —
как будто темница, только не скажешь,
есть ли еще кто-нибудь внутри,
кого из нее вызволить надо,
и ключ толкается в засовы
с тяжелым и глухим лязгом.
Боль пустила желтые, жилистые корни,
как у крапивы,
и лицо заволоклось мраком.
Есть такие цепкие растенья,
что ничем их не возьмешь, разве огнем.
* * *
Он все время испуганно прячется в свете восхода,
словно в цветнике, за кустами роз,
и вдыхает столь сладкое благоуханье,
что готов поверить: вместе с этим ароматом
и сам он прорвется сквозь затворы тумана.
О, как припал он взглядом к этой заре,
к этим тлеющим углям в железной жаровне гор,
от которых его с каждым утром относит все дальше!
Как он все помнит! Как смутно он помнит все:
миг, когда розовели вот так же лицо и тело
при первом неясном крике утренней птицы!
* * *
Облака, словно ряды камней,
ложась друг на друга, встают
невесомым сводом, серой аркой.
Нет, нам под силу лишь самое легкое бремя,
может быть, только венец из золоченой бумаги, —
стоит шипам нас уколоть,
мы зовем на помощь, мы трепещем.
* * *
Пусть мне укажут того, кто вполне уверен в себе
и сияет над нами, спокойный, неколебимый,
словно гора, которая гаснет последней
и никогда не дрогнет под гнетом ночной темноты.
* * *
У этой горы есть в сердце моем двойник.
Я стою в его плотной тени, прижавшись к нему спиной,
я наполняю себя его безмолвьем,
чтобы он царил и во мне, и вне меня,
распространяясь вширь, разливая покой, очищая.
Эта тень укрывает меня, как плащ.
Но ни одна гора,
ни один клинок, выкованный в кузнице гор,
не сравнится силою с хрупким
ключом улыбки.
* * *
Мы вновь открываем большие книги,
читаем о том, как сдвигали замки,
о реках, путь преграждавших, о птицах,
служивших вожатыми…
Эти слова
как будто прячутся в складках синих знамен,
которые ветер, дующий неизвестно откуда,
колышет, да так, что ни одного предложенья
мы не можем прочесть до конца.
А быть может, они скользят среди горных вершин,
столь же громадны, еле слышны, неприступны, —
и лишь редко-редко, когда в нас пылает сердце,
падают снегом на наши босые ступни.
* * *
Если этот свет, возводящий храмы,
синие колоннады на каменных основаньях,
между которыми мы, исполнены радости, шли
(на неструганый стол сложив целебные травы,
упавшие пыльными звездами,
омыв наши руки в простой водопойной колоде,
схожей с гробницей, в которой мерцает вода),
если этот над скалами вставший всевластный свет,
несущий посредине фронтона
пламенный, ослепительный диск, —
если он не в силах унять наши слезы, можно ль
его, как и прежде, любить?
* * *
Медная лира ясеней
долго блестела на снежном склоне.
Позже, когда начинаешь спускаться
навстречу облакам,
слышишь реку, лежащую
под овчиной тумана.
Молчи – твои слова
могут заглушить ее гул.
Просто слушай: дверь отворяется.
________________
Перевод М. Гринберга
Из книги «НА СТРАНИЦАХ ЗЕЛЕНИ»
(1990)
Бело-зеленый герб
А еще я увидел сквозь запотевшее боковое стекло машины, возвращаясь домой после долгой поездки под апрельским дождем, небольшой айвовый сад, который защищала от ветра земляная насыпь, поросшая травой.
Нет ничего прекраснее, сказал я себе (позже, встречая айву в других местах, я буду повторять то же самое), – нет ничего прекраснее, чем эти деревья в пору своего цветения. Может быть, в то мгновение они вытеснили у меня из памяти яблони и груши моего родного края.
Наверно, у нас больше нет права употреблять слово «красота». Оно и в самом деле истрепалось. Все же я хорошо знаю, о чем говорю (хотя, может быть, и странно применять это слово к деревьям). Мне, без сомненья, мало что понимающему на этой земле, часто случается спрашивать себя: не следует ли считать «самое прекрасное» – то, что инстинктивно ощущается нами как таковое, – теснее всего связанным с тайной нашего мира, наиболее точным пересказом той вести, которой, как иногда кажется, дышит воздух; или, если угодно, наиболее полным раскрытием чего-то, что невозможно увидеть иначе: пространства, куда нельзя войти, но с которого на миг внезапно спадает завеса. Если бы красота была чем-то другим, то, по-моему, с нашей стороны было бы сущей глупостью придавать ей столько значения.
Я стоял и смотрел, медленно перебирая свои воспоминания. Эти деревья цвели не так, как черешня или миндаль. При их виде не вспоминались ни птичьи крылья, ни роящиеся пчелы, ни хлопья снега. В едином целом, составленном этими цветами и листьями, было нечто в высшей степени устойчивое, простое, тихое – и вместе с тем предельно плотное, непроницаемое. Это «нечто» не подрагивало, не трепетало, как птицы, собирающиеся взлететь, не наводило на мысль, будто здесь что-то начинается, рождается или рвется наружу, переполненное какой-то вестью или обещанием, каким-то небывалым будущим. Оно просто присутствовало в этом саду, и все. Явственное, спокойное, неоспоримое. И хотя айва цветет не дольше, чем любое другое дерево, я не видел, не чувствовал в этом цветении никакой хрупкости, скоротечности. Под этими ветвями, под сенью цветущего айвового сада не было места для печали.
Зеленый цвет и белый цвет. Герб этого сада – бело-зеленый.
Полугрезя, полуразмышляя об этих двух цветах, я вспомнил «Новую жизнь», небольшую книгу Данте, которая приходила мне на ум уже не в первый раз – точно так же было, когда я набрасывал нечто вроде мадригалов на темы другого, более позднего итальянского гения – Клаудио Монтеверди. Помню, тогда это название навеяло мне образ прекрасных, отмеченных и благородством ума, и душевной чистотой, молодых женщин, которые, разбившись на небольшие группы, как бы для музицирования, прогуливаются и о чем-то беседуют, иные с серьезными, иные с улыбающимися лицами, – невинные, но вовсе не бесплотные, напротив, чрезвычайно привлекательные сестры тех ангелов, каких в те времена изображали едва ли не на каждой картине. Эти женщины в белых платьях, расшитых зелеными узорами, казались мне похожими на Весну, которая изображена на фронтисписе фрагмента «Гипериона» в издании 1957 года (если не ошибаюсь, греческая фреска: молодая женщина срывает белый цветок на зеленой лужайке, сама же она одета, во всяком случае на репродукции, в платье несколько желтоватого оттенка) или на Флору из «Весны» Боттичелли, в венке и ожерелье из цветов (добавлю, что сам текст Гёльдерлина, юношески-возвышенный, чем-то напоминает «Новую жизнь»).
Но когда я перечитал книгу Данте, то не без удивления заметил, что за исключением кроваво-алого платья, в котором поэту два раза является Беатриче, причем во второй раз во сне, на протяжении всей повести нигде не упоминается какой бы то ни было цвет – если не считать белого, да и тот упомянут всего лишь однажды. Словесная ткань здесь гораздо скромнее, неосязаемее, чем мне представлялось. И все же отсутствие красок ее не обескровливает. Можно сказать, что эта вещь написана стеклянным, прозрачным языком; она похожа на фугу из стекла, которая в любом слове беспрепятственно пропускает нежный, а порой – из-за какой-то отдаленности, непостижимости – щемящий свет. Показательно то единственное в настоящем смысле слова сравнение, которое можно найти в этой книге (причем сравнение с вещественным миром): «И подобно тому как мы видим, что дождь падает, порой смешавшись со снегом, так и мне казалось, будто я слышу, как исходят их слова, смешавшись со вздохами» (глава XVIII). Данте неспроста упоминает здесь самое легкое, самое прозрачное вещество и далеко не случайно сравнивает человеческую речь именно с ним; так же не случайно мы слышим отголосок этого сравнения в начале следующей главы: «Спустя недолгое время, проезжая дорогой, вдоль которой бежала прозрачная речка, был я объят столь сильным желанием сочинять, что стал думать о том, как бы мне приступить к этому…»[13]13
«Новая жизнь» цитируется в переводе А. Эфроса.
[Закрыть] Впрочем, все, что происходит в этой повести, сводится к шагам и словам. Данте проходит среди людей, Данте говорит; он слышит, как смеются, плачут, говорят. Ничего другого нет и в «Божественной комедии», хотя ее действие протекает в несравненно более просторном и суровом ландшафте; но там поступь поэта становится тверже, его встречи с людьми – гораздо разнообразнее и значимее, и слова его тоже звучат более твердо, обретают большую глубину и вес.
Я правильно сделал, что подошел к этим деревьям. Их белые, с легким розовым оттенком, цветы напоминали и воск, и слоновую кость, и молоко. Может быть, это были восковые печати, медальоны из слоновой кости, висящие на стенах зеленой горницы, в тихом и уютном доме?
А еще они напомнили мне цветы из воска, которые в прежние времена лежали под стеклянными колпаками в церквях, – куда более долговечные, чем живые цветы; после чего сам этот сад, «простой и безмятежный», как та жизнь, о какой мечтает в своем заточении верленовский Каспар Хаузер[14]14
История Каспара Хаузера использована Верленом в новелле «Балетное либретто».
[Закрыть], представился мне часовенкой, белеющей среди зелени, скромной придорожной молельней, где букет полевых цветов продолжает творить одинокую, беззвучную молитву за прохожего, который однажды положил его там – с благоговением, а может быть, просто в рассеянности, потому что устал или спешил продолжить путь, предвкушая какую-то приятную встречу.
Зеленый цвет и белый цвет.
Так описывает золотой век Дон Кихот, обращаясь к оторопевшим козопасам. А потом, на Эбро, после досадного происшествия с лодкой, которую он счел заколдованной ладьей, судьба посылает ему в утешение встречу с прекрасной охотницей: «Случилось так, что на другой день на закате солнца Дон Кихот, выехав из лесу, окинул взглядом зеленый луг и в самом конце его обнаружил скопление народа; приблизившись к этим людям, он понял, что это соколиная охота. Тогда он подъехал еще ближе и увидел статную даму на белоснежном иноходце; сбруя на нем была зеленая, седло же – серебряное. Дама также была во всем зеленом…»
Тоска по золотому веку, пастушеские песни, идиллии… не было ничего странного в том, что я, глядя да цветущий сад, мысленно перенесся в этот пасторальный мир. Сервантес над ним посмеивается, но все же воссоздает его со слишком большим искусством, чтобы можно было утверждать, будто он вовсе утратил вкус к пасторали. Конечно, очарование Дульсинеи развеяно не коварными колдунами, а строгим, трезвым, беспристрастным взглядом на вещи; это то же самое отрезвление, которое позже, принимая еще более жестокие формы, доведет до края отчаяния Леопарди. Тем не менее чары по-прежнему существуют, они вновь и вновь овладевают нами, даже и сейчас, когда мы переживаем, похоже, наиболее суровый период человеческой истории; мы привыкли к их благодетельному (если угодно, губительному) действию и теперь не можем не грезить – или не вспоминать – об этом волшебстве. Разве триумф Флоры менее реален, чем ее поражение, – может быть, он просто длился не так долго? Веселая колесница катится вдоль лесной опушки, звеня пением и смехом, нельзя удержать ее, ничто не помешает ей свернуть и пропасть за деревьями; и уже далек тот летний день, когда мы сами ехали в ней. Но если она не останавливается, если праздник подошел к концу, если музыканты и танцоры рано или поздно перестают играть и плясать, должны ли мы отвергать дары богини, глумиться над ее прелестью?
Зеленый и белый: счастливейшие из цветов и вместе с тем наиболее близкие друг к другу по природе, цвета сельские, женственные, глубокие, свежие и чистые, цвета не столько приглушенные, сколько внутренне сдержанные, цвета, от которых веет спокойствием, тишиной…
Так, свободно чередуясь, в моем сознании перемешивались смутные образы, пришедшие из реального мира и из старых книг. Женские фигуры почти растворялись в цветах и листьях, украшавших их платья и волосы; они просили лишь об одном: войти в их плавные хороводы, скрыться внутри этого обволакивающего пения, которое защитит от любых ударов, исцелит от ран; да, обволакивающего и целительного – точь-в-точь как Церлина для Мазетто в «Дон Жуане», как Церлина, или (что одно и то же) ария Церлины; обволакивающего, даже дурманящего и, вероятно, лживого – но напоенного тем обманом, который мы нередко предпочитаем откровенности и прямоте.
Я убежден, что в любом саду просвечивает идеальный дом: подвижная, гибкая конструкция, с проницаемыми стенами и невесомой кровлей; помещение, оборудованное всем необходимым для бракосочетания света и тени. По-моему, и наши свадьбы следовало бы праздновать в садах, а не в мрачных склепах, какими стало теперь большинство церквей.
И этот сад, наполовину зеленый и наполовину белый, – не что иное, как символ деревенской свадьбы и весенних праздников, приглушенная мелодия, которую свирели и легкие барабаны все еще наигрывают в тающем тумане.
Странные праздники, удивительные идиллии – ведь мы не можем кружиться в танце с этими феями, не можем даже на мгновение взять их за руку!
Может быть, этими восковыми печатями запечатано какое-то письмо и я должен сорвать их и прочесть, что в нем написано?
Устойчивые, непрозрачные, спокойные цвета: ничто в них не трепещет, не бьет крылом, даже не подрагивает. Как будто движения уже – или еще – не существует; но при этом в них нет и дремоты, тем более – оцепенения, окостенелости. Эти свечи (если это вправду свечи) не из тех, что стоят в изголовье гроба; не из тех, что льют свет на постель или книгу. Впрочем, они и не горят: это опять-таки было бы чрезмерной подвижностью, возбужденностью, беспокойством.
Я нашел в этом мире много вещей, утолявших мою жажду и спасавших меня от гибели, вещей, в которых была легкость смеха, хрустальность взгляда. Вот и теперь: я смутно чувствовал, что где-то в траве бежит животворный ключ, только в нем струится не вода, а молоко, еще точнее – но нет, нужно подступаться совсем бесшумно, нужно, чтобы разум и сердце приостановили свой шаг, едва ли не забывая себя, на грани блаженного исчезновения, непостижимого поглощения внешним миром, – еще точнее, здесь мне как бы предлагали, из чистой милости, испить особой, не столь текучей и прозрачной, как вода, питательной жидкости: особой воды, имеющей животную природу и благодаря этому сгущенной, потемнелой, сладковатой, – светлой и беспримесной, но более нежной, чем обычная вода.
Вероятно, не существует более таинственного и в то же время более умиротворяющего цвета, чем зеленый. Может быть, в глубинах этого цвета приводятся к согласию день и ночь? Словом «зелень» мы обозначаем весь растительный мир: луга, листву. А тем самым и древесную тень, прохладу, кров, под которым мы можем найти минутное убежище. («Не привязывайтесь душою к этому минутному убежищу», – советует танцовщица монаху в «Госпоже Эгути», пьесе театра но[16]16
Пьеса Канъами, создателя театра но (XV в.).
[Закрыть], которую я прочитал в шестнадцать лет и с тех пор не могу забыть, – но что делать, если мы, наоборот, хотели бы остаться в нем навсегда?)
Кто же способен даровать это мне, случайному прохожему, кто догадался, что под моей благополучной наружностью скрывается, быть может, самый обычный попрошайка, что меня мучит жажда? Но нет, я не думаю, что протянутую мне чашу держит чья-либо рука, – в этом-то и заключается вся тайна. Не существует служанки, притаившейся в самом темном углу этого зала, – даже и превращенной в дерево, подобно той деве, что ускользнула от распаленного бога. Как будто в этом больше нет нужды, или, во всяком случае, нет нужды в этот день, в этом месте; и служанка, подавшая мне питье, находится в моем собственном сердце.








