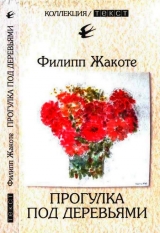
Текст книги "Прогулка под деревьями"
Автор книги: Филипп Жакоте
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
октябрь
Все эти сны о том, что сбился с дороги: может быть, они говорят правду и в глубине души мы в самом деле заблудились и глубоко несчастны, но жаждем счастья? Чаще всего, пока что-то не разбудит, чувствуешь непрестанно растущую тревогу, поскольку время идет и шансов найти нужное место, искомую цель – дом, гостиницу, укрытие – все меньше. В одном из таких недавних кошмаров я совершенно сорванным голосом, которого он, конечно, не слышал, звал М. Р.; в других не отвечает телефон, обрыв линии. Зовешь на помощь, остаешься один, приближается ночь. Что все это предвещает, объяснять не нужно.
* * *
Хопкинс (1844–1889). Листаю драгоценный, вышедший в издательстве «10/18» томик «Записные книжки. Дневник. Письма». Почти научная точность наблюдений, особенно за водой, напоминает рисунки Леонардо: ручей «изгибает стекловидную воду над лежачим камнем».
Запись от 18 мая 1870 года: «Однажды, когда в лесу зацвели гиацинты, я написал: кажется, я не видел ничего прекраснее этих гиацинтов. В них я познал красоту Творца».
Позже, возвращаясь к гиацинтам, он подчеркивает «греческую выверенность их красоты», и это озаряет, как вспышка.
* * *
«Встреча с цветами».
По сути, передо мной все тот же вопрос, который я без конца задаю себе с тех пор, как увидел в окружающем «природу», иными словами, с тех пор, как существую: когда в том или ином часе дня, той или иной части природы, в реке, утесах, фруктовых деревьях и, все острее с годами, в цветах я обнаруживаю «самое прекрасное из виденного в жизни», то что это значит? Или это не означает ничего либо вообще находится за пределами доступного нам смысла?
Кажется, такой вопрос возникал нечасто (хотя по неведению я могу и ошибаться). Греки не слишком пространно рассуждали о природе. К примеру, цветок для них просто подчеркивал красоту женщины, и если Платон обращал внимание на какой-то из них, то, скорее всего, лишь потому, что видел в нем одну из разрозненных и низших форм верховной Красоты, проходной этап, чтобы к ней приблизиться. Долгое время цветы должны были отсылать к чему-то иному; художники усеивали ими одеяния богинь и нимф. Не то чтобы они ошибались, сближая два эти воплощения прекрасного, но было тут еще кое-что. Его лучше прочих почувствовали и сумели передать поэты хайку, не упоминая ни единым словом. Хотя подобная интуиция – а может быть, идея, впечатление, чувство и воспоминание, слитые в одно, – стала неотступной (как тайный советчик, не устающий внушать некую мысль, урок которой, если он вообще есть, мне никак не удается усвоить), стала для меня главной, на самом деле я сумел найти нечто близкое к ней только у Сенанкура (но там меня и впрямь озарила фраза, которую я потом процитировал в «Пейзажах с пропавшими фигурами»), а потом признал, что скорее, нежели у кого-то еще, обнаружу родственные мысли во фрагментах Новалиса или записных книжках Жубера. Ведь это были умы, близкие друг другу, и не только по биографическим датам.
Давно пора прояснить эти мои мысли и, может быть, даже – как знать? – найти в них опору.
* * *
Быстрота смены последних дней, как будто они и вправду бегут, ускользают, ничего по себе не оставляя. Словно бросившиеся опрометью кони? Это первое, что приходит в голову – и невпопад. Неистовства, дикости тут нет и в помине.
Сильный, неутомимый ветер сносит в одну сторону листву и птиц. Как дым из одного очага. И как эти дни.
Кажется, они стали бежать даже быстрее. Словно вода из пустеющей ванны, которую бесповоротно влечет вниз. Оттого ли, что, обескровливаясь, они теряют ощутимость, теряют вкус? Не исключено. Кончится, скорей всего, тем, что наши руки призраков смогут удерживать лишь тени вещей.
Но это было бы слишком удачно. Для нас всё не обойдется так легко: мы – не листья.
Розовые оттенки зимних роз, облаков, листьев, туманов как будто на миг оживают в холодном воздухе, когда солнце вот-вот исчезнет за горизонтом. Пылающая эстафета. Жезл, тайком передаваемый от одного к другому, всего лишь палочка, которую на секунду зажигает розовый вечер. Не спеши выпустить ее из рук.
________________
Перевод Б. Дубина
РАЗМЫШЛЯЯ НАД СЛОВОМ «РОССИЯ…»
(2002)
Слово «Россия» началось для меня с картинок в детской книге – то был «Мишель Строгое» Жюля Верна, из большой серии издательства Этцеля, в красном позолоченном переплете. Само собой, прежде всего я любил эту книгу (причем страстно) за приключения: драматичная и патетичная донельзя, она повествовала о долгой борьбе со злом героя (его победа с самого начала была предсказуема и неизбежна), который был так же благороден и великолепен, как Атос (персонаж еще одной незабвенной книги), мой любимый мушкетер (хотя мне очень нравились и задор д’Артаньяна, и обаятельное лицемерие Арамиса). Но приключения Мишеля Строгова с тем же успехом могли происходить где угодно; прочие герои тоже не обладали собственно русскими чертами. Нет, благодаря этой книге в моей памяти сохранилось только несколько слов и образов, имеющих реальное отношение к России; географические названия с их резким, даже грубоватым звучанием: Омск, Томск, Иркутск, – их одних было достаточно, чтобы перенести читателя в дальние дали, даже независимо от географии; это же касалось и других слов, более конкретных: «телега», «тарантас», «кнут»; особенно последнего, где звук «к», на который оканчиваются многие русские имена собственные, звучал в самом начале резким ударом, оставляющим следы на лице или спине жертвы, – кнут, безусловно ставший для меня одной из эмблем царской России; и само слово «царь», которое Жюль Верн пишет как «czar», что намного выразительней, чем «tsar», соответствует, благодаря молниеобразному «z», образу всемогущего государя, способного карать и миловать; в книге царь впервые появляется в скромном облике гвардейского офицера среди хрустального сияния люстр во время большого бала в новом дворце; но он стоит спиной ко всему этому блеску – на самой первой, незабываемой картинке, со следующей подписью: «Он вышел подышать свежим воздухом на просторный балкон…»: персонаж с военной осанкой стоит, выпятив грудь, в мундире с петлицами, а маленький читатель в это время обнаруживает слева от него, под звездным небом, несколько куполов церквей и с особенным замиранием замечает под ногами государя двух черных, встревоженных, как вороны, всадников на полном скаку – несомненных вестников беды…
(Я всё думаю, в чем же состояла сила воздействия этих картинок, таких простых и в первую очередь наглядных; Макс Эрнст прекрасно передал в своих коллажах излучаемое ими очарование. Никакая фотография не могла бы с этим сравниться; но также и гравюра великого мастера; это было нечто совершенно иное. Так, например, картинка Нижегородской ярмарки с подписью: «Всё было полно суеты и движения…» – тоже запечатлелась на всю жизнь в моей памяти, так что я сразу вспоминаю ее, как только слышу «Петрушку» Стравинского. Сами подписи тоже отчасти обладали волшебным воздействием, возможно, потому, что в этих неоконченных фразах была одновременно и связь с повествованием, и свобода для воображения, открытое пространство грядущего. Наверное, все-таки это можно сравнить с очарованием старых снимков, которые тоже одновременно являют собой и четкость и туманность, копию и подмену реальности, и часто тоже бывают «несовершенны», анонимны; светотень в обоих случаях только добавляет таинственности.)
Было достаточно всего нескольких знаков, чтобы создать образ далекого, чудесного и опасного мира: встреча с медведем: страшная – в горах или забавная – на ярмарке, цыгане в живописных лохмотьях, с враждебными и хмурыми лицами, бревенчатые избы, купола-луковки. И все это на фоне бескрайних девственных просторов с бушующими стихиями, дикими зверями, явными и тайными врагами.
Бескрайняя даль на востоке сердца – вот что открылось для меня впервые благодаря этому чтению, под воздействием имен, образов, а также благодаря географическим картам, уточнявшим маршрут бесстрашного посланника – для большей достоверности повествования. Сейчас я думаю, что эта даль, что это заповедное пространство могло бы открыться для меня и на западе (Диком Западе краснокожих Фенимора Купера), на севере (Крайнем Севере Белого Клыка) или на юге, в пустынях или саваннах Африки. Однако приключения индейцев и ковбоев, как правило, оставляли меня равнодушным, пустыня тогда еще ничего не говорила моему сердцу, в джунглях я задыхался – уже от самого звука этого слова, повести о заполярных областях наводили такую тоску, что я и до сих пор не могу понять очарования ледяных пейзажей. Приходится думать, что во мне уже тогда жила тяга к Востоку и живет до сих пор, даже если я не особенно стремлюсь проверить ее на месте; этот Восток, впрочем, оказался весьма протяженным, без четких границ, начинался он в Центральной Европе, тянулся по следу Мишеля Строгова и доходил, по Транссибирской магистрали или по Великому шелковому пути, до самого Китая; но он захватывал и древнюю Персию, и Непал, и Тибет и менее притягательную Индию.
В этой склонности нет ничего загадочного: чтобы я мог мечтать о каком-то месте, мне нужно, чтобы оно, помимо нетронутой природы, хранило бы память о древней культуре, если не саму эту культуру. По образу географических карт, где цвета позволяют сразу же распознать пустыни, леса, горы и моря, а также геологические и климатические зоны, я мог бы нарисовать карту плотности, сложности и уровня духовных культур. Сегодня я понимаю, насколько несправедливо было пренебрегать цивилизациями Черной Африки или ацтеков; так же как и забывать, что у индейцев и эскимосов тоже есть свое искусство. Но в мою задачу сейчас не входят справедливые оценки; я просто вспоминаю любимые книги детства и отрочества; к тому же для такого книжного человека, каким я был всегда, по-настоящему существовала лишь письменная культура, сохранявшаяся, по мере накопления, в дивных ульях библиотек, куда тысячи и тысячи букв, подобно пчелам, по каплям приносят мед. Все эти письмена, тяжелые великолепные свитки, доступные или нет для чтения, словно карты звездного неба, знаки, сквозь которые струится бесконечность. И думается, даже в те давние годы, уж не знаю, насколько осознанно и правомерно, во мне соединились, питая смутную тягу к Востоку, две склонности, привязавшие меня потом к месту, где я живу: любовь к нетронутым, диким уголкам и в то же время – к самой изысканной культуре, и уже тогда, бессознательно, я искал их сочетание. К этому нужно прибавить древнюю магию расстояний, которая сегодня понемногу утрачивает свою власть, по мере развития коммуникаций между городами и странами.
(Не забудем, что именно оттуда встает солнце и что слова «восток» и «исток» – одного корня.)
Возвращаюсь к России. В течение многих лет эти географические названия, отдельные слова и несколько картинок, столь же маняще-опасных, как некоторые сны, кажется, и оставались моей единственной связью с реальностью, обозначенной этим словом – или, скорее, тем, что оно означало во времена Жюля Верна и до 1917 года. (И в тех внутренних областях, где, периодами, происходили мои встречи с этой страной, она никогда не звалась иначе.)
В семнадцать, кажется, лет я впервые прочел и тут же попытался перевести «Часослов» Рильке. Две первые части сборника, написанные по следам путешествия Рильке в Россию, которые кажутся мне сегодня чересчур лиричными и легковесными, тоже приблизили меня тогда к этой воображаемой России. Когда его стихи не бредут по дорогам, как странники, о которых они повествуют, неспешно, ровно и пламенно (чуть-чуть слишком пламенно) навстречу Богу, они кружат вокруг Него как тихие молитвы – этого Бога Рильке представляет в виде могучего, вечно растущего древа, или неиссякаемого источника, или горы – он убедил себя, что русский Бог был именно таким. И мне, читавшему те стихи с почти таким же неясным пылом, как и тот, что их написал, они снова открыли, вместе со словом «Россия», серо-туманный, глубокий, безбрежный простор, откуда доносятся мощные и торжественные слова. Я представлял себе огромный собор, гудение колоколов и разливы рек, толпы благочестивых паломников, согбенных, бесконечно терпеливых; есть соблазн думать, что в этих образах больше вымысла, чем реальности; но это не так важно; недавно в документальном фильме о религиозных преследованиях в СССР я увидел паломников, пришедших в монастырь – изнемогших, почти без сил, но счастливых достигнутой целью: этот монастырь с желтыми стенами, занесенный снегом, был подтверждением тех образов.
Не собираюсь сейчас медленно обходить, окидывая зрелым критическим взглядом, все те межи русской литературы, среди которых я любил когда-то блуждать. Я хочу лишь вспомнить некоторые образы – те, что встречаются в ней настойчивее всего. Например, в рассказе Чехова «Святою ночью», прочитанном в 1948 году в карманной серии издательства Мермо (директор издательства задумал ее тогда, но вскоре приостановил). Имени переводчика не было, но говорили, что этот вариант редактировал Рамю с помощью русской жены Мермо).
Рассказчик ждет парома, чтобы попасть на другой берег реки, в монастырь, на пасхальную службу; паромщик – молодой монах из этого монастыря. Во время переправы он поведал рассказчику свою печаль: иеродьякон Николай, чья кротость была равна таланту сочинять акафисты Богородице и святым, только что скончался; он относился к молодому собрату почти по-матерински. Всё, описанное – и, главное, описанное так незаметно, под сурдинку, с предельной простотой – на этих страницах: переправа через реку, весеннее половодье, горящие праздничные костры в туманной ночи, гул колоколов, присутствие невидимой радостной толпы, печаль разлуки, обрывки акафистов, которые с восторгом цитирует молодой монах, славя блаженную чистоту слова, – всё это предстает в совокупности тем, мотивов (и каждый из них задевает за живое), сплетенных в гибком многозвучии – очень сокровенном, а ключом к нему становится торжество Воскресения.
(Эта новелла напоминает мне рассказ о другой пасхальной ночи, воспоминание, на сей раз такое смутное, что я не знаю, где его начало, но это и не важно; я держу в памяти картины ледохода и поцелуи, которыми обменивались верующие, выходя из церкви, на заре, передавая друг другу – как иную зарю, иное причастие – самые радостные на свете слова: «Христос воскрес!»)
(На самом деле я, кажется, соединил два момента романа «Воскресение», которые следуют там один за другим: пасхальную заутреню в пятнадцатой главе, когда Нехлюдов встречает юную Катюшу в церкви, и сцену из семнадцатой главы, когда он приходит к ней в комнату, а в это время с грохотом ломается лед на туманной реке.)
Значит, эта полифония, многозвучие, впрочем, это слово в точности не передает связанность, слиянность тем, да и само слово «тема» тоже не подходит, тут всё проще, сокровенней, конкретней – это сплетение реально пережитых образов совпадало с моими потаенными мечтами, которые я даже сейчас не до конца осознаю: плыть через реку – когда она освобождается от ледяных оков, когда лопаются швы ее панциря, а голос ее крепнет, подобно органу, славя мощь весны, – к другому берегу, где ликует огнями и песнопениями праздник, видеть, как вспыхивают в темноте и тумане костры, слышать слова или хотя бы рассказы о сочиненных покойным словах акафиста – абсолютно чистых, сотканных из нежности, умиления, сладостного торжества, медленно скользить навстречу дню, высвобождаясь из тумана, как мертвый из своих пелен («Мы шли вперед, раздвигая туман, который лениво расступался» – не забывая, да и как забыть? – «розовое чернобровое лицо» молоденькой купчихи, на которое, в мыслях о своем почившем друге, неотрывно смотрел паромщик весь обратный путь): все это вместе, всего на нескольких страницах, но, повторяю, без искусственных модуляций и пафоса, являло, выводило на поверхность самую высокую и тайную надежду, какую только можно лелеять. (И в воспоминании о разных сценах из романа «Воскресение» были очень похожие образы: пламя свечей и христосование на фоне отступающего мрака и шума бурлящих вод – мощных, неудержимых, как выход из гробницы… Я думаю теперь, а может ли такой человек, как я, рожденный и выросший в совсем другом мире, поверить в эти слова и повторять их с той же радостью, вопреки доводам разума, ведь они и прежде были не менее абсурдны, чем теперь, когда я слышу их на совсем чужом для меня, трудном языке. Или даже для так называемых «вечных истин» существуют избранные места, мгновения?)
Мне кажется, что я и сейчас, спустя полвека (почти целая человеческая жизнь), слышу, как голос Юга Кено, исполнявшего партию евангелиста в «Страстях по святому Матфею», на хорах лозаннской церкви поет отречение апостола Петра: «Und ging heraus, und weinete bitterlich…» (с тех nop ни один голос не смог стереть из моей памяти этот – и вовсе не потому, что тогда я слушал это впервые). Может быть, здесь заслуга Баха, но все это до сих пор стоит у меня перед глазами, подобно некоторым сценам второго плана на больших полотнах Тинторетто, где глаз задерживается охотнее, чем на первом. Вот ночь перед дворцом Каиафы; еще холодно, самое начало весны, и поэтому там тоже горит костер, вокруг которого собралась стража, и к ним подходит Петр – посмотреть, «что будет дальше». Еще на этой воображаемой картине Тинторетто я вижу двух-трех служанок, пришедших поглазеть на огонь и на солдат, возможно взволнованных происходящим; и присутствие этих молодых женщин тоже обжигает – в эту холодную ночь на исходе зимы. Мне кажется, я могу даже задеть рукавом одну из них, переступая порог. Ночь кончается: это время, когда даже самых выносливых охватывает дрожь усталости, самое тяжкое время ночи. Ведь и днем не так-то легко не трусить, не колебаться. Надо всем этим вдруг разносится резкий крик петуха, звучащий на немецком Лютера как настоящий скрежет железной двери, неведомо куда ведущей. Потом хлынут горькие слезы, на заре, в миг рождения дня. Все это вместе образует плотно стянутый узел, слияние вкусов и ароматов блюда, питающего само бытие; узелок в ткани времени, истории, средоточие всего самого важного, что может пережить человек; вместе с тем самая обычная, реальная сцена, когда холодный предрассветный воздух пробирается вдоль шероховатых стен, проникает сквозь грубую ткань одежд, покалывает руки, ноги, лица… И незабвенная музыкальная фраза, которую каждый раз слушаешь с новым волнением – словно падаешь навзничь, насмерть пораженный; но, повергая наземь, она одновременно подает руку, поднимая с земли – именно это, скорее, должна бы делать служанка, вместо того чтобы пойти и выдать тебя страже.
Но все-таки – что же это? Несколько слов, звуков, что-то запавшее в память и, как я убеждаюсь (независимо от благочестия и веры), остающееся в нас – если не навеки, то, по крайней мере, на то время, пока мы дышим или способны себя сознавать.
«И выйдя вон, плакал горько…» (Мф. 26. 69–75)
Для меня существует связь между этим человеком, который отворачивается, не в силах сдержать слезы, этим восторженным учеником, который думал, что он сильнее других, а на деле оказался слабейшим, и персонажами Достоевского, с которыми я встретился впервые в те же послевоенные годы и в которых, даже не задумываясь об этом, никогда не видел литературных героев, участников выдуманных событий. Они, бесспорно, существовали где-то, пусть я не знал где и не слишком стремился узнать; но они существовали в большей мере, чем многие реальные люди, с которыми я сталкивался каждый день.
В «Страстях» Баха Христос был реальнее, чем в проповедях, в церковных службах, в холодных протестантских храмах, куда мне еще случалось входить, – гений Баха был достаточно высок, чтобы подняться к Нему; и то же самое происходило в книгах Достоевского, происходило иначе, потому что их миры очень далеки друг от друга, но с не меньшей достоверностью.
ДОСТОЕВСКИЙ, НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТОК НА ПОЛЯХ
Первое впечатление: читатель Достоевского словно бы и не видит собственно России; ощущение такое, что в его книгах не только почти нет пейзажей, природы, но мало даже и городского пространства, интерьеров (если сравнивать, скажем, с тщательностью бальзаковских описаний). Он обладает слишком беспокойной и страстной душой, чтобы задерживаться на внешнем. Вспоминая его книги, я вижу только ночь, снег, грязь, улицы, темные лестницы, порой блестящие гостиные, но гораздо чаще комнаты в чадных трактирах, всякие дыры и норы; там обитают существа, которые так и притягивают взгляд неистового романиста, те, чьи внутренние бездны отражены и умножены его собственными муками; порой кажется, что автора невозможно отделить от его героев; эти существа, живущие с такой неотразимой силой и вместе с тем неуловимые, почти всегда открываются нам в движении, в каких-то шатаниях – ведь почва уходит у них из-под ног. Можно было бы сравнить эти образы с портретами Рембрандта, где лица тоже едва проступают из мрака (их озаряет лишь свет, льющийся изнутри), будь в его портретах хотя бы частица той лихорадочной одержимости, порой болезненной экзальтации героев, обитавших в душе русского писателя.
Ибо герои Достоевского – это, прежде всего, лица; и важнее всего в этих лицах взгляды, глаза; они часто плачут, порой хохочут, громко спорят, кричат. В реальной жизни с такими долго не выдержать. Но почему же с самых юных лет мы внимаем им с такой страстью, почему они для нас стали важнее многих других, почему и до сих пор мы так сильно их любим? Быть может, потому, что их крик – это детский, юношеский вопль протеста, абсолютно чистый (могущий дойти и до нечистоты); крик Рембо, любовь к которому, страстная и пристрастная, тоже возникает в ранней юности.
De Profundis, латинская версия CXXIX псалма заупокойной службы: «Заблудившись в этих глубинах я воззвал к тебе, Господи». Эта латынь слишком великолепна для наших дней. Борис де Шлецер, который переводил Достоевского в 1926 году, когда его имя еще писали по-французски с буквой игрек на конце, назвал одну его книгу «Подземный голос», сегодня она выходит под названием «Записки из подземелья». Однако слово «голос» тоже еще слишком красиво. Возможно, стоит пойти до конца и заменить «подземелье» «подпольем» – что будет более точно, сухо и прозаично?[198]198
Пожалуй, ни одно заглавие произведений Достоевского не породило почему-то на французском языке такого количества переводных версий, как «Записки из подполья»: «Mémoires écrits dans un souterrain», «Voix souterraines», «Notes du sous-sol», «Le sous-sol»… («Мемуары, написанные в подполье», «Подземные голоса», «Заметки из подполья», просто «Подполье»), В последней версии собрания сочинений Достоевского, предпринятого Андре Марковичем, это заглавие переведено как «Les Carnets du sous-sol» – «Подпольные записки».
[Закрыть]
Я купил этот «Подземный голос» в 1945 году. У меня и сейчас сохранилась потрепанная книга, где все поля испещрены пометками, а некоторые места подчеркнуты дважды или трижды, что, вообще-то говоря, никогда не было моей привычкой, даже в двадцать лет. Поистине, эта книга – De Profundis нашего времени; и даже еще страшнее, потому что сегодня этот крик ни к кому не обращен, а сам кричащий не знает, что в нем осталось от человека; он разрывается на части, ненавидит и проклинает сам себя, не имея больше никакой уверенности, кроме сознания, что перед ним – стена, в которую он продолжает биться. (Это было уже в книге Иова XIX, 81: «Он поставил на моем пути неодолимую стену»).
Возможно, один лишь Леопарди, до Достоевского, видел нашу жизнь в таком мрачном свете: «Всё есть зло. Я хочу сказать: всё существующее – зло. Зло есть бытие вещей; жизнь – зло, и зло ею управляет; конец мира – зло; порядок и государство, законы, естественный ход развития Вселенной – это только зло или стремление ко злу. Нет иного блага, кроме стремления к небытию; хорошо лишь то, него не существует; хороши лишь вещи выдуманные, которые собственно и не являются вещами: всё остальное – зло» («Дзибальдоне»[199]199
«Дневник размышлений» (Zibaldone), который Леопарди вел с 1819 по 1834 г. Большая часть записей относится к середине 20-х гг. В это время формировался философский пессимизм Леопарди и назревал его романтический бунт. (Полуяхтова И. Жизнь и творчество Джакомо Леопарди. М., «Наука», 2003).
[Закрыть], Болонья, 22 апреля 1826).
«Записки из подполья» – это обвинения, вопли тех, кто наталкивается на стену «естественных законов», чисто рационалистических, математических, непререкаемых, как дважды два, царящих в природе, и с ужасом заключает, что эта стена одновременно неуничтожима и неприемлема; что существует абсолютная и окончательная несовместимость между живым индивидуумом (я который есмь) и невыносимым рациональным порядком, противным жизни, – порядком современного мира, который в эпоху Достоевского уже мало-помалу приобретал форму, набирал силу, подобно чудовищному механизму, чьим винтиком он ни за что не хотел становиться. (Что сказал бы он сейчас, спустя сто лет? Осмелился бы он вообще заговорить? Заговорил бы как Беккет?)
В «Идиоте», написанном три года спустя после «Записок из подполья», юный Ипполит, больной чахоткой и знающий о своей неминуемой смерти, произносит такие же слова протеста (но они звучат в каком-то смысле более взвешенно и спокойно) – с горестным пылом человека, натолкнувшегося на ту же стену. (Очень прямолинейно, быть может, даже слишком и потому не так непосредственно и убедительно, как «голос из подполья», – возможно, потому, что теперь этот голос больше не говорит в одиночку, но отвечает другим голосам – спорящим, опровергающим.) Этот яростный протест: «„Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид тарантула…“ Какой нравственности нужно еще сверх вашей жизни, и последнее хрипение, с которым вы отдадите последний атом жизни… „Что мне во всей этой красоте, когда я каждую минуту, каждую секунду должен и принужден теперь знать, что даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня, во всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива, а я один выкидыш“…»[200]200
Здесь и далее цитаты из Достоевского приводятся по книге: Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 9 томах. М., «Астрель»; ACT, 2003–2004.
[Закрыть] Читая эти слова, я не могу не вспоминать Рембо: «О мошка, опьяневшая от писсуара корчмы, влюбленная в сорные травы и растворившаяся в луче!»[201]201
Перевод М. Кудинова.
[Закрыть], этот душераздирающий, протестующий крик был подхвачен с тех пор – сознательно или нет – многими писателями. Но ни у кого другого, мне кажется, он не прозвучал так возвышенно и чисто, так правдиво, так пронзительно; потому что именно у Достоевского это произошло впервые; и потому еще, что писатель сам очень хорошо знал, что такое подполье, ужас, мрак; носил их в себе.
В исповеди Ипполита протест был направлен против некоего безымянного Бога, воздвигшего стену. Но есть там и другое. В доме Рогожина Ипполит увидел картину, копию «Мертвого Христа» Гольбейна, изображающую ту немыслимую вещь, которая есть труп Бога. Мышкин заметил своему другу, владельцу картины, что ее достаточно, чтобы кто угодно «веру потерял». Ипполит подтверждает: «Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил теперь даже Тот, Который побеждал и природу при жизни Своей, Которому она подчинялась? <…> Эти люди, окружавшие умершего, которых тут нет ни одного на картине, должны были ощущать страшную тоску и смятение в тот вечер, раздробивший разом все их надежды и почти что верования. <…> И если бы этот самый Учитель мог увидать Свой образ накануне казни, то так ли бы Сам Он взошел на крест и так ли бы умер, как теперь?»
Никто в романе не возражает Ипполиту, а ведь очевидно, что как раз вся надежда могла бы в этом и состоять: в трупе Бога, которого не обошло никакое человеческое страдание.
Достоевский умер 28 января 1881 года. В следующем году увидела свет «Веселая наука», этот новый вопль, который будет еще долго звучать, – вопль «бессмысленный»: «Где Бог? – воскликнул он. – Я хочу сказать вам это! Мы его убили – вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погребающих Бога? Разве не доносится до нас запах божественного тления? – и Боги истлевают! Бог умер! (Gott ist tot!) Бог не воскреснет! (Gott bleibt tot!) И мы его убили!..»[202]202
Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Том 1. М., 1990. С. 515.
[Закрыть]
Когда я был подростком и, благодаря остаткам протестантской веры и «религиозного воспитания», еще соблюдал ритуалы, почти потерявшие для меня смысл, я уже тогда не мог понять, как можно любить слащавые изображения Христа на благочестивых картинках, «младенца Иисуса», «доброго пастыря», в то время, когда хотелось, вместе с Рембо, восстать против «предвечного восхитителя сил»? Я не хочу останавливаться на чисто внешнем интересе к аду, разновидностям ада, который питало тоже довольно поверхностное чтение «проклятых поэтов». Что же касается истерзанного, окровавленного Христа испанцев, Распятого Грюневальда, то их я попросту боялся; чисто инстинктивно я протестовал против того, чтобы нашу жизнь освящал образ измученной, окровавленной жертвы. (Сегодня я уже лучше понимаю это и, по-прежнему внутренне не приемля этот образ, все-таки начинаю догадываться, в какую глубь уходят корни этого древа.) Если бы однажды нам захотелось освободиться от всех клише, преодолеть давнее и затянувшееся вырождение, оскудение Слова, некогда мятежного и свежего, – то мы если бы и захотели, то не смогли бы, не зная, с чего начать (в любом случае игра на электрогитаре во время церковной службы – это не выход). Но, я думаю, здесь могло бы помочь глубокое осмысление так называемых «произведений искусства», где доминируют христианские образы, «Страстей» Баха или таких великих романов, как «Дон Кихот» и «Идиот».
В книге «Достоевский, свидетельствующий о себе» Доминик Арбан предполагает, что на создание «Идиота», чья главная идея, по словам писателя, заключалась в том, чтобы «изобразить положительно прекрасного человека», могла повлиять новая встреча с Дон Кихотом в 1860 году (это было через двадцать дней по возвращении из Сибири) благодаря лекции Тургенева, в которой герой Сервантеса был представлен как человеческое воплощение Христа. Двадцать лет спустя, в «Дневнике писателя», Достоевский еще раз напишет о Дон Кихоте: «…самый великодушный из всех рыцарей, бывших в мире, самый простой душою и один из самых великих сердцем людей»; и о книге в целом: «…эта книга, самая печальная из всех <…>, свидетельство тому, что было самой глубокой тайной, роковой тайной человека и человечества».
И, несмотря на фундаментальные различия, отблеск света Христова (настоящего, без слащавости или двусмысленности) ложится на эти две вымышленные фигуры, почти бессмертные для нас, – Дон Кихота и князя Мышкина, которого мы предпочли бы называть скорее «простецом», чем «идиотом».
Родство между ними подтверждается в самом романе, в сцене чтения пушкинского «Бедного рыцаря», когда барышни Епанчины потешаются над князем. И когда мать, раздраженная намеками, требует у Аглаи сказать, кто же этот «бедный рыцарь», та отвечает: «„Бедный рыцарь“ тот же Дон Кихот, но только серьезный, а не комический»; и, уточняя его черты: «человек, способный иметь идеал, во-вторых, раз поставив себе идеал, поверить ему, а поверив, слепо отдать ему всю свою жизнь».








