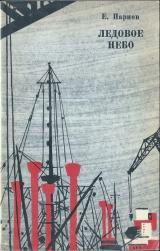
Текст книги "Ледовое небо. К югу от линии"
Автор книги: Еремей Парнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
АЛЫКЕЛЬ
«ИЛ-18» приземлился и аэропорту «Алыкель» и медленно подрулил к вокзалу. Подали трап, но пассажиры остались на своих местах и ожидании паспортного контроля. Не считая порта на Енисее, севернее расстилалась лишь дикая тундра с разбросанными по ней стойбищами.
По всем канонам заполярный город был пограничным, хоть и отстоял от океанского побережья на многие десятки километров.
Румяные, успевшие загореть на весеннем солнце, парни в зеленых фуражках с привычной деловитостью поднялись на борт и с двух сторон начали обход.
В ожидании своей очереди Лосев достал паспорт, вложил в него командировочное удостоверение спецкора «Правды» и с любопытством приник к иллюминатору. За ангарами и шахматными будками вспомогательных служб расстилалась тундра.
Белый с желто-бурыми пятнами бескрайний массив, испещренный зеркалами замерзших озер, открывшийся ему с высоты, обернулся робкой манящей зеленью.
Казалось, что взлетная полоса с пунктиром сигнальных огней пролегла вдоль опушки невесть куда провалившегося подмосковного леса или по заливному лугу, сверкающему в каплях росы. Но редкие кривоствольные лиственницы и хмурые, отмеченные снежной клинописью горы вдали напрочь развеивали иллюзию. Непонятная пророческая невозмутимость неба наполняла ожиданием и ещё неясной свободой.
Лосев помедлил у трапа, всматриваясь в лица стоявших у самолета людей, и неторопливо побрел к багажному отделению. Озабоченного выискивающего взгляда он так и не поймал. Похоже было, что его не встречали. А ведь из редакции звонили по прямому проводу самому Логинову. Очевидно, вышло недоразумение, кто-то чего-то перепутал, забыл, одним словом, обычная ерунда. Оставалось надеяться, как это уже бывало, что обратятся по трансляции. Но время шло, объявлялись и задерживались рейсы, а о нем так никто и не вспомнил. Последний пассажир с авоськой, набитой ядрами апельсинов, получил свой чемодан и зарешеченный вольер опустел. Ждать более не имело смысла. Печально опустив прогнутые лопасти винтов, застыли в строю вертолеты, отсверкивая стекляшками пустых кабин, а ожидавшие у вокзала черные «Волги» и зеленые «газики» умчались в облаках пыли по какому-то грейдеру.
Лосев догнал девицу в красном пальто и олимпийских тренировочных брюках. Из-за огромного чемодана и множества сумок, где золотились спелые плоды – в самолете Лосева почему-то все везли апельсины, – она приотстала от общего торопящегося потока и ковыляла в аутсайдерах, поминутно меняя руку.
– Простите, – забегая немного вперед, остановил ее Лосев. – До города далеко?
Девица оказалась довольно хорошенькой простушкой. Поставив чемодан, она тыльной стороной ладони отёрла лоб, шумно вздохнула и вдруг озарилась широкой белозубой улыбкой.

– В первый раз к нам? – ее удивленно-наивные синие-синие глазищи сверкнули такой откровенной радостью, что Лосев невольно расплылся в ответной улыбке.
– Первый… Меня, понимаете, должны были встретить, но… – он выразительно пожал плечами и взмахнул свободной от кейса рукой. – Придется добираться, как бог на душу положит.
– Так поезжайте на электричке! – посоветовала она и тут же огорчилась. – Нехорошо получилось. Как это нас не встретили? У нас люди очень даже внимательные, им не подумайте.
– Пустяки, всякое в жизни случается… А где электричка? Близко?
– Близко, – она кивнула на узкий проход, в котором исчезли последние пассажиры. – Все туда пошли.
– И вы тоже?
– И я, – она наклонилась над вещами, но Лосев опередил.
– Позвольте мне, – перебросив кейс в левую руку, он подхватил чемодан, и они зашагали, оживленно болтая, словно давние знакомые.
Бетонированная платформа, где уже дожидался поезд, находилась сразу за аэровокзалом. Вокруг дымилась кочковатая равнина.
Весенняя тундра поражала взгляд плюшевыми островками ржавых и бело-розовых мхов, цветами и зеленым стелющимся кустарником у окон, забитых подтаявшим снегом. Одинокая колея на высокой щебнистой насыпи узким клином смыкалась у горизонта, непроницаемого, слоистого. Лосеву она напомнила тающий след запущенной в пространство ракеты.
Простояв с полчаса, электричка тронулась, с умеренной частотой отстукивая на стыках. Редко-редко за окном проносились глухие бревенчатые строения, будки обходчиков, побеленный известкой угрюмый сруб, напоминавший скорее острог, чем пакгауз.
Телеграфную проволоку поддерживали тонкие железобетонные опоры, глубоко врезанные в ледовый грунт. Почерневшие, шелушащиеся лишайником останки прежней линии всосала или напрочь изрыгнула из себя мерзлота. Временное, случайное не приживалось в тундре. Что возникло по слепой воле или неведению, то исторгла она из чрева и обратила в труху: дерево ли, железо, колючую ржавую проволоку или черные ризы монахов, вознамерившихся обратить к истинному богу здешних кочевников. Нет памяти у природы на чуждые ей структуры. Все распыляет на первозданные атомы. На проталинах вовсю ликовала буйная зелень, тянулась к солнцу венчиками бессчетных цветов: розовых, желтых и белых.
Не узнать уже никогда, что когтили цепкие корни под моховым слоем, чьи кости высасывали. Давным-давно осыпались те венчики, отмерли в скудном торфу те ненасытные корни.
– Правда, красиво? – устроившаяся напротив девица наклонилась к Лосеву. (Сняв пальто, она осталась в олимпийском костюме).
– Красиво, – он отвел взгляд от празднично белых, сплошь покрытых цветами кочек. Цепь ассоциаций, которая привычно развертывалась в мозгу, оборвалась. Он так и не додумал чего-то очень важного, обещавшего дать ключ к теме, которую собирался поднять.
– А, собственно, что здесь красивого? – спросил он, обращаясь скорее к себе, нежели к ней. – Скупо, приглушенно, необоримо… Да, видимо, в затаенности, в подспудной, так сказать, мощи есть и своеобразная трогательная прелесть.
– Это еще что! – по-своему, без подтекста, поняла Лосева жизнерадостная спутница. – Видели бы вы, что творится здесь летом! А осенью! – она всплеснула руками. – Весь город в тундре! Грибы, ну, выше деревьев!
– В самом деле? – Лосев иронически улыбнулся. – Так уж и выше?
– Не верите? – она пришла в совершенный восторг. – На материке никто сразу не верит, – залилась счастливым смехом. – Чудаки! Глядите, вон, как березки стелются, – приникла к окну, расплющив о стекло вздернутый носик. – Видите?
– Вижу, – Лосев сидел лицом к движению и успел разглядеть голый еще пресмыкающийся кустарник.
– К самой земле, в мох, можно сказать, врастают. А грибы… Что? – она чуть было не высунула язык, но вовремя удержалась. – Они, напротив, из моха вылезают, вверх, иначе им нельзя, – замолкла на мгновение, давая ему прочувствовать, и с торжеством подвела итог: – Вот и получается, что выше деревьев, над ветками. Сами увидите.
– Вряд ли я прогощу столь долго.
– Так осени ждать всего-ничего, – она пересчитала по пальцам, – июнь уже на исходе, это наша весна, – июль – лето, август – осень…
– А остальное – зима? – досказал он. – Что ж, возможно, я и дождусь осени… Как вас зовут?
– Люся. А вас?
– Герман Данилович.
– Очень приятно… А вы кто?
Прямой, по-детски обнаженный вопрос несколько смутил Лосева. Ответить на него однозначно, без уточняющих подробностей, показалось не просто. Назваться ученым, он был доктором наук и профессором, как-то не очень хотелось. Неизбежно следовавшее за этим перечисление титулов воздвигало преграду, уводило в сторону от непритязательной житейской беседы.
– Я приехал, чтобы написать статью для газеты, – несколько уклончиво ответил он и улыбнулся смущенно. – Хоть это и не совсем мое амплуа.
– Зачем же вы взялись? – удивилась Люся.
– Видите ли, я по специальности социолог и мой материал тоже будет с социологическим уклоном. Меня интересует социально-психологический климат большого производственного коллектива в условиях Крайнего Севера, принципы управления и все такое прочее.
– Для науки?
– И для науки. Но сначала я напишу газетный очерк.
– Журналистика – ваше хобби?
– Н-не уверен, – раздумывая над ответом, Лосев усмехнулся в усы. Точность и непосредственность ее вопросов определенно ему импонировали. – Скорее, оборотная сторона профессии… Но бог с ней, с профессией. Расскажите лучше, что вы делали на материке? Так, кажется, у вас говорят?
– В Москве была, в Ленинграде, в Киеве, – Люся участливо зажмурилась и покачала головой. – Где я только не была! Даже в Закарпатье.
– И все в один отпуск?
– Он у меня длинный-предлинный. На целую полярную ночь впечатлений. Девчонки заслушаются, – она стала подробно перечислять виденное, сопровождая доверчивым смехом. Преображение было мгновенным. Развитая, схватывающая все на лету, серьезная девушка уступила место восторженной провинциалочке. Она буквально засыпала Лосева перечнем восхитивших ее достопримечательностей. Но он не нашел в ее рассказе ни точных характеристик, ни зорко подмеченных подробностей. Сплошь общие места и стереотипные эмоции. Стало скучно.
Электричка несколько раз останавливалась, пережидая встречные поезда, и люди выходили поразмяться.
– Не хотите немного погулять? – предложил Герман Данилович, когда они, кажется надолго, застряли на очередном разъезде.
Он подал ей руку, помогая сойти с высокой ступеньки, жадно вдохнул пряный запах вечнозеленых, перезимовавших под снегом кожистых листьев.
– Что это? – спросил, отламывая неподатливый желтый прутик от ближайшего к полотну кустика. – Вроде багульник?
– Кассандра, – помяв листик, она поднесла его к носу. – Пахнет дурными предсказаниями, не так ли?
– Вам знаком миф о несчастной прорицательнице? – Лосев удивленно глянул на девушку, которая старательно вышагивала по рельсу, балансируя вытянутыми руками. Казалось, не было для нее в эту минуту более интересного занятия. Так и шла рядом, молчаливая, сосредоточенная. Но, когда, сбившись, ухватилась за его плечо и соскочила на полотно, как ни в чем ни бывало кивнула.
– Знаком, – ответила. – А я и на картах умею гадать. Хотите? – и, не дожидаясь ответа, промурлыкала: – «Как вдруг подбегает к нему человек, и ну шепелявить чего-то…»
– Высоцкий? – Лосев был рад случаю перебросить мосток между поколениями. – Вам нравится? – он приотстал, разглядывая поразивший его колосок, сотканный внутри из серебристого пуха. Вокруг их было видимо-невидимо.
Люся пожала плечами, удаляясь по стальной полосе.
Без этого дурацкого карминно-красного пальто она показалась ему интереснее: превосходно развитые формы, но стройная и с тонкой талией.
«Среднестатистическая сексапильность[2]2
От англ. sex appeal – зов пола.
[Закрыть], безошибочно рассчитанная на среднестатистического мужчину», – подумал Лосев, следя за тем, как ловко она развернулась и пошла обратно.
– А это у вас пушица, – выдернула из сомкнутого венчика шелковистую прядь и, дунув, пустила по ветру. – Наш одуванчик, – объяснила, – настоящие тут не растут.
– Вы все растения знаете?
– Все, – кивнула глубокомысленно, обозначив едва заметные ямочки, такие трогательные на круглом лице. – Их ведь у нас так мало.
– Это что? – спросил Лосев, увидев пробившийся меж шпал хвощ.
– Не притворяйтесь, – она погрозила пальцем. – Сами, небось, знаете. Он повсюду растет.
– Знаю, – признался он. – Шучу… Жаль, что я никогда не интересовался цветами.
– Чем же интересовались? Кроме социологии?
– Знаками, которые оставили жившие давным-давно люди.
– Это в каком же смысле? В прямом или в переносном?
– В прямом.
– Расскажите.
– Долго.
– А вы в двух словах. Скажите хоть, что за знаки?
– Круг с точкой, серп, волнистые линии, спираль – мало ли…
– И что они означают?
– Солнце, луну, воду, вселенную, наконец.
– Как интересно! – ей и впрямь было интересно. Все отражалось у нее на лице.
Лосев присел на корточки и прутиком начертил на песке треугольник вершиной вниз.
– Это тоже вода… И женщина.
– Почему?
– Мы, кажется, приблизились к опасному пределу, – отшутился Герман Данилович. – А вот и встречный! – спохватился он, заслышав свисток. – Побежали!
– Можете не спешить, – остановила Люся. – Всех подождут, никого не оставят.
– Хорошо у вас поставлено.
– Очень хорошо, – согласилась она.
Так и проболтали они до того момента, когда вагон остановился возле окутанного туманом озера, показавшегося Лосеву искусственным. У самого берега дымили градирни и трубы, в воде чернели то ли сгнившие сваи, то ли затопленные стволы.
– Вот и приехали, – Люся стала поспешно собираться. – Ваша гостиница в самом конце проспекта.
– Такси у вас есть?
– Разумеется, – она горделиво дернула плечиком. – Как же иначе?
Проводив Лосева до стоянки, где не было ни единой машины, она пригласила его к себе на рудник «Комсомольский» и побежала к автобусу.
– Давайте подвезу? – запоздало крикнул вслед Герман Данилович.
– Ничего, я близко живу, – отозвалась она и прощально взмахнула рукой. – И ждать неохота…
БОЛЬНИЦА
Мечов нехотя разлепил налитые медовой тяжестью веки. Сонный сумрак туманил невидимый потолок, где мерещились мутные сизые блики. Чахлые струи из неплотно занавешенного окна косо высвечивали унылую тумбочку с недопитым стаканом, угол какого-то шкафа, слепое бельмо экрана. Выключенный телевизор, однако, жил тайной пугающей жизнью, проецируя из потустороннего мира какой-то причудливый аппарат, излучавший ртутное сияние, и страшную маску утопленника, невесть сколько пробывшего под водой. Недоставало ни воли, ни сил разгадать эту причудливую, напоминающую о ночных кошмарах сцену. Да и любопытства настоящего не было. Краем сознания Мечов догадывался, что видит отражения ночника, выжатой половинки лимона и ложки в стакане, где сверкает жидкая блестка. Но не хотелось всматриваться и думать. Острая капля на кончике ложечки, вытягиваясь в тончайшую иголку, колола зрачок. Изжеванная подушка и влажная скомканная простыня затягивали в жаркий омут беспамятства. Толчками накатывала, расслабляя кости, врачуя уставшие глаза нежащая истома. Все становилось зыбким, как в затонувшей каюте. Растворялось время, сглаживалась память. Остужая набрякшие руки мятной прохладой крахмального пододеяльника, Мечов незаметно уснул. В затопившей его немоте тонко отстукивали пылевлагонепроницаемые часы.
Проснулся он от скрипа отворенной двери и звона колечек на занавесках, распахнутых уверенной властной рукой.
– Полюбуйся на него, – услышал он певучий насмешливый голос и, приоткрыв глаза, увидел склоненное сияющее лицо главврача Веры Ивановны. – На моей практике первый случай сонной болезни… Не находишь? – обернулась она к стоявшей в дверях женщине.
Андрей Петрович тоже взглянул туда, но увидел лишь белый халат и расплывчатый золотисто-розовый ореол с пятнышком ярко-оранжевой помады.
– Валя? – он сел, подоткнув под спину подушку. – Ты? – изумленно заморгал, еще пребывая в сонной одури, где, казалось, многое навсегда позабыл.
– Хоть узнал! И на том спасибо, – на его робкую, чуть глуповатую улыбку она ответила грустным всепрощающим взглядом. – Доигрался? Доволен теперь?
– Перестань рвать перо из мужика, Валентина, шутливо нахмурилась Вера Ивановна. – Они этого страсть как не любят, – она присела на койку, холодными сильными пальцами нащупала пульс. – А ты тоже дурака не валяй, – смягчила резкость голоса мимолетной улыбкой. – Ишь как глазами захлопал, «Валя? Ты?» – передразнила, включая секундомер. – Интересно, кого ты ждал?..
Но Андрей Петрович не притворялся и не валял дурака. И никого он не ждал, когда спал без предчувствий и сновидений, отдаваясь совершенно животной всепоглощающей радости бытия. Невозможно забыть женщину, с которой близок уже пятый год, но – это и изумляло Мечова – она возникла для него словно из небытия.
«Узнал!..» – Очень точно она сказала. Он действительно сначала «узнал» ее и уж затем окончательно все припомнил.
– Частит от температуры, как видно, но наполнение хорошее, – Вера Ивановна поднялась, сунула куда-то под белую шапочку резиновые трубки фонендоскопа и потрепала Мечова по плечу. – Ну-ка, сними пижаму.
Холодок и твердость ее быстрых уверенных пальцев он тоже ощущал как навеянное воспоминание. И покорно «узнавал» вновь почерпнутые из детства: «дыши» – «не дыши», упругие постукивания, вынужденное, через силу, покашливание.
Почему-то было неловко не перед Верой Ивановной, а перед той, прислонившейся к притолоке, прекрасной женщиной с такими всезнающими глазами. Словно до блеска отутюженный халат, так открыто подчеркивающий золотистую смуглость длинных ног, сделал ее чужой.
– Определенно прослушивается, – заключила Вера Ивановна, выпрямляясь. – В правом. Самая верхушка, надо думать…
– Не возражаешь, если я посмотрю?
– Ради бога! Забирай его вместе с потрохами… Анфиса! – крикнула она в коридор. – Проводи Валентину Николаевну в рентгенкабинет. Можешь одеваться, герой! – звонко шлепнула Андрея Петровича по спине. – Тоже мне, Хемингуэй!
– Я бы хотел умыться, – попросил Мечов, нашаривая ногами больничные тапочки.
Конвульсивными сполохами вспыхнули лампы дневного света. Нестерпимым блеском засиял салатный кафель. Плотно закрыв за собой дверь, Андрей Петрович критически покосился на зеленое биде и погладил отросшую щетину. К великому своему удивлению, узрел на подзеркальной полочке собственную электробритву и зубную щетку. Очевидно, Валя позаботилась обо всем, ничего не забыла. Даже югославский лосьон в граненом флаконе принесла.
Приведя себя в порядок, он вернулся в палату, где был встречен непроницаемым взором сестры Анфисы. Она, что называется, в упор не видела – ни его, ни Валентины, бочком присевшей, сомкнув колени, на белый вращающийся табурет.
А Веры Ивановны в палате уже не было.
Валя вошла в его жизнь легко и непринужденно, как это случается с людьми, потерпевшими крушение в первом браке. Абсолютно ненамеренно они оказались рядом в самолете, летевшем в Заполярный город, и инстинктивно потянулись друг к другу. Оба летели в неизвестность, начинали с нуля, оставив на материке кое-какие осколки прежнего, не слишком радостного существования. Дальше доверительного, но с умолчаниями разговора, который сам собой завязывается в дороге, у них не пошло. Но осталось приятное воспоминание, которое быстро переросло в симпатию, когда они стали встречаться: вначале случайно, потом – как будто случайно. Они не торопили событий и не выдумывали несуществующих препятствий, были честны, свободны, духовно независимы и раскрепощены. Поэтому все совершилось естественно и просто, как редко удается в юности. Не было возвышенных слов, скоропалительных обязательств, но зато было другое, на что они и надеяться не могли: неподдельная нежность, радостное волнение, благодарность. Она осталась у него до утра, и они вместе, не таясь, пошли на работу: он – в свой поисковый цех, она – в легочный диспансер, где заведовала хирургическим отделением. Расстались в самом конце Главного проспекта, преисполненные удивления и теплоты.
На новую встречу решились не сразу, а через несколько дней, словно боялись, что давешнее наваждение внезапно развеется. Но не развеялось. Хмельные друг другом, прожили они несколько счастливых, безоблачных месяцев.
А в отпуск почему-то поехали врозь… Обещались писать чуть ли не ежедневно и, конечно, звонить – она оставила материн телефон. Даже всплакнули оба, так сердце рвалось от дурных предчувствий. Никто и ничто не заставляло их расставаться. Ее двенадцатилетняя дочь, которая, пока решался вопрос с квартирой, жила на материке, у бабушки? Санаторий в Гульрипше, куда ему дали путевку? Боже мой, как просто решались их псевдопроблемы! Они все могли сделать вдвоем, поехать куда угодно, с кем угодно. Или вообще никуда не поехать, хоть бы неделю побыть вместе, не расставаясь ни ночью, ни днем. Знали ведь, не могли не знать, что в сравнении с расставанием, которое вечно таит в себе грозную неопределенность, любые житейские затруднения выглядят пустяком.
Быть может, она и ждала, что он скажет какое-то слово или сделает знак, позволяющий как-то переиграть эти их, совсем необязательные, планы, которые выглядели такими незыблемыми, нависали, как рок. Андрей ничего не сказал, и Валентина приняла это без тени неудовольствия.
Не понимая, что с ним происходит, оглохший от горя, сошел он с трапа в аэропорту «Адлер» и не знал, что станет делать дальше. Какое-то мгновение готов был купить билет и, сломя голову, кинуться обратно, пока она еще в Заполярном, покуда не улетела на материк. Но пересилил себя, и это определило потом все будущие их отношения.
Он вспоминал то кошмарное утро в Адлере, пока она вертела его в полутьме перед зеленовато светящейся рамкой скрина. Ее руки в холодных перчатках из предохраняющей от излучений резины, были налиты незнакомой ему силой и резкостью.
– Локти вперед, – скупо бросала она, поворачивая его то левым, то правым боком. И он не узнавал ее мягких покорных рук, которые льнули, бывало, как лоза, обвивали его, когда он, шутя дразнил ее поднятым яблоком или смешным каким-нибудь пустячком.
– Задержи дыхание, – приказывала, громыхая тяжелой кассетой. – Прижмись и не дышать, – заключала его в резиновые тиски. – Вот так, – ослабляя внезапно хватку и включала ток.
Он приникал грудью к холодному – все теперь казалось ему холодным – стеклу и замирал, не узнавая ее. Пытался вспомнить, как горько дивился он на самого себя, когда понял впервые, что окончилась кружащая голову легкость и пришло страдание. Только думал об этом, как о чужом, постороннем. Ничего от так поразившего его смятения в душе не осталось. Даже эхо не пробуждалось. А ведь он любил ее. Очень любил, тогда, да и сейчас тоже любит. Наверное. Что же с ним происходит? Так думал он в то мгновение, когда мириады невидимых частиц, летящих со скоростью света, ливнем прошли сквозь его тело.
Какую-то секунду что-то гудело и грозовой запах озона перебивал стойкий резиновый дух.
В этом чужом для нее кабинете Валентина командовала, как у себя в диспансере. Недаром маленькая брюнетка, которую она ласково назвала Мери и Милочка, поспешила улетучиться. То ли из почтения к Вере Ивановне, то ли в знак признания высокого мастерства ее подруги, которая считалась в городе лучшим специалистом по легочным заболеваниям, оставила их вдвоем в своей рентгеновской преисподней, где окна и двери занавешены черным, а запах фиксажа и изоляции слезит расширенные во тьме зрачки.
– Можешь одеваться, – сказал Валентина, захлопывая последнюю кассету, и села за скудно освещенный столик что-то такое писать.
– Почему так строго? – впервые за все время поинтересовался Андрей Петрович. Его пронизывала дрожь, почти как там, на мысу, и слегка пошатывало. – Лучше поцелуй меня. А?
– Ты с ума сошел, – буднично произнесла она, не отрываясь от письма.
– Почему?
– Нашел место.
– А что? Превосходная хата! Можно сказать, сама Прозерпина предоставила ее нам для свиданий.
– Не знаю никакой Прозерпины, – сухо ответила она на шутку. – Посиди здесь, – попросила, – пока буду проявлять, – и скрылась за перегородкой с кассетой под мышкой.
– Неужели тебе не интересно? – продолжал он глупо настаивать, прислушиваясь к плеску раствора в кювете. Ставший отчетливым серный запах гипосульфита щипал ноздри.
– Валь! – позвал заскучавший Мечов. – Откликнись… Ау!
– Я занята.
– Но говорить-то ты можешь? Неужели не интересно, спрашиваю?
– Что именно?
– Как что?! – он разыграл неподдельное возмущение. – Целоваться тут. Это ж экзотика!
– Лично я такой экзотикой по горло сыта, – она усмехнулась, оттаивая. – Но у тебя, надеюсь, еще будет время на приключения в темноте. Не со мной, разумеется.
– Ты это о чем? – насторожился он, хоть и не знал за собой неискупленной вины. – Я ведь один на рыбалку ходил. Взаправду.
– На воре шапка горит, – она уже почти смеялась и затаенный смех смягчал ее низкий волнующий голос. – Просто я подозреваю, что тебе еще не раз придется побывать здесь, бедняжка.
– Но ведь не с тобой! – продолжал он дурачиться. – А эта Мери не в моем вкусе. Я блондинок люблю.
– На время забудь, – она прополоскала снимок и выскользнула из-за перегородки. – Ты болен.
– А чего у меня? – играя, он напустил на себя мальчишескую развязанность. Подозревая, впрочем, что это ей никак не понравится.
– Пневмония, мой дорогой, воспаление легких. Достукался.
– Да ну! – присвистнул он, хотя диагноз отнюдь не явился для него неожиданностью. – И что же дальше?
– Дальше? – она включила матовую панель, чтобы рассмотреть снимок по-сырому.
Словно приняв предложенную игру, она говорила с ним, как с ребенком. Но, чуткий на интонации, он улавливал в ее словах скрытое напряжение, пугавшую его отстраненность.
– Уколы? – он поморщился, притворившись, что страшно боится. – Не хочу! – и вдруг рассмеялся. – На будущей неделе сплошные заседания. Мне в президиуме сидеть.
– Хорошо, – кротко согласилась она. – Пропишем тебе рондомицин. Будешь глотать капсулы.
Ее покорность граничила с безразличием. Что-то было с ней не в порядке.
– Ты сердишься на меня? – проникновенно спросил Мечов. – Не надо, родная, с каждым ведь может случиться.
– Ах, Андрей! – она обреченно взмахнула рукой. – Ничего ты не понимаешь.
– Тогда в чем дело? Чего ты так?
– Ладно, – досадливо отмахнулась она. – Потом поговорим, в более подходящей обстановке.
– Валь… – Андрей попытался что-то возразить, но она решительно затрясла головой, разметав золотые роскошные волосы, и, повесив сушиться снимок, увлекла его за собой.
– Здесь не место выяснять отношения.
Он попытался обнять ее, но она выскользнула, шепнув торопливо:
– Пойдем, милый, пойдем, а то неудобно уже…
В освещенном коридоре их встретили Мери и Вера Ивановна. Начался профессиональный разговор, с профессиональными шуточками, и было им уже негде поговорить с глазу на глаз.
Мечов решил, что она просто перенервничала, когда завелась дурацкая свистопляска с вертолетами и из уст в уста стали передаваться самые невероятные слухи. Нужно успокоиться, прийти в себя, и постепенно их жизнь, непростые их отношения войдут в прежнее русло.
Думая так, Андрей Петрович, был очень недалек от истины. Он лишь сознательно не принимал в расчет одной малости. Просто заставлял себя не вспоминать и не помнил поэтому о горьком осадке, который неизбежно остается после каждой размолвки и потаенно растет и уже как-то влияет на будущее. Любовь никогда не умирает сразу, ее сживают со света ежедневно и ежечасно.
Винить хоть в чем-нибудь Валентину он, конечно, не мог. Но внутренне отчуждался от нее, когда страдал и казнился за собственную вину. Всем существом противился этому непрошеному незаконному ощущению, потому что никогда ничего не обещал ей, ничем себя бесповоротно не связывал. Понимая, что логика человеческих отношений сильнее и шире формальной логики слов, он противился собственному чувству, по-детски жестоко бунтовал. И тогда, в Адлере, он неосознанно затеял именно такой бунт. И выстоял. С тех пор каждый раз что-нибудь добавлялось по капле. Быть может, с той лишь разницей, что в последнюю свою эскападу он вообще не думал о Вале, не брал ее в расчет. Не из душевной черствости. Просто в голове не укладывалось, что она будет страдать. Ведь там, у костра, он уже знал, что с ним ничего не случится.








