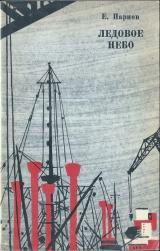
Текст книги "Ледовое небо. К югу от линии"
Автор книги: Еремей Парнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
КАЮТ-КОМПАНИЯ
По понедельникам на флоте завтракают селедкой и картошкой в мундире. В океане, где нет выходных и все дни похожи один на другой, как близнецы, сельдь – заметная веха. Почти что мера времени. Во всяком случае она дает повод побалагурить насчет того самого. Дескать, под такую закусь да еще с лучком и уксусом… Одним словом, любо-дорого. Только где ж ее взять на тридцать пятые сутки плавания? Кто тайком пронес, так давно уж забыл, когда спустил стеклотару за борт в средиземноморскую лазурь.
На рассвете «Лермонтов» вошел в ореол циклона и вторично изменил курс. Он пробирался теперь вдоль самой кромки в зоне временного затишья. Видимость была минимальная, зато полоса воды, словно обрезанная молочной завесой, темнела тихая, тихая, как в каком-нибудь лесном озере, и ничего не отражала, потому что зеркальную глубину тоже скрадывала волокнистая дымка.
Через каждые две минуты тифон издавал простуженное гудение. Тревожный вскрик на низких тонах, угрожающий и жалобный одновременно. Казалось, что предупредительный сигнал, заставляющий встречные суда менять курс, безнадежно взывал совсем о другом. Словно оставшийся в одиночестве последний на планете динозавр, молил о встрече, хоть и чуял, что ее не будет никогда.
И никто не откликнулся на одичалый призыв. Если и проходили мимо какие суда, то далеко, и потому не слышали зова. Их гудки тоже тонули в глухом киселе.
Вращался сегмент радара над ходовой рубкой, прощупывая исчезнувшее пространство. Не встречая препятствий, в зияющую за кривизной земли бесконечность утекали электромагнитные волны. Как вода в ненасытный песок. Потому ни единого светлого пятнышка не загорелось в бархатистом зрачке экрана.
Кают-компании, в каноническом значении понятия, на «Лермонтове» не существовало. Вместо непременного, освещенного традицией табльдота, в офицерском салоне, как и в расположенном под ним салоне команды, стояли обычные столики на четверых. Концертного рояля из розового дерева, декоративных ваз, серебра, хрусталя и прочих анахронизмов, доживающих свой романтический век на судах старой постройки, тоже не было и в помине. Но несмотря на очевидный аскетизм, просторный и светлый салон, отделанный под ясень, выглядел вполне благопристойно: накрахмаленные скатерти, шелковые занавески, буфетчица Лариса в кружевном передничке – одним словом, обычная столовая в доме отдыха средней руки.
В смежном отсеке, где после чая забивают «морского», стояли мягкие кресла, телевизор, оживавший с приближением очередного порта, всеволновый приемник и шахматный столик, заваленный абсолютно не читанными журналами, о которых понятия не имеют на твердой земле.
Чтобы хоть на короткое время отвлечься и отдохнуть, из салона изъяли все приборы, даже барометр. Исключение сделали лишь для телефона, неприметно подвешенного в уголке. Противопожарные индикаторы и те скрыли под золоченым багетом вездесущей картины Шишкина, попавшей на борт усилиями первого помощника. (Иностранцам – стивидорам, агентам, шипчандлерам, которых иногда оставляли к столу, картина нравилась. На вопрос: «Много ли в России медведей?» – старпом всегда отвечал утвердительно и сулил привезти шкуру. В следующий раз.)
В море, где особую цену имеют такие общечеловеческие категории, как постоянство, за каждым закреплено свое нерушимое место. Казалось бы, неизменное чередование вахт и незыблемость распорядка должны были толкать к разнообразию, пробуждать жажду хоть каких-нибудь перемен. Ничуть не было. Даже на киносеансе, когда ставят кресла вдоль стен и затаскивают из коридора зеленые лавки, люди рассаживаются в одном и том же порядке, который стихийно сложился в первые дни рейса. А уж про кают-компанию и говорить нечего, здесь место за столом определялось не личностью, а судовой ролью. Вместе с капитаном обедали стармех, старпом и первый помощник; начальник рации делил стол с гм гурманами; врач Аурика – с механиками и т. д. Собственно, всего было пять столов: офицеров на автоматизированных судах примерно столько же, сколько матросни. В отличие от военных кораблей, где за табльдотом священнодействует старший помощник, на торговых судах хозяином салона считается капитан. У него всякий раз просят разрешения войти или встать из-за стола, когда окончена трапеза.
Кормили, разумеется, одинаково и «внизу» и «вверху», из одного камбуза. Вся разница в одном заключалась: Тоня, обслуживавшая команду, брала тарелки с плиты, а буфетчица Лариса снимала их с подъемника.
Но в понедельник утром, когда на всех морях наши ребята дегустируют одно и то же блюдо, подъемник не запускали. Бак с картошкой стоял в закутке у Тони, другой помог занести в Ларисин буфет пекарь Ося, и одинаковые чайники кипели на хромированных электроплитках.
К началу завтрака в кают-компании собрались те, кому более или менее удалось поспать. За исключением первого помощника, который хотя и выспался, но зато последний узнал о событиях истекшей ночи и бегал теперь между капитанской каютой и радиостанцией.
Поскольку все было в общем ясно и довольно обыденно – какой же рейс обходится без происшествий, – штурманы и механики лишь обменялись мнениями да поинтересовались друг у друга: нет ли; каких дополнительных новостей?
– Все новости теперь только у радистов, – сказал электрик Шимановский.
– No news – good news[15]15
Отсутствие новостей – хорошая новость (англ.).
[Закрыть], – заметил старпом Беляй, в одиночестве пребывавший за командирским столом.
– А все потому, что традиции перестали блюсти, – достаточно громко, чтобы слышали за соседними столами, бросил Мирошниченко. – Ишь, обрадовались, что домой идем! Понаписали, мол, буду тогда-то, встречай тогда-то, и миллион поцелуев. А какое имели право? – резко как в каратэ, он рубанул ладонью о край стола. – Полагаю быть такого-то! Вот что может сообщить о себе моряк. И все, и точка. Сколько надо учить?
– К кому вы, собственно, обращаетесь? – поинтересовался щупленький с веснушчатым личиком пожилого лилипута Шимановский…
– Думаете, среди нас таких нет, Петр Казимирович? – Анатолий Яковлевич, хоть и находился не в духе, не забыл любовно огладить заметно выпиравший – живот. – Дрянная, однако, картошка.
– Чего ты хочешь? – засмеялся Эдуард Владимирович. – Она ж еще с Одессы. А видели, какая картошка в Балтиморе? – он поцеловал кончики пальцев. – О, мама миа! Уже молоденькая… А зелени сколько!
– Где ж посередь океана свежие овощи покупать? – прогудел непоседливый, мгновенно сметавший свою порцию, Дикун. – Теперь до самой Италии никаких витаминов. Все из холодильника. Валюту зато сэкономим, – огладив скатерть массивными натруженными ладонями, он вскочил, обвел остальных шалыми, до белизны выцветшими, голубыми глазами и кинулся к дверям.
– Куда это он? – безучастно поинтересовался Мирошниченко.
– Дикуна не знаете? – так же вяло бросил Шимановский и, заложив руки за голову, мечтательно вздохнул: – Да, не скоро теперь она будет, Италия…
– Почему же не скоро, Петр Казимирович? – возразил всегда оптимистичный Беляй. – Ну, задержимся на несколько суток. О чем речь?
– Не следует забывать, что это несколько суток не где-нибудь, а в Атлантике, – многозначительно произнес Мирошниченко. – Они свободно могут вырасти в хорошую пару недель.
– Типун тебе на язык, – кротко пожелал Эдуард Владимирович. – Сейчас главное к «Оймякону» дойти вовремя.
– Верно! – поддержал Шимановский. – Об остальном потом думать будем.
Толкнув двухстворчатую стеклянную дверь, забежал за своей порцией Шередко.
На второго радиста он не полагался и предпочитал завтракать у себя в рубке.
– Доброе утро, приятного аппетита, – произнес он скороговоркой установленную формулу. – Ого, селедочка! – радостно потер руки, словно и впрямь это был для него сюрприз.
Выглянув на голос, Лариса, хрупкая химическая блондинка, вынесла тарелку манной каши.
– Диета, будь она неладна, – махнул рукой Шередко. Размешав шарик масла, он накрыл все перевернутой тарелкой и положил сверху пару кусочков хлеба и сахар.
– Когда по телефону говорить будем, Михалыч? – поинтересовался Мирошниченко.
– Та далековато ще… Может, денька через два.
– В те разы уже давно говорили, – возразил Эдуард Владимирович, – и слышимость была превосходная.
– Мне до зарезу надо, – блаженно потянулся Мирошниченко.
– Не, – сморщив нос, отмахнулся радист. – Ничего не выйдет. Циклон, понимаешь, вражина, так и стоит, так и маячит. Не проходит сквозь него, хоть режь. Ну, я пийшов до хаты, бывайте здоровы!
– Погодите, Василь Михалыч, – остановил его Эдуард Владимирович. – У вас ничего нового? Как там «Оймякон»? У них все в порядке?
– Здоровы! Идут себе понемножку. Разговариваем с ними. Держим друг дружку в курсе. Тут еще один пароход появился… «Роберт Эйхе». С Кубы идет.
– Ну? Ну? – заинтересованно привстал Мирошниченко. – И что он?
Все взгляды устремились на Шередко, Даже невозмутимый Беляй явственно навострил уши.
– Та неизвестно пока… Побачимо, – радист решительно уклонился от объяснений. Вставив стакан в мельхиоровый подстаканник, налил чаю и отбыл к себе, на самый верх.
– Интересно! – почесал затылок Мирошниченко.
– Я же говорил, что не надо волноваться, Анатолий Яковлевич, – дружески пожурил старпом. – Как-нибудь все образуется, и вообще, чему быть, того не миновать. Пора, одначе, и мне к станку… Приятного всем аппетита.
Столкнувшись в дверях с завитой, ослепительно красной от хны Аурикой Кодару, судовым врачом, он вежливо отступил в сторону и, страдальчески зажмурившись, схватился за лоб.
– Доброе утро, доктор, опять голова болит, – чуть переигрывая в интонациях, пожаловался он.
– Это у вас от давления, – невозмутимо поставила излюбленный диагноз Аурика, как всегда, принимая все за чистую монету. – Зайдите ко мне, Вадим Васильевич, витаминчиков дам.
Сакраментальная фраза, как и ожидалось, была произнесена. Неизменно улыбчивый Эдуард Владимирович задышал, высунув язык, словно овчарка. Остальные просто потупились и стиснули челюсти, чтобы не расхохотаться. Первым не выдержал, как обычно, Мирошниченко и откровенно заржал, как только Беляй заковылял к трапу, согнувшись, как от животной колики.
– Спасибо, доктор, – подражая артисту Папанову, просипел напоследок старпом и зацокал по ступеням подковками.
– Как там наши? – поинтересовалась Аурика, зайдя, по обыкновению, в буфет проверить санитарное состояние. Пробу блюд она сняла еще в камбузе в семь тридцать.
– Все у них хорошо, – сообщила Лариса. – Василь Михалыч сказал.
– Молодцы! – белизна занавесок и платиновое сияние сковородок пробудили на вечно озабоченном лице судового врача удовлетворенную улыбку.
Веселое, в общем, настроение установилось с утра на теплоходе. И хоть никому не улыбалось застрять на неопределенный срок в океане, весть об изменении курса восприняли с радостью. Теперь уже точно было известно, что значит каждая пройденная миля, каждый прожитый час. Что бы там ни случилось, это святое дело, с прочими заботами несравнимое. Груз, линия, сроки – на то и начальство, чтобы ломать голову над подобными материями. Ни на зарплате, ни на душевном спокойствии они не отражаются. Разве что премия… Ну так хрен с ней, с этой премией. Чистая совесть дороже, да и за лишние дни золотые копейки все равно набегут. Хоть и не сомневался никто в окончательном решении своего капитана, но, когда, обогнув заворачивающий к весту циклон, судно легло на прямой к Богданову курс, все облегчение почувствовали.
Решение капитана – закон, а следовать закону всегда легче, чем изнурять себя поисками альтернатив. Рандеву с «Оймяконом» представлялось теперь всего лишь одним из этапов рейса, его неотъемлемой составной частью. Пусть наиболее трудной, что из того? В море вообще трудно, и только спасительная привычка позволяет это не всегда замечать.
Появление Дугина встретили улыбками. Как там ни говори, а он снял тяжесть с моряцкой души. Без лишней канители принял все на себя и, можно не сомневаться, наилучшим образом подрассчитал. Как положено.
– Картошка? – удивился капитан, словно ожидал увидеть по меньшей мере омара, и с воодушевлением принялся снимать отмокшую шелуху. – Доброе, – дружелюбным кивком ответил на приветствие Ивана Гордеевича Горелкина, первого помощника, пришедшего с каким-то листком. – Что это у вас?
– Да объявление хочу повесить. Беседу думаю перед кино провести.
– Я думал, радиограмма.
– Так все новости теперь у вас… Нет еще из пароходства?
– Пока нет… Шередко вроде пароход какой-то запеленговал.
– Далеко?
– Порядочно.
– Надо бы в Одессу сообщить.
– Погодим пока, Иван Гордеевич… Чего суетиться перед клиентом? Пусть уж они сами о себе заявляют, а нам неэтично.
– Ну вам виднее, вам виднее… Неохота мне что-то селедку эту. Пойду лучше объявление повешу.
– Успеете, Иван Гордеевич, чайку хоть попейте.
– Не, душа не лежит. Все из рук валится.
– Что так?
– Вчера же «Черноморец» с «Торпедо» играл, а я в полном неведении. Как тут быть? – изображая простака, Горелкин вскинул, но сразу опустил поникшие руки. – Уж я этого змея Васыля просил-просил с Одессой связаться, да он ни в какую. Так и промаял весь день. А теперь уж ему не до того.
– Сегодня у него забот хватает, – поймав иронический взгляд Шимановского, капитан понимающе подмигнул. – Сочувствую, Иван Гордеевич.
– Э, разве вам понять? Вы ж не болеете.
– Отчего же? Болею. Мне доктор даже витамины прописала. Правда, Аурика Игнатьевна?
– «Декавит» три раза в день, – с олимпийским спокойствием подтвердила Аурика.
– Э, ладно, – Горелкин махнул рукой и шаркающей походкой поплелся в смежный отсек за кнопками.
– Не в настроении человек, – поцокал языком Шимановский, – сразу чувствуется.
– А с утра бегал, волновался, – не то с одобрением, не то осуждая, сказал Дугин. – Где Вадим Васильевич? – поинтересовался он у второго помощника.
– На вахте. А так заходил, позавтракал.
– У вас все спокойно прошло?
– Вполне, Константин Алексеевич. Кругом никого, хоть пляши. Около семи одного рыбачка по левому борту встретили. Пустячный траулер.
– Пустячный? Ошибаетесь, милейший. Рыбак – это всегда серьезно. Ибо сказано: бойся пьяных рыбаков и военных моряков, – довольно прищурился Дугин.
«Великодушным и общительным восстал ото сна, – отметил зоркий Эдуард Владимирович, – и очевидно вполне доволен собой».
И вчерашний выговор представился ему уже совершеннейшим пустяком. Он окончательно понял, о чем передумал в тот вечер и как пережил ночь капитан. Немного даже стыдно сделалось за себя.
– Рыбки не догадались у него попросить? – на полном серьезе спросил Дугин.
– Не останавливаться же…
– Ради такого дела можно было бы и остановиться. Прошлым рейсом нам полпалубы засыпали. Неделю ели.
– Скумбрия, обжаренная в оливковом масле с лимонным соком и отварной спаржей, – мечтательно цокнул зубом Шимановский.
– Почему нет? – пожал плечами Дугин. – Самодуры[16]16
Рыболовная снасть.
[Закрыть] есть, а спаржу возьмем в Сеуте.
– Это хорошо, – сказал Эдуард Владимирович.
– Что именно? – не понял Дугин.
– А все хорошо. Будьте уверены, Константин Алексеевич, что у ребят душа горит… Одним словом, каждый хочет сделать свое дело как можно лучше.
– Мало хотеть, Эдуард Владимирович, а вот сделать действительно надо.
Капитан далеко не разделял природного оптимизма своего улыбчивого суперкарго. Кое-что, по его мнению, было не только не хорошо, но куда как скверно, и он пытался проанализировать почему. Мысленно возвратился к истокам: к первому дню рейса и к нулевому – накануне отплытия.
Рейс на линии Ильичевск – Северная Америка длится в среднем пятьдесят пять суток. Психологи подсчитали, что по частоте встреч эти два месяца равны двум годам нормального человеческого общения. Океан резко обостряет созревание отношений. Ни от постороннего глаза, ни от чужой неприязни или нежеланной симпатии никуда не денешься на плавучем острове. Незаметная в обычных условиях мелочь может стать на борту причиной острейшего конфликта, который повлияет и на успех рейса, и на людские судьбы или станет поводом для постоянных шуток. Как получится. Но как ни ускоряет океанский простор людские взаимоотношения, как ни обостряет конфликты, истоки их нужно искать на берегу, на твердой земле.
Теперь, на тридцатые сутки плавания, Дугин отчетливо сознавал, во что вылилась межрейсовая спешка и чем обернулись пустячные, как казалось тогда, недоделки.
Когда «Лермонтов» после выматывающего душу похода по зимней штормящей Атлантике вернулся в родной порт, капитан получил три дня передышки.
Если все идет как по маслу, этого достаточно, чтобы подготовить судно к новому рейсу. Тем более такое автоматизированное, созданное по последнему слову техники. Но обыденная реальность несколько расходится с идеалом. По крайней мере в двух средах: в воздухе и на воде. Судно лишь на конструкторском ватмане представляется безупречным. Со стапелей оно сходит, неся в себе явные и тайные пороки, которые дадут знать далеко не сразу. Ведь даже серийные автомобили, ежеминутно сходящие с конвейера, требуют, пусть незначительной, но отладки. Но теплоход – не автомашина, и в открытом море нет пунктов техобслуживания. Все, что потребуется, команда должна сделать своими силами. И как можно быстрее, ибо сутки простоя контейнерного лайнера обходятся во сколько-то там тысяч золотом, да каждый недоданный узел хода добавляет хорошую толику. И это без учета других, не поддающихся калькуляции затрат: нервных, физических и т. д. Ведь, в конечном итоге, все неожиданности оборачиваются избыточным напряжением для команды. Хочешь не хочешь, а приходится преодолевать не предусмотренные трудности.
Одним словом, после зимнего перехода трех дней Дугину никак не хватало. Судно возвратилось с разболтанными двигателями и на шрамах, полученных в обледенелых шлюзах Сивея, еще не успела высохнуть краска. Да и к причалу его поставили только вечером в четверг. Практически для решения наболевших вопросов оставался всего один день. Но, как показала мировая статистика, учреждения в канун уик-энда подвержены лихорадке.
Одним словом, назначенный на понедельник выход в море, ни при каких условиях не мог состояться. Какой уважающий себя моряк согласится выйти в понедельник? Можно сколько угодно высмеивать суеверия, в том числе и профессиональные, но море есть море. И морские традиции, освященные нелегким опытом поколений, заслуживают по крайней мере понимания.
Наверное, такая аргументация не очень убедительна и вообще не выдерживает научной критики, но и она сгодится, если найдется на берегу оригинал, который захочет выпихнуть моряка в дальнее плавание в день, издревле посвященный богине-девственнице, покровительнице охоты и тайны. Бесполезное дело. Само собой так получится, что пароход просто не успеет сняться с причала в назначенный срок. В самом крайнем случае отчалят через минуту после полуночи, т. е. уже во вторник.
Получив предписание выйти в понедельник, Дугин сообщил о том команде и наказал быть на борту к вечеру указанного дня.
Тут и ежу стало бы ясно, что отход перенесут на следующий день. Поэтому наиболее опытные ребята заявились в порт затемно, к самому началу погрузки. Некоторые приехали с семьями, чтобы урвать лишний часок.
Пробыв два месяца в море, они вновь уходили в рейс, так и не успев вкусить берега за короткие считанные деньки. Утешались тем, что копятся длинные отпуска, четыре, а у кого и больше месяцев. Вахту на стоянке как раз и несли такие отпускники. Для них желанная пора наступала с отходом. Уж им-то, счастливцам, сам бог велел потерпеть. Другие, вон, даже из порта не могли отлучиться – с машиной маялись. Хоть и рвались на берег, остались на борту. Разместив жен и детишек в просторных, как номера «люкс» в межрейсовой гостинице «Якорь», каютах, почти безвылазно сидели внизу, спешно заканчивая начатый еще в море ремонт. Ругались, конечно, и кляли судьбу и все-таки были рады. Как-никак ощущение дома, без которого нельзя жить человеку, коснулось и их. И они глотнули щемящей нежности. Хоть размывала ее суета, разъедала щелоком неотвязная торопливость. Неспокойное, ненасытное ощущение унесут они с собой в море. Не успев согреться, станут вспоминать о нем в темноте опустевших кают, ощущая с запоздавшим удивлением, что только таким и бывает счастье.
Каждый рано или поздно привыкает к разлукам. Иначе не было бы в мире ни путешественников, ни геологов, ни моряков. Дугин тоже привык. Быть может, скорее многих, поскольку имел за плечами трудный опыт войны. Во всяком случае, он сам так считал, пока не выяснилось однажды, что у него нет ни этой привычки, ни иммунитета от мыслей, укорачивающих жизнь. И случилось такое не далее как год назад, когда он женился на Лине, женщине умной, красивой на пятнадцать лет моложе его. Каким беззащитным, каким уязвимым чувствовал себя Константин Алексеевич в первой разлуке. Прежняя жена все вспоминалась, Анна Васильевна, и тот день, когда так неожиданно рухнула его двадцатилетняя с ней жизнь…








