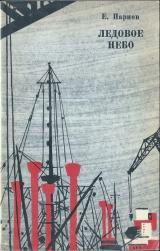
Текст книги "Ледовое небо. К югу от линии"
Автор книги: Еремей Парнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
– По-моему, очень дельная мысль. Мои ребята тоже высказали нечто подобное. Я бы рискнул. Хотя, не скрою, Сергей Ильич, положение на «Оймяконе» несколько особое. Не должно быть такой вибрации, как тут не колдуй. Без лопасти, конечно, трясет, но не столь сильно. Очевидно, что-то еще есть. Так мне представляется… Слышишь меня, Олег Петрович? Прием!
– В том-то и дело! – мгновенно прорезался Богданов. – Не столько вибрация меня напугала, сколько этот ее экстремальный рост. В чем тут дело, не пойму…
– Прибавь обороты, и все станет на место, – упорствовал Терпигорев. – Не развалишься, не опасайся. Но Дугина на всякий случай дождись. Вдвоем оно поспособнее.
– Есть такое дело, Сергей Ильич, уговорил, – как-то уж очень бодро согласился Богданов. Дугину показалось, что он просто устал и не хотел больше спорить.
– А как у тебя с загрузкой? – продолжал допытываться капитан-наставник. – Может, это какой-нибудь резонанс? Не пробовал переместить груз?
– Не думаю, но твое предложение изучим. Спасибо.
– Значит, будем считать, что обо всем договорились, – подвел итог Терпигорев. – Предлагаю завтра в это же время выйти на связь. Опять втроем. Нет возражений?
– Добро, – подтвердил Дугин.
– Хорошо, спасибо, – заключил Богданов. – Конец.
– У меня еще несколько слов для Константина, раз уж он здесь оказался.
– Слушаю тебя, Сергей Ильич, – ответил Дугин.
– Хоть мне никто этого не поручал, но скажу тебе, Костя, чтоб ты не слишком переживал за сроки. Ничего не поделаешь, раз уж так получилось. Выкинь на время из головы.
– Я понимаю.
– Нет-нет, именно выкинь из головы! Я же тебя знаю… Не надо, не переживай. Может быть, еще все образуется. О тебе тут думают, заботятся, ты, как говорится, не одинок.
– Никогда в этом не сомневался.
– Вот и превосходно. Жди сообщений. Ты меня понял?
– Спасибо за все… У меня к тебе маленькая просьба, Сергей Ильич, сугубо личная. Позвони ко мне домой и скажи, что я вызову их завтра в ночь. Ладно?
– Тебя понял, завтра в ночь. Будет сделано… Как там Беляй поживает? Не засиделся в старпомах? Передавай ему пламенный привет. У меня все. До встречи!
Но заключительных слов Дугин уже не расслышал. Голос Терпигорева отшатнуло куда-то в сторону, словно пламя под резким порывом ветра, и он окончательно затих. Циклон, который пытался обойти «Лермонтов», в эту минуту окончательно сформировался и завис над доброй третью Африки и Западным Средиземноморьем.
– Хорошо, хоть поговорить успели, – Дугин удовлетворенно щелкнул пальцами. – Молодцом, Василий Михайлович. Все прошло отменно.
– Так я ж говорю, от погоды зависит. Если циклон встанет на одном месте, так пиши пропало. Но когда безоблачно, а солнце так и шпарит, тоже ничего хорошего ждать не приходится. Лучше всего легкая хмарь. Я это давно приметил.
– Карту погоды, – сказал Дугин.
БЕРЕГ (ОДЕССА-ПАРОХОДСТВО)
– Нашли? – спросил Боровик.
– Вроде так, Владлен Афанасьевич. «Роберт Эйхе», – помощник извлек из папки календарный листок с пометками. – Дедвейт тринадцать тысяч шестьсот, скорость шестнадцать с половиной.
– Знаю. Сухогруз типа «Бежица». И далеко?
– Восемьсот семьдесят миль.
– Порядочно. Почти трое суток. Но на безрыбье и рак рыба. Пусть берет на буксир. Срочно радируйте.
– А как же Дугин? Задержать радиограмму?
– Постойте, – Боровик на секунду задумался. – Дугину пока приказа не отменяйте. Пусть сопровождает «Оймякон» до подхода «Эйхе». Мало ли чего… В конце концов, это только сутки. Как-нибудь перетерпим, а то рисковать, себе дороже… Кстати, кто капитан?
– Нестеренко Нил Павлович. С Кубы идет.
– Так чего ж он, сукин сын, Нил этот самый отмалчивается. Богданова не услышал, так там Дугин, парень себе на уме, вовсю шурует? – Боровик рассеянно взял и тут же выпустил листок с пометками, который медленно спланировал на ковер. – Вообще-то циклон свирепствует, могли и не проходить волны… Пусть составят полную метеосводку по району.
КАЮТА НА ЮТЕ
Тоня занимала каюту матроса второй статьи. Присущая Морфлоту спартанская рациональность нашла в этой сверкающей больничной белизной келье со скошенным правым углом свое крайнее выражение. В отличие от офицерских апартаментов санузла здесь не полагалось, но был умывальник с нажимным краном, отгороженный полиэтиленовой занавеской и высоким пеналом, придвинутым к рабочему столику. Второй, разделенный на такие же полки пенал находился в противоположном углу, возле кушетки, поставленной под иллюминатором. Вся мебель, в том числе и койка за шторками, была отлита из белой пластмассы. В подкоечном ящике лежал спасательный жилет с красной лампочкой, которая загоралась, когда в элемент проникала морская вода, а вентилятор и полка для книг были принайтовлены прямо к переборке. Вот и вся обстановка, разве что грибок кондиционера торчал в подволоке и динамик трансляции светил дырками на жестяной панели.
Педантичный старпом, обеспечивший весь экипаж именными наклейками с выпуклыми латинскими литерами, и на Тонину дверь налепил соответствующую полоску, на которой белым по синему значилось: «Antonina Polosowa».
Только ни к чему была Загорашу эта наклейка. Он и так бы не заблудился. Незаметно протиснулся в тихий коридорчик на юте и, воровато оглянувшись, проскользнул в эту самую, чуть приоткрытую дверь. Едва переступив через камингс, поспешил повернуть ключ с номерной биркой, предусмотрительно торчавший в замке. Она метнулась навстречу, с жадным нетерпеливым вздохом прильнула к нему и, прижавшись горячей щекой, замерла. Он неловко обнял ее, и она, наливаясь упругой силой, приподнялась на носки и потянулась к его губам, дыша прерывисто и часто. Целуя влажный раскрытый рот, Загораш ощущал, как трепещет под пальцами ее гибкая податливая спина и, проникаясь ответной дрожью, словно в танце, шагнул вбок, рванув на себя шторку. Он уже не услышал, как зазвенели сорванные кольца.
– О, как долго ты не шел! – опускаясь, выдохнула она с облегчением и стоном.
Потом, примостившись на тесной койке, Загораш думал только о том, как бы поскорее уйти. Было темно, хотя он не помнил, кто из них двоих и когда вырубил свет. Следуя за креном, раскачивались почти невидимые шторки. Смутная рябь металась на подволоке, и он гадал, откуда может пробиваться огонь: то ли с палубы через щелку иллюминатора, то ли из коридора через вентиляционную решетку двери.
Просто так встать и удалиться он не решался, было стыдно. Приходилось подстерегать подходящий предлог.
Обычно таковой вскоре находился, хотя бы потому, что его не приходилось особенно изыскивать. Служба требовала, чтобы Загораш пребывал возле своего телефона, потому что его могли поднять в любой час дня, а также ночи. Да и есть ли они, эти ночи у моряка, чья жизнь поделена на четырехчасовые вахты? Во всяком случае, на утро, когда можно незаметно прокрасться к себе, ему лучше не рассчитывать.
Вот и лежал он рядом с ней, притихшей и сонной, украдкой посматривая на светящийся циферблат. Поджидал подходящий момент. Так с ним было почти всегда. В ту первую ночь, когда он жарким самозабвенным напором победил ее не слишком стойкое сопротивление, желание немедленно сбежать оказалось настолько сильным, что он даже симулировал острый приступ люмбаго – профессиональной болезни моряков. С той поры, навещая украдкой Тоню, он почти всякий раз возвращался к ощущениям той, во всех отношениях странной ночи.
Приняв сорок тонн мазута и залив баки двойного дна топливом, они описали прощальную дугу на черном зеркале сеутской бухты и взяли курс на Гибралтар. С приближением к проливу посеребренная луной гладь покрылась рябью, начал задувать ветер с оста и чуткий на волну контейнеровоз ощутил первый приступ качки.
Сколько не плавай, а выход в океан всегда отзывается легким обмиранием сердца. По сути только после Гибралтара и начинается настоящий поход, потому что на Средиземное море привыкаешь смотреть почти как на пригороды Одессы, на ее прибрежные форпосты, знакомые до последнего навигационного знака. По крайней мере, цветность воды в Ионическом море такая же, как где-нибудь в Затоне или на Сухом лимане.
Вот и получается, что Сеута – это как бы еще дом, а молы на Джебель-Муса – уже последний знак, за которым простирается неизвестность. Голос океана ни с чем не спутаешь, всем своим существом отзовешься на его беспощадный призыв.
В считанные часы, которые нужны пароходу, чтобы от маяка Альмина дойти до скалы, происходит в душе моряка глубокая, незаметная постороннему глазу, перестройка. Люди как бы настраиваются на океан, подчиняют привычные ритмы своего естества его властному переменчивому нраву. Обычно начинают с того, что, разбившись на небольшие тесные кружки, устраивают прощание с берегом.
Настоящее прощание, резко отличное от беззаботного веселья первых часов плавания, когда еще и чары домашнего застолья не успели развеяться и у каждого припасено, что надо, и все друг другу рады до невозможности. Ничего подобного перед Гибралтаром уже не бывает: ни одиночных возлияний, ни, тем более, коллективных пирушек. К Сеуте все уже более или менее ясно на борту. Определились симпатии, и каждому известно, кто к кому ходит в каюту, а кто не ходит. Это очень важный момент моряцкого быта, потому что нигде так не дорожат минутами полного уединения, как на пароходе, когда каждый на виду и все у всех общее. Приглашение разделить короткие часы морского досуга значит много больше, чем любой дружеский визит в семейный дом, и стакан красного вина, которое в Неаполе дешевле минералки, становится знаком особого расположения, словно это вино причастия. Загораш и Шимановский так и не заметили, как прошли Гибралтар, противостоя нагонной воде Атлантики, которой вентилирует себя море среди земель. Только на другой день, когда Шередко объявил, что Одесса-радио уже не слышит вызова и о звонках домой лучше на время забыть, поняли, что оборвалась еще одна очень приметная нить.
Много ли хмеля в стакане сухого вина? Выпьешь и не заметишь. Нет, не вино зажгло Загораша в этот вечер, когда он принимал у себя друга-электрика. Не оно отуманило голову, когда над овеваемым берберским ветром спардеком кружились созвездия и метеоры прочерчивали в невыразимой бездне наклонные фосфорические следы.
Так уж получилось, что Тоня тоже поднялась на палубу полюбоваться мерцающей пылью Молочной реки, перед которой человек, наверное, ничего не значит, ибо каждая пылинка в ней равнозначна солнцу. Страшно подумать, что вокруг каждого из светил тоже могут вращаться планеты, быть может, такие же, как Земля. И вообще: «Уходит род, и приходит род». Сам собой завязался философский диалог о вечности, а когда Шимановский незаметно слинял, случилось то, что должно было случиться, ибо Тоня с Загорашем и раньше обменивались долгим, все открывающим взглядом и были подчеркнуто дружелюбны.
Не вино, а беспокойная кровь тяжко ударила Загорашу в виски. Все на свете он забыл, летел, как в межзвездную бездну, где вспыхивали миры и лопались метеоры.
А когда наступил отлив, стало так беспокойно и тошно, что хоть руки на себя накладывай. Даже слезы подступали, когда о доме думал, о жене. За те дни, что простояли в Ильичевске, Загораш виделся с ней только дважды, но так размяк сердцем, так умилился, – что поклялся себе хранить ей, такой беззащитной и чистой, нерушимую верность. И вот, на тебе! На одиннадцатый день плавания… А ведь стоит только начать – и пошло, поехало. Неловко повернувшись, когда высвобождал руку из-под ее, почему-то враз отяжелевшей головы, он и ощутил тогда легкую боль в пояснице, воистину спасительную боль… Мучительно застонал, но, как подобает мужчине – сквозь стиснутые зубы, скупо цедя слова, в ответ на Тонино беспокойство, он поспешно оделся и позорно бежал, что-то такое лопоча про люмбаго, ишиас и прострел, от которых страдали даже лихие флибустьеры Морган и Кидд.
Закрывшись в каюте, долго стоял под теплым душем, смывая с себя навязчивый запах духов, липкий пот и, хотелось думать, душевную накипь. Два дня после этого избегал показаться ей на глаза, пропадая без особой надобности в машине. Потом, как это бывало не раз, смятение чувств улеглось и собственное раскаяние показалось наивным, почти смешным. Зато память о чутких округлых линиях и удивительно гладкой разгоряченной коже начала жечь руки.
Так с той ночи и повелось.
Счастье еще, что Тоня не проявляла особой склонности к разговорам. Хоть удавись, он был не в силах выдавить из себя ни одной мало-мальски подобающей фразы. Только усиленно гладил ее по голове, внутренне отчуждаясь, словно кошку какую-нибудь. Вот и теперь, приблизив к глазам циферблат, не смог сдержать нетерпеливого вздоха. И тут выяснилось, что Тоня вовсе не спит, как это ему казалось, а тоже смотрит в подволок, на котором играют отсветы, о чем-то усиленно думает.
– А ведь ты меня ни капельки не любишь, – совершенно спокойно, без всякого осуждения сказала она, – тебе просто женщина нужна.
– Ну, Тонь, ты что? – Загорашу захотелось вдруг стать нежным и искренним, но он по-прежнему не находил подходящих слов. – Ты же знаешь, – легонько касаясь ее губами, лепетал он, – ты сама знаешь, что это, не так… И вообще…
– Что не так? – спросила она.
Его охватило раздражение. Чего она в самом деле от него хочет?
– А все не так, – он едва сдержал готовую сорваться с языка грубость, но заметил, что она плачет. – Ты чего, Тонь? – Загораш вновь осыпал ее быстрыми поцелуями. Он окончательно запутался и не понимал, что с ним происходит. Ощутив теплоту и горечь ее совершенно неожиданных слез, прижался к ее плечу и жарко зашептал, что полюбил с той самой минуты, как только увидел, а сейчас уж вовсе не может без нее жить, и вообще она самая прекрасная девушка в мире… Кажется, он и сам поверил своим клятвам. Во всяком случае беспокойное ощущение, толкавшее поскорее уйти, исчезло. Он уже не тяготился ни собственной немотой, ни этой, переставшей волновать близостью. Вместе с тем краешком сознания понимал, что делает глупость за глупостью и скоро начнет жалеть и о словах, и о поступках. Особенно о словах.
– Все крайне сложно, запутанно, – он вдруг, как от внезапного испуга, смешался и замолк.
– Понимаю, – после долгого молчания произнесла Тоня, и Загорашу почудилось, что голос ее оттаял, во всяком случае утратил присущую резкость. – Думаешь, у меня не сложно? Для меня каждый рейс, как каторга, денечки считаю, все страдаю, как там без меня мой сыночек, сиротинка моя?
– Почему ж на берегу не устроишься? Ведь и вправду не женское это дело, днем и ночью находиться среди голодных мужиков. Не для тебя это, Тонь, ты нежная, ранимая и вообще…
– Была такой, – она покачала головой, не отрываясь от подушки. – Теперь не такая… А что до берега, Андрюша, то кому я нужна без специальности? Сто двадцать, ну сто сорок – красная мне цена. Разве что в официантки пойти, так я уж лучше на пароходе останусь. Я, Андрюша, чужие страны видеть хочу, людей… Но это так, романтика. А романтика теперь чуть ли не бранное слово у моряков. Конечно же, я бы осталась на берегу, свети мне хоть какой огонек, а так – нет, лучше не надо. И еще я хочу, чтоб мой сыночек ни в чем не нуждался, чтоб у него все-все было, как у самых счастливых детей, у которых и мамочка и папочка есть.
– Ты была замужем? – он впервые прямо спросил ее об этом.
– Я и теперь замужем, – невесело вздохнула она. – Только что толку?
– То есть как это что? – Загорашу опять стало неловко. Осторожно, чтоб она никак не смогла почувствовать, он отодвинулся на самый край. Он ни о чем еще не жалел, но ему уже был странен сентиментальный порыв, толкнувший его чуть ли не на признание в любви. Не только Тоню, но и себя самого он видел сейчас как бы со стороны. Себя не понимал, а эта не такая уж и красивая женщина была ему и вовсе чужой.
– И где же он теперь, этот твой муж?
– Штурманом на «Тридцать лет комсомола». Собирался прийти в Одессу аккурат вместе с нами: десятого или одиннадцатого. Да вот, запаздываем мы из-за «Оймякона», наверное, опять не свидимся.
– Так значит у тебя муж… – протянул Загораш, почему-то приободрясь. – Так сказать семья – ячейка общества.
– Семья, – она утрированно воспроизвела пренебрежительную интонацию. – Ячейка… Только одно и связывает, что развестись никак не можем, – она засмеялась и, подперев щеку кулачком, повернулась к Загорашу. – Больно заняты оба, не до того… Видел такую ячейку?
– Да, ничего не скажешь, – вздохнул он, ощущая на себе ее невидимый в полутьме взгляд. – Не просто у тебя получилось.
– А у кого просто?
– Я в том смысле, что неблагополучно.
– Так и я в том же смысле. Разве у моряков может быть нормальная семья?.. У тебя, например? Ты любишь свою жену?
– Ну, люблю, – с усилием выдавил он, презирая себя за то, что не может оборвать этот никому ненужный разговор. Обсуждать свои отношения с Лерой – здесь, сейчас – было равносильно предательству. – И она меня тоже любит, – закончил с вызовом.
– Врешь, Андрюшенька. Не любишь ты ее, иначе б не лежал тут со мной, как какой-нибудь… И говорить-то не хочется! Да разве такая бывает любовь? – она вновь рассмеялась тем хриплым вульгарным смехом, который всегда настораживает, а то и вовсе отталкивает мужчин. – Где она, эта самая любовь? Так, одни только сказки для детей дошкольного возраста… Чего молчишь? Может, не нравится?
– Нет, почему?.. Просто не в том дело…
– В чем же?
– А в том, моя хорошая, что в отношении меня ты, видимо, права. Сукин сын я, Тоня, и все такое… Но ведь и другие есть, не такие, как… я, – он запнулся, собираясь сказать «мы», но вовремя понравился, – и то, что у нас, моряков, с семейной жизнью не всегда ладится, тоже, конечно, верно. Никакого секрета тут нет. Не всем дано обуздать себя, Тоня, и ждать, по-настоящему, как о том пишут в романах, тоже умеет далеко не каждый. Люди есть люди, и это надо понимать… Да и природа тоже жестоко мстит, ой, как жестоко. Знавал я хороших ребят, которые умели держать себя в узде. Настоящие парни. Во всех смыслах. Стокилограммовую штангу по утрам выжимали… Только не помогла им она, эта самая штанга. Возвращались настоящие парни к женам после пятимесячного рейса и… одним словом, ничего не могли. Атрофировалось у них, вот какая штука. У кого проходило потом, а у кого и оставалось. Только все равно куда ни кинь, всюду клин. Короче говоря, душевная травма. Как ты думаешь, легко им было в новый рейс идти? В какой-нибудь треклятый чартр, когда каждый раз не знаешь, куда тебя зашлют и насколько?
– Жалко, – тихо сказала она и мягко придвинулась к нему. – Даже очень… Конечно, им было трудно.
– Сама можешь догадаться, о чем они думали после вахты, – Загораш, сам того не желая, разволновался. – Конечно, так случается далеко не со всеми, но тяжело, Тоня, всем. И женщинам нашим тоже не позавидуешь. Оттого и зарплата такая идет. У простого матроса на круг девятьсот в месяц набегает. Если хочешь знать, больше, чем у министра. Как полагаешь, задаром это или же нет? Очевидно, не задаром, а за наш героический труд, за лишения всяческие, за отказ, за терпение.
– Я понимаю.
– Конечно, понимаешь, потому что сама в этой шкуре побывала. Только одного понимания тут мало. Надо еще и верить. Во что верить? А во все хорошее. В настоящую любовь, например. Потому что настоящая любовь существует. Правда! Я знаю людей, простые моряцкие семьи. Знаю, где она есть, несмотря ни на что, любовь. Знаешь, как хорошо бывает в такой семье? Как легко на душе.
– Греешься у чужого огня?
– Может, так, а может, и нет, – он начал одеваться. – Иногда мне кажется, что я просто учусь.
– Чему, интересно?
– Любить, если хочешь… Настоящая любовь, она ведь тоже просто так никому, наверное, не дается. Постепенно приходит, как всякий другой опыт.
– Уходишь?
– Пора мне.
– И у меня чему-нибудь научился?
– Возможно, – Загораш наклонился, ища ее раскрытые губы. – Даже наверняка… Что же это? – он резко выпрямился и прислушался.
Привычная вибрация, пронизывающая весь пароход вместе с плавающими на нем людьми и неодушевленными вещами, внезапно изменила свою тональность. Чуткое ухо стармеха, приученное даже во сне ловить биение судового пульса, ухватило это в то самое мгновение, когда всюду погас свет и пропали волнистые тени на подволоке. Было ощутимо слышно, как машина сбросила нагрузку и явственно изменился стук движущихся частей. Черпая энергию, запасенную в маховике, еще вовсю продолжал вращаться гребной вал и ходили поршни и взлетали коромысла над клапанами, но животворящее начало уже покинуло теплоход. Лишенный тока, он превратился в железный короб, который по инерции еще продолжал рассекать волны. Это продолжалось какой-то миг, потому что тут же сработали реле, включился аварийный движок и потухшие было лампы вновь налились голубовато-белым дневным сиянием.
Загораш осторожно выглянул в коридор и, никого не увидев, бросился к трапу, ведущему в машину. Пока он грохотал по окованным дюралевой полосой ступенькам, автоматика запустила главный генератор, и силовые установки возобновили свои возвратно-поступательные такты.








