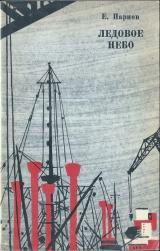
Текст книги "Ледовое небо. К югу от линии"
Автор книги: Еремей Парнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Еремей Парнов
Ледовое небо
Повести
ЛЕДОВОЕ НЕБО
(Повесть)

Шаманий бубен, а не лед озерный.
Оскал костра – не облака заката.
И дни – пока не дни, а только зерна,
Которыми твоя судьба чревата.
Николай Димчевский
ЗОЛОТОЙ БОГ
Оскаленный рот с удлиненными резцами и яростным языком смазали теплой оленьей кровью. Затем ублажили Владыку табунов яствами из семи драгоценных чаш: привета и окурили душистой травой авагангой, привезенной то ли с Керулена, то ли с Ангары.
Отлитый из чистого золота в недоступных тибетских горах, стоял шестирукий охранитель посреди задымленного чума и улыбался застывшей окровавленной улыбкой; потрясая арканами и мечами, топтал нещадно жалящих змей. Чело его венчала диадема из черепов, а до самых колен, кривых и могучих, как положено прирожденному всаднику, свисало ожерелье со срезанными головками. Три лошади, устремленные в прошлое, настоящее и будущее, летели сквозь яростное пламя его волос.
Шаманы в нагольных тулупах, окрашенных в алый цвет древней сакьяской секты, пропели мантры на непонятном чужом языке и бережно завернули своего бога в дорогую парчу, а после в песцовые шкурки. Путь ему предстоял долгий, трудный, и зима пришла на Таймыр такая, что камни – и те рассыпались в песок. Под рокот бубна и сердитый собачий лай уложили оленеводы одетую мехом фигуру на нарты, и лучшая упряжка из шести красавцев быков понесла ее к далеким горам Путорана. Следом потянулась вереница провожающих нарт. Длинный хорей направлял стремительный бег в черноту полярной ночи. Снежная пыль дрожала на малицах. Как заиндевелые ветки, сверкали под полной луной гордо откинутые рога.
Так и не привелось Владыке табунов стать покровителем оленьего стада. Весть о том, что упорные чернецы с далеких островов Соловецких добрались до самого устья великой реки Енисей, напугала пришлых шаманов. Собрав пастухов, повелели они спрятать сокровище в самой глубокой котловине синих гор Путорана, где блуждают от века, не находя выхода, волчьи стаи и племена Одичалых людей. На том и потерялся след золотой фигуры. Но неведомым путем распространилась весть, что дорогу к ней укажет когда-нибудь белый отсвет в ночи, который ученые люди называют «ледовым небом».
Ровно через двести лет, день в день, на месте того чума, откуда ушел в зимнее касланье[1]1
Перекочевка.
[Закрыть] золотой охранитель, построили первое заводоуправление.
Заполярный город, выросший посреди дикой тундры, стал самым северным городом в мире. Его многоэтажные каменные дома, словно повторяя далекое утро человечества, покоились на свайных опорах, намертво вмороженных в вечный лед. Немалых жертв потребовала мерзлота, прежде чем удалось приспособиться к ее крутому капризному норову. Подтаивая и расползаясь от малейшего тепла, излучаемого людским жильем, угрожая провалами и взрывом, она словно соединила в ледяной толщи сокрушительную мощь противоположных стихий: огня и воды.
Первостроители, еще в тридцатые годы «заложившие» основы будущего комбината, пришли в отчаяние, когда с наступлением лета увидели провалившийся фундамент, перекрученные каркасы, изуродованные трещинами стены. Но это была лишь проба пера. Лежащая под тонким слоем торфяных отложений трехсотметровая ледяная толща не уставала держать в изумлении самонадеянных пришельцев, которые привезли с материка буквальна все: от гвоздей до автобусов, от каменных облицовочных плит до тракторов и железнодорожных рельсов. С рельсами мерзлота сыграла особенно каверзную шутку. Не успели проложить колею, соединившую город с портом на Енисее, как весь путь, вместе с насыпью самым откровенным образом утонул в трясине. На другой год сделали более высокую насыпь, которая по всем инженерным расчетам не могла оказать заметного давления на грунт и полностью защищала от перегрева. Но вечная хозяйка тундры ответила таким головоломным трюком, что даже видавшие виды полярники обреченно развели руками. Железнодорожная ветка, каждый метр которой обошелся в несколько раз дороже, чем на материке, превратилась в некое подобие американских горок: чудовищные провалы чередовались с фантастическими вздутиями, шпалы полопались, задранные к небу рельсы завернулись в штопор, оскалясь клыками выдранных костылей.
И все же город построили: с асфальтированными улицами, магазинами, кино, бассейном для плавания. Проложили и железнодорожное полотно, по которому потянулись к Енисею составы, груженные металлическими слитками, углем, рудой. Мерзлота перестала быть непостижимой загадкой. Ее научились деликатно и бережно обходить. Специальная мерзлотная лаборатория, созданная при комбинате, начинала с азов. Суровую истину, что человек должен сосуществовать, а не бороться с природой, там усвоили задолго до того, как она стала внедряться в умы администраторов и ученых, живущих несколько южнее Полярного круга. Рекомендации, опробованные в Заполярном городе, нашли широкое применение по всей Арктике. В Гренландии, на Аляске, в Канаде – всюду можно встретить теперь водопровод в бетонном коробе, вознесенный, подобно римскому акведуку, высоко над землей, или прославленные железобетонные сваи. Заглубленные на добрых тридцать метров и залитые цементным раствором, они вмерзаются в грунт, срастаясь с ледяным монолитом.
Парящие над землей «Черемушки» лишь оттенили легкостью и белизной суровый лик массивных старожилов. Словно памятники недавнего, но уже легендарного прошлого, покоятся они на незыблемом скальном грунте. Под каждым – тридцатиметровой глубины котлован, продолбленный киркой и пробойником, изобильно политый потом.
Управление комбината размещалось именно в таком внушительном здании, с традиционными портиками и колоннадой индустриального стиля тридцатых годов.
Серый камень, конструктивистские окна, шершавый железобетон… Памятник эпохе, свершившей прыжок через невозможность, и живое рабочее сердце города, чьи окраинные улицы обрывались прямо у ямин полигональной тундры, где осока да пушица выметывали к июлю неподатливые колоски. Но далеко за сопки из шлака и прочих индустриальных отходов, которым ветры, снега и цепкая зелень придали волнистую стать творений земли, далеко за гряду фиолетовых гор, врезанных в беловодье окоема, простирал свою пионерскую власть комбинат. От кедровой тайги до отмелей Карского моря, с их моржовыми лежбищами и гнездовьями легендарной розовой чайки, ставил он опорные вышки. Аж до самого Енисея метил заявочными колышками кочки хмельного багульника, чей обычно лиловый цветок был зелен от потайной меди или густо синел сокровенным кобальтом.
Ажурные фермы ЛЭП и газопроводные трубы стали его крепостными стенами, сторожевыми башнями взметнулись над редколесьем вышки буровых и копров. На сто восемьдесят километров протянулся он по меридиану, связав навечно океан, тайгу и богатейшие горы, отдавшие взамен золотой жертвы медь, никель, кобальт и сопутствующие им редкие земли.
РЕЧНОЙ ЗАТОН
Вязкой горечью потянуло с увалов. Призывно-тревожно. Оцепеневшая за двести сорок суток зимы тугая древесная плоть нетерпеливо напружилась и живительный дух ее легким туманом просочился сквозь оттаявшие на припеке устьица. Архипелаги снега еще пятнали яры, поросшие чахлым лиственничным редколесьем, а волглая торфованная почва кое-где сочилась неукротимыми ручейками. Фильтруясь через сфагновый мох, осветляясь под пористым настом, они неудержимо рвались в пойму. Даже ночью не затихал вкрадчивый стеклянный шелест. Да и сгладилось различье между ночью и днем.
Косматое дымное солнце, едва коснувшись лиловой сопки, на которой прошлым летом выгорел лес, не желало закатываться за горизонт. Чудовищно искаженное рефракцией, смазанное влажным дыханием пробудившейся тундры, висело оно над долиной, насылая бессонницу, тираня назойливым бредом.
К концу первой декады июня реки еще были плотно набиты льдом. Круто замешанная, тронутая хмурой пороховой синью облачная пелена то озарялась блистающими окнами, то хлестала зарядами снега. Казалось, все висит на тончайшей волосинке и полусонный мир только и ждет, чтобы вновь погрузиться в оцепенение. Но несмотря на шквальные ветры, на метель, пролетающую под трубами газопровода, поднятыми подальше от мерзлоты, не утихал шелест таяния. И горьковатый дух тополиных проснувшихся почек по-прежнему томил душу. Необратимость извечного круговорота ощущалась в робких приметах весны.
Подъем воды начался – не поздно, не рано – шестого мая, а первую подвижку наблюдали только в начале июня. Горизонт вешних вод поднялся к этому времени уже на двенадцать метров. Но лед далеко не пошел. Замер, словно собираясь с силами. За первой короткой подвижкой последовала другая, потом еще одна – мощная, когда, казалось, Енисей окончательно взломает и вынесет и океан разбитые ледяные оковы.
Караваны судов терпеливо дожидались у кромки припая всего в каких-нибудь восьми милях, но к Дудинке было не подойти. В порту же скоплялись предназначенные к отправке грузы: руда для Мончегорска, слитки анодной меди, чистый, как зеркало, «никель-ноль».
Река, в десяти верстах от которой построили Заполярный город, много раньше освободилась от ледяной хватки. Благодаря сильному течению, она на большом протяжении не замерзала даже в пятидесятиградусные морозы. Поэтому и звалась испокон веков Талой, хоть и тащила усердно в Пясинское озеро лед, погребенный и вымытый из-под берега, но, большей частью, с питающих рек и озер, вскрывавшихся в иные годы много позже енисейской лагуны.
В Заливе и в Дудинке с нетерпением ждали открытия навигации, а на Талой уже вовсю шныряли катера и моторки. За шумовой завесой громоздящихся друг на друга геометрически правильных льдин едва ли можно было расслышать зябкий шорох иссушенной за зиму жестяной осоки, чавканье раздавшихся мочажин, вздохи набухшего белого моха. Но именно там шла незаметная целительная работа и день ото дня светлела взбудораженная вода.
Первые лодки выскочили на струю, когда Талая только-только пришла в себя. Пробовала силы, неумеренно играла норовистыми, перехлестывающими – стоило лишь подставить борт – гребешками.
Рыболовам большого заполярного города, наскучившим пробавляться подледным блеснением, не терпелось порезвиться на открытой воде. У каждого было свое облюбованное местечко, укромный уголок, память о котором скрашивала однообразие зимних дней.
Слух о том, что таймень хватает блесну, молниеносно разнесся по заводам, научным институтам и прочим, так или иначе примыкавшим к комбинату учреждениям. Мужскую половину населения охватило нервное возбуждение. Едва наступило долгожданное субботнее утро, все, у кого только были лодки, устремились к причалу. На медном заводе и на прочих участках с непрерывным круглосуточным циклом, только и разговоров было, что про рыбу, а заводские социологи зафиксировали временное снижение производительности труда.
Треск моторов оглашал весь берег от железнодорожного моста до угольной насыпи, а синий дым растекался по галечным мысам. Моторки шли, как рыба в косяке. Но понемногу русло расширилось, и река вобрала в себя и эти лодки с их грохочущими, воняющими бензином моторами, и людей, оживленных, азартных, умеющих по-детски радоваться простым и вечным проявлениям жизни.
И вновь одиночество повисло меж высоких яров, утыканных кривыми тонюсенькими деревьями, за которыми смутно темнели матерые стволы, отвоевавшие себе место почти на самой границе безлесной тундры. Все непривычные шумы потонули в изначальной тишине, растворились в настороженном и мудром молчании. Север, окружающий заполярный город, еще способен был каждому дать уединенное место – естественный и бесценный дар, которого лишены горожане, живущие на материке, о котором едва ли узнают их быстро растущие дети.
Рисковая это была затея – рыбалить на неустоявшейся воде, когда по протокам встречались заломы, а на отдельных перекатах даже рыба шла чуть ли не боком. Но в этом риске едва ли не главная прелесть таилась.
Север приманивает к себе людей определенного склада: покорителей, первопроходцев, а потом мнет их, как первозданную глину, приспосабливая под свою мерку. Постепенно и выковывается характерный психологический тип, для которого особая притягательность заключается и противоборстве, как принято говорить, с природой. От сидения в прокуренных кабинетах да ежевечерних бдений у телевизора эта почти атавистическая жажда сама собой притупляется, но не исчезает совсем. И если только предоставляется удобный случай, коренной полярник всегда рад тряхнуть стариной.
Начальнику поискового горно-металлургического цехи Андрею Петровичу Мечову такой случай как раз и представился. С помощью слесарей, которым была обещана бутылка редкостного армянского – в Заполярном городе вместо водки продавался только «питьевой спирт», – он загодя спустил лодку на воду. А потом все оставшиеся до выходного дни занимался блеснами, карабинами, леской и прочими упоительными причиндалами спиннингового промысла. Он лишь рассмеялся, когда начальник планового отдела Бузуев, с которым в урочный день столкнула его судьба, заикнулся насчет водокрутов во дальними валунами.
– Кто не рискует, тот в тюрьме не сидит, – отшутился Мечов, стремясь поскорее отделаться. – Да и свежей тайменины ой как охота, – он блаженно потянулся, почесал живот под колючим свитером грубой шерсти и решительна застегнул молнию штормовки. – Видишь? – махнул рукой в сторону причала, где возле сарайчиков с лодками дымились костры. – Сплошная фиеста…
– Ну, держи ухо востро, – предупредил сосед, затаив завистливый вздох. – В заводь, небось, пойдешь?
– Ну, – нетерпеливо мотнул головой Мечов и без лишних церемоний поспешил расстаться с разговорчивым сослуживцем, так некстати вынырнувшим из дверей булочном.
Купив теплую и влажную еще ржаную буханку, уложил ее в рюкзак, где рядом с укутанным в телогрейку термосом лежали консервы и фляга со спиртом, и заспешил под уклон, пританцовывая на ходу. Легко себя чувствовал, уверенно. Каждая жилка трепетала от бьющей через край нетерпеливой радости.
Все было заготовлено еще с вечера: безотказный спиннинг норвежский, подсачник, багор и даже пропитанный бензином обломок диатомового кирпича, чтобы без всяких хлопот запалить костерок.
Погода, тоже, можно сказать, баловала, пророчила удачу. С юга задувал несильный устойчивый ветер, очистившееся небо приветливо лучилось студеной голубизной. Дымилось на солнце, как сжиженный газ в дьюаре.
Сложив вещи в свою видавшие виды дюралевую «Казанку», Мечов отомкнул замок, бережно завернутый в промасленный полиэтиленовый мешочек, и вынес из железной конурки мотор. С «Вихрем» в одной руке и запасной канистрой – в другой, косолапо затрусил по дощатому пирсу, мокрому и затоптанному сотнями таких же, как у него, резиновых сапог.
Когда мотор вдоволь прочихался и, после долгих усилий взял нужную устойчивую ноту, Андрей Петрович описал широкую дугу и, махнув рукой приятелям, которые еще возились на берегу, дал полный газ. Ощущая как днище бьется о враз отвердевшую воду, чуточку убавил скорость и прямиком нацелился на белый бакен.
С безотчетной грустью, навеянной небом и пасмурной водой, подумал о том, как мал, в сущности, заполярный город, самовластно внедрившийся в заповедные просторы, где человек всегда был лишь случайным кочевником, перегонявшим оленьи стада от гор к океану и от океана к горам.
Промелькнули мосты и провисающие над рекой фарфоровые бусы электропередачи, сваи причалов, краны, уродливые, потемневшие от снега бревенчатые стены складских помещений с глубокими, как амбразуры, незрячими оконцами. Остались позади пирамиды железных бочек, свалки ржавого металлолома, и с резкой неожиданностью первозданный неприветливый берег – близко, чуть не рукой достать – открылся.
Только трубы заводов, составлявших малую часть единого, исполинского в своем размахе горно-металлургического комбината, еще долго виднелись на горизонту, бледно-зеленом, застывшем. Неподвижной выглядела и бесконечная пряжа исходившего из них разноцветного дыма. И лиловые узкие облака в немыслимой обесцвеченной высоте, с которыми незаметно сливался этот холодеющий дым, и багровая, запекшаяся понизу пена – тоже казались лишенными малейших движений.
Как мираж, привидевшийся в пустыне, как нераскрытая тайна, изгладился город.
И сразу темнее навис берег, тоже обездвиженный и завороженный.
По течению еще изредка несло ледяные обсоски, но в сумеречной глубине донная галька проблескивала и холодная пена перемывала гранитное зерно в корешках прибрежного тальника. Отчетливое мельтешение их желтой и бледно-розовой бахромы приковывало взгляд, невольно ищущий перемен. Набегавшая рябь монотонно колыхала устлавшие дно прошлогодние ветки, потонувшие мелкие листья. Мылкая накипь, колебля щепу и лесной сор, лизала выступившие валуны, меж которыми косичками завивались струи. Но стоило поднять голову, и муаровый узор ряби сглаживался, и там, где река скупо отсверкивала, как прокатанный лист, незыблемо отражался левый лесистый берег, расчлененный на узкие зеркальные полосы. Отсюда до цели уже близехонько было.
Мечов прислушался и различил, невзирая на тарахтение мотора и переплеск, унылый протяжный звон. Не отпуская руля, привстал. Сощурив рысьи глаза, настороженно осмотрел берега и фарватер. Углядев справа по ходу бочку из-под солярки, намертво застрявшую на галечном плесе, разочарованно дернул плечом.
Срывая и унося тускло-радужную пелену, как в бубен, била в железное днище тугая струя.
Все было обыкновенно в окружавшем его скупом и бедном на сочные краски мире. Сотни раз видел он и эту необъятную панораму, в чем-то похожую на декорацию и неправдоподобную дымную пряжу, которая стыла в густой облачной синеве. Саднящие краски безначального восхода, незаметно переходящего в бесконечный закат, уже не томили его непонятной тоской, как в первые годы. Но в глубине души он знал, что будет вспоминать нее это, когда вернется, раньше ли позже, на материк. Как уже вспоминал, безотчетно тоскуя о них, где-нибудь в Ялте или Сочи.
Почему-то всегда приходило на память одно и то же: пунцовый, курящийся ржавыми протуберанцами шар у самой кромки мертвого леса и протяжные всхлипы куда-то летящих серых гусей. В такие минуты он даже отчетливо слышал, как вторила им река, играя в сотни и тысячи опустошенных бочек, как призывно аккомпанировал басовыми струнами высоковольтных линий истекающий в туман электрический ток.
Слишком безропотно объяла тундра дымящие трубы, нити газопроводов, вышки ЛЭП и эту жестяную тару, которую вместе с плавником разносили во все стороны освобожденные ото льда реки. Все приняла, все вобрала в свое вечное лоно, приобщив к таинствам сокровенных камланий. Как приобщала с незапамятных времен дымные струйки стойбищ, рокот бубнов и посвист оленьих нарт, летящих по наледи. Пока, во всяком случае, дурман багульника одолевал едучее дыхание серы, а перегретый нечистый пар, осев средь болотных кочек, тысячекратно возрождался для жизни. Питал ручьи и реки, наливал колдовским соком бледные мухоморы и еще какие-то призрачные грибы, чьи невидимые споры вспыхивали в осенние ночи зеленой фосфорной пылью.
Экологические размышления не мешали Мечову зорко следить за фарватером. Метров за сто до валуна, отшлифованного льдами и вылизанного течением, он сбросил газ и направил «Казанку» в заливчик – прямо к золотистому пятачку, озаренному светом, полыхающим в облачных полыньях. Переменившийся ветер гнал к берегу, чуточку наискосок, и холодным приливом обжимал на спине штормовку. Рыба при таком ветре скорее всего стояла где-нибудь на глубине, противоборствуя придонным течениям, и не было никакой уверенности, что она прельстится на блесну. Но попробовать несомненно стоило, раз уж он все равно решился выехать в такое переменчивое, исходящее сыростью утро и добрался, невзирая на гудящие по реке гребешки, до заветного валуна, где его не раз баловала удача.
Жаль, прежнее настроение развеялось. Бесконечно одиноко чувствовал он себя под этим небом, представшим вдруг таким безнадежно высоким, что страшно становилось глядеть в голубые скважины, где гуляла стужа и струились световые столбы: то ли обычные лучи иззаоблачные, то ли копья небесного воинства. А может, и вовсе колонны, косо подпирающие зенит, – ничего не поймешь в такое утро.
Как замолк мотор, шум реки стал отчетливо слышен, шорох таяний, дальние отзвуки подвижек и обрушений.
Высокий берег с редкими лиственничками теневым клином лежал на воде, по которой студеный парок завивался, точь-в-точь, как над прорубью. И такая везде несказанная красота ощущалась, что слезы подступали к горлу.
Отрешенность, немота, грусть светлая и вместе с тем сумрачная. Все грустило вокруг: отвалы прозрачные, черным зеркалом обтекающие лодку, суровые камни и глянец латунный, которым, как свыше, отмечен был добычливый омут.
На переменчивость вод и небес берег отвечал хмурым однообразием. Однако и в нем таилась вещая приглушенность, скупая, прямо-таки подвижническая умеренность. И как за сердце хватала, как щемила она, освобождая от всяческой суеты. Жаль, что ненадолго.
Мечов знал уже, что ни настроения, ни ощущения удержать нельзя. Едва коснулся человека прилив высокой сути, как мысль ускользнула за глухую завесу. И нечего вспоминать и глупо задерживаться. Хоть расстаться никак невозможно, да любоваться уж нету сил. Только бесплодное раздражение или равнодушное скольжение невидящим взглядом. День ото дня, год от года нужно копить мимолетные ощущения, и тогда, быть может, что-то однажды откроется в сердце, высветится из мрака, как молнией озарит.
Оттого, наверное, и прикипают люди всей душой к Северу, что разлито в нем потаенно угадываемое откровение, без которого муторно человеку на земле, беспокойно. Повсюду приметы духовной мощи угадываются. В пятнах лишайников на окатанных черных валунах, в неброской белизне галечных отмелей, в поросших мохом стволах пихт и лиственниц. Каждый яр, как погост, каждое дерево, как темный насупленный скит. И конечно, ветер еще, переменчивый, резкий. Он и солью, и стужей дохнет, и терпкостью тополиных почек, и хинным привкусом ив.
Влекомая течением лодка незаметно проскользнула в затон и понеслась вдоль берега, заваленного плавником и ржавеющим хламом, уродливо обнажившимся со снеготаянием. Вечная мерзлота не принимала все растущие груды металлолома. Вывозить их на материк было дорого, перерабатывать – негде.
Привычные мысли прокручивались в голове Мечова, когда проносило его мимо завалов, где между вывороченных корней темнели консервные банки и всевозможные емкости из-под горючего. Заботы привычные одолевали, но не остро, не раня памяти, не задевая сердца. Был он весь полон грустным очарованием и тем предощущением близкого озарения, которое постоянно влекло и никогда не сбывалось. Возможно потому, что просто времени недоставало побыть наедине с собой, с глазу на глаз остаться с выпуклым окоемом, где играла то медная прозелень, то лиловая пена, то беспросветная синева.
Вот и теперь, едва правый борт чиркнул о камень, вросший в русло, под которым трехсотметровым слоем лежала мерзлота, схватился Мечов за спиннинг, предусмотрительно приведенный в боевую готовность.
Несильно взмахнув упругим удилищем с пропускными кольцами из дымчатого агата, бросил блесну в самую середку светлого пятачка, где рябь так и лоснилась янтарным жиром. Едва тяжелая рыбка с тройником на хвосте нырнула в волну, отпустил рычажок и позабыл обо всем на свете. Полностью отключился. Роскошная норвежская катушка, взведенная на автомат, с завидной скоростью выбрала лесу. Андрей Петрович осмотрел блесну, щедро отмеченную острыми зубами лососевых рыб, и бросил наново. Теперь он крутил барабан уже сам, вручную. Лишний раз хотел поиграть чудо-снастью, сразу поймать тот особый пронзающий до нутра рывок, за которым последует тяжкое тупое сопротивление и начнется единственная в жизни работа, когда останавливается время и саднящая боль кровоточащих пальцев воспринимается как наивысшее блаженство.
Пришлось сделать множество холостых забросов, раз за разом возвращая моторку к исходному камню, прежде чем рука ощутила легкое напряжение. Андрей Петрович затаил дыхание, по тут же понял, что ошибся и ничего на крючке нет. Едва ли он мог прозевать поклевку. Скорее всего видимость нагрузки создавала играющая против сильного течения блесна.
Зевать на такой быстрине не приходилось. Случись что – развернет лодку боком и бросит на гладкий диабаз, где даже лишайник, и тот не сумел удержаться. Но приведи господь, если заглохнет мотор.
Не доходя до воронок, остервенело будоражащих темный омут, Мечов плавно развернулся и вновь повторил заход. Блесна упала далеко от лодки. Без всплеска, отвесно канула в глубину. Еще не начиная мотать, Андрей Петрович каким-то шестым чувством угадал, что на сей раз удалось, клюнуло. И не какой-нибудь чир или муксун, а именно он, хозяин…
Ощутив мертвый рывок книзу и в сторону, Мечов поспешил отпустить лесу, но не настолько, чтобы рыба могла уйти за перекат, откуда ее уже не выцарапаешь никакой силой. Поводив удилищем, которое сгибалось в дугу, он уперся пробковым концом в ременную пряжку и попытался подтянуть добычу поближе к лодке. Но едва схватился смотать слабину, как рыба ответила таким отчаянным броском, что затрещала катушка. Пришлось отпустить стопор, потому как леса грозила лопнуть. Уж опять маячили валуны и билась нечистая пена. Заход на заходом Мечов терял драгоценные метры. Когда же выходило так на так, считал, что добился: успеха. Хоть и сильна была рыба, но не могла она бесконечно тянуть, разрывающее челюсть железо, неизбежно должна была вымотаться.
Когда Мечов, сам усталый от напряжения и азарта, вдруг почувствовал, что удилище гнется уже не так угрожающе и миллиметровая жилка много легче ложится на барабан, у него задрожали руки. Накручивая изо всех сил катушку, он потерял бдительность и едва не угодил в воронку, беснующуюся в безысходной близости от камней. Еще бы мгновение, и не увернуться. Продолжая накручивать, он свободной рукой вцепился в ручку мотора и уже собирался врубить на полный, как рыба совершила отчаянный смертельный прыжок. Сверкнув серебряным радужным боком, лишь чуточку тронутым чернью, которой покрывается крапчатая чешуя в речной подо, таймень сиганул на перекат. Шмякнувшись о камень, изогнулся кольцом и канул в омут.
Мечов отчетливо видел вспененный столб, оскаленную черную голову, ртутное, как из ствола исторгнутое тело. Что случилось за этим растянутым, как при замедленной киносъемке мигом, он так и не понял.
Перелетев через борт и с головой ухнув в обжигающую холодом воду, инстинктивно рванулся к поверхности, жадно хватанул воздух, но что-то тянуло его под воду, мешало плыть. Целая вечность прошла – по крайней мере так показалось, – прежде чем понял, что не выпустил все же спиннинг, намертво зажатый в оцепеневшей руке. Слабо дернул, ощутил, как забилась на дальнем конце намотанная до чертиков рыба, и попытался разжать сведенные пальцы. Надеясь выручить хотя бы снасть, лихорадочно нащупывал невесть куда запропастившийся нож и невольно следовал за уходящей в глубину жилкой.
Андрей Петрович был заядлым моржом и не упускал случая поплавать в проруби, когда устанавливалась относительно умеренная погода. Только это и спасало его теперь от верного шока. Выпуская понемногу отработанный воздух, он сделал неловкую попытку перекусить леску, но только хлебнул воды и пробкой вылетел на поверхность. Обреченная рыба и снасть, которую он бессознательно выпустил, влекомый инстинктом самосохранения, остались в реке.
Выплюнув воду, он ошалело огляделся и изо всех сил поплыл к лодке, которая, на счастье, врезалась в берег. Мотор заглох и течение неторопливо тащило ее вдоль галечной кромки к перекату. До берега было близко, но и мокро блестящие камни – отсюда они выглядели настоящими скалами – приближались с пугающей быстротой. Мечов сразу понял, что его сносит к водовороту, отяжелевшая одежда и резиновые сапоги едва ли позволят вырваться из воронки. В лучшем случае его швырнет на камни, откуда без чужой помощи не выберешься. А на помощь надеяться нечего. Прежде чем кто-нибудь случайно заглянет в эти забытые богом места, ледяная вода сделает свое дело. Это ясно на все сто процентов. Никуда тут не денешься. Он сознавал, что владевшее им несколько замедленное спокойствие очень непрочно. Под ним, как под тонкой кожицей пульсировал сгусток, в котором невнятно смешались сожаления, тошнотная тоска и отчаянная надежда.
Резко оттолкнувшись ногами, упорно тянувшими вниз, Мечов лег щекой на воду, вдавился по самые ноздри, как в лед. Загребал широко, жадно, стремясь во что бы то ни стало выброситься на маячившую перед глазами окатанную гальку. Но они все не приближались, а лишь проносились мимо, эти светлые ядра, тальники за ними, высокий берег и лес.
Опять с обостренной, почти неестественной четкостью, различал в пене мельчайшие подробности: выбеленный плавник, пляшущие в пене гладкие кусочки дерева, голые прутики ив с меховыми редкими шариками и острой, как морда лосося, чуть загнутой почкой. Он видел отдельные, почему-то укрупненные фрагменты, словно со стороны, и едва ли мог разобраться в своих ощущениях. Не хватало, ни сил, ни мгновений вглядываться. Как это случается в критической ситуации с умными, привыкшими аналитически мыслить людьми, инстинкт и разум дополняли друг друга. Когда моторка, очередной раз носом уткнувшись в камни, развернулась кормой и, словно притягиваемая магнитом, стала медленно отдаляться от берега, Мечов сразу понял, что ему дается дополнительный шанс. Чисто геометрически задача решалась просто. Необходимо было догнать лодку прежде, чем это само собой произойдет у переката, где пересекутся их трассы.
Он не думал о том, как заберется на борт в чугунных веригах, которыми сразу же обернутся все надетые на него вещи, как сумеет запустить мотор или бросит в уключины почти бесполезные легкие весла, если, конечно, останется у него хотя бы секунда на то, чтобы просто оглядеться, понять что к чему. Он знал одно: плыть, и как можно быстрее.
«Казанку» удалось догнать сравнительно скоро. Схватившись обеими руками за маленький кнехт, он какое-то мгновение висел, безуспешно пытаясь содрать скользкие голенища, облепившие щиколотки. Ничего из этого, конечно, не вышло, но, как бы прокручивая отснятую кинопленку, он вспомнил вдруг водяной веер и взлетевшую в воздух прекрасную рыбу.
Непроизвольный толчок воображения словно подстегнул Мечова. Напружившись, он подтянулся, выжал на руках невероятную тяжесть тела и перевалился через борт, изливая потоки воды.








