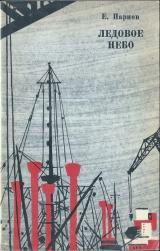
Текст книги "Ледовое небо. К югу от линии"
Автор книги: Еремей Парнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
БЕРЕГ (МОСКВА-РАДИОЦЕНТР)
В радиоцентре Министерства морского флота приступили к поискам подходящего буксировщика. Последние координаты «Оймякона», полученные по телексу из пароходства, ввели в ЭВМ, где с недоступной для человека быстротой начался перебор вариантов. Ответ был получен через четыре минуты. Кроме «Лермонтова», чей ход, естественно, тоже никак не мог миновать электронной выборки, машина назвала еще несколько судов. К сожалению, все они отстояли довольно далеко от искомой точки. Ближе всего к «Оймякону» находился сухогруз «Роберт Эйхе», следовавший из Гаваны в Лас-Пальмас. По дедвейту, скорости и мощности силовых установок он лучше отвечал предъявляемым требованиям, нежели «Лермонтов». Наконец, его не приходилось снимать с рейса, что тоже являлось безусловной удачей. Груз, который судно намеревалось по пути домой взять в Лас-Пальмасе, вполне можно было переложить на кого-нибудь другого.
Впрочем, все эти обстоятельства станут обсуждаться несколько позднее и не здесь. В задачу машины и соответственно оператора входит одно: как можно скорее выдать название и координаты. Поэтому, сняв с печатающего устройства отрезок перфорированной ленты, оператор сразу же принялся за новое задание. Задача, которую ему предстояло решить, математически была аналогична предыдущей. Научно-исследовательское судно «Сапфир» срочно запросило квалифицированного врача, чтобы оказать помощь мотористу, у которого начался перитонит после резекции аппендикса, проведенной в трудных условиях семибалльного шторма. «Сапфир» находился в Индийском океане в шестистах милях южнее Кейптауна, вдали от обычных судоходные путей, и помочь ому было трудно. Ждали своей очереди и другие запросы плававших на бескрайних просторах Мирового океана кораблей.
ЭВМ, для которой разница между сотней и тысячей миль заключалась лишь в порядке чисел, переведенных в двоичную систему, всегда давала положительные отвесы. Ей не дано было различать, какие из чисел действительно обещали надежду, а какие ее отнимали. Ведь расстояние между искомой точкой и ближайшим к ней судном могло стать и смертным приговором. Как для терпящего бедствие парохода, так и для человека, которого нежданно-негаданно подстерегло несчастье. Разделенное на скорость в узлах, это расстояние превращалось во время, исчисляемое часами и сутками. Порой вовсе счет шел на секунды. О таких мгновениях лучше не вспоминать, потому что нет для человека ничего обиднее и страшнее собственного бессилия перед бедой.
Но и всевластное время не всегда становилось решающей ставкой в незримой битве за жизнь, которая денно и нощно велась в эфире. Случаи полной оторванности судна сравнительно редки. Гораздо чаще наблюдаются ситуации несколько иного рода, когда друзья спешат на выручку со всех сторон и есть время ждать. Кажется, все благоприятствует удаче и можно не сомневаться в благополучном исходе, но исход получается иным, потому что чего-то недоставало. Совсем немногого: может быть, знания, может быть, точности рук. Эта ничтожная малость, которую не предусмотришь и не захватишь с собой, на манер аварийного комплекта, переиначивала все на свой лад.
На банановозе «Свирь», который шел из Коломбо в Баб-эль-Мандебский пролив, тоже ждали помощи из радиоцентра. Ждали матрос, которому вонзилась в глаз металлическая стружка, и судовой врач, который не решался сделать операцию, так как случай оказался сложным. Вокруг плавало сколько угодно судов, своих и иностранных, и любое из них могло подойти к «Свири» в течение считанных часов. И тем не менее, шансы на то, что матросу удастся сохранить глаз, с каждой минутой падали. Ни на одном пароходе не нашлось медика, который бы разбирался в глазном деле лучше, чем врач «Свири». Оставалось только одно: срочно найти опытного окулиста и дать консультацию по радиотелефону.
Само собой понятно, что такие дела тоже не входили в компетенцию оператора ЭВМ, который ограничился тем, что назвал десяток пароходов, плававших в Индийском океане и Красном море. Наверное, ему казалось тогда, что на «Свири» вскоре будет полный ажур. Зато положение механика «Сапфира» представлялось куда как неважным. Помощи ожидать было в сущности неоткуда. А там не о глазе забота была – о жизни.
Что же касается случая с «Оймяконом», то он рисовался оператору совершенно элементарным: раз ближе всех находится «Лермонтов», значит, ему и выручать. Дежурный оператор вычислительного центра ничего не решал, но мнение для себя составил, потому что человек, в отличие от машины, не может мыслить одними цифрами. Особенно когда знает, что за ними стоит. Другое дело, что эти побочные мысли никак не сказываются на результатах, поступающих в узел связи.
Данные выборки, в которых «Эйхе» значился под номером два (после «Лермонтова»), попали к начальнику смены, когда на всех столах горели красные лампочки. Был сайлинг-период, когда радиоцентр прекращал передачи на средних волнах. Радисты в глухих наушниках, чуть подавшись вперед, настраивались на торжественную тишину, которую прослушивали вместе с ними все, без исключения, судовые рации. В известной мере радиоцентр уподоблялся погруженному в невидимые волны лайнеру. Может быть, с той лишь разницей, что свирепствовавшие вокруг него ветры и шквалы не подчинялись шкале Бофорта. Для них существовали особые мерки: частоты и амплитуды, особый первозданный хаос, который именовали «уровнем помех».
И хотя бортовые часы показывали для каждого свое время, единое радиоморе плескалось теперь в наушниках москвичей и Василия Михайловича Шередко, его коллеги по «Оймякону» Заречного и неизвестного пока маркони на сухогрузе «Роберт Эйхе».
Ребята с «Эйхе» полтора месяца провели в кубинских портах, и Лас-Пальмас маячил для них желанной приманкой, где каждый надеялся потратить заработанные за долгий рейс золотые копейки. Недаром райскую столицу, легендарный остров одесские моряки именовали не иначе, как «Лас-Пальтас», ибо пальто на Канарах, где летом и зимой почти одинаково тепло, и впрямь стоили дешево. Впрочем, дерибасовские модницы, которым товар в «комисах» показывали только из-под прилавка, пренебрегали вещами с пальмовой этикеткой. Предпочитали американские нейлоновые шубки. Но аллах с ними, и вообще не шмутками занята голова, если до земли еще трое суток, хотя первые ее вестницы кружатся над палубой! Чувство, которое переживает моряк, когда видит сидящую на кнехте или на какой-нибудь стеньге береговую птичку, объяснить невозможно. Здесь и общность судьбы и единство ощущений. Пароход – тот же остров, улететь с которого некуда. И потому унесенная от родины птаха остается в гостях до той желанной поры, когда почует близкую землю. Однажды утром ее не найдут ни на марсе, ни возле камбуза, где каждый привык потчевать гостью рубленым мясом и ягодами из компота. Это случится много раньше, чем на экране локатора возникнет подобный облаку контур со стрелками молов.
Вот когда задумается моряк о тряпках и прочем фуфле, ощутит властный зов и знакомое нетерпение берега. Пусть приборы показывают все, что им заблагорассудится, и суша обозначена на листе, за который еще не брался штурман, – не имеет значения. Пичуга не обманет, она знает свой берег. Чайка – ворона морей – и та не отлетит от земли дальше, чем на шестьсот миль.
Из всех пернатых одна только ласточка не веселит матросскую душу. Без улыбки следят моряки за тем, как мечется над кораблем черно-зеленая чемпионка трансатлантических перелетов, как беспокойно носится от носа до кормы. Встретившийся ей железный грохочущий остров бесплоден и не сулит передышки. Напрасно отбившаяся от стаи беглянка чертит за кругом круг, облетая идущий корабль. Ни у штевня, вздымающего буруны, ни над взбаламученным клином кильватера не найти ей желанных комаров да мошек. Она неизбежно погибнет от голода. Трупы ласточек на палубе – неизменная примета океанских дорог.
О чем думал радист с «Роберта Эйхе», когда прослушивал эфир на частоте бедствий? О доме, о стоянке в Лас-Пальмасе? Или о вестях, которые надеялся принять по истечении сайлинг-периода?
Во всяком случае, он с облегчением потянулся и сделал соответствующую запись в журнале. Все у него обстояло прекрасно: Одесса подтвердила заход в Лас-Пальмас, а маленькая коноплянка, залетевшая третьего дня в рубку, весело рубала компот прямо из кружки.
В зале радиоцентра тоже повеяло мгновенной беззаботностью. Напряжение требовало разрядки, к которой примешивалось естественное облегчение, потому что ничего нигде не случилось. Даже опытные, с двадцатилетним стажем радисты, которые работали на вызывных столах, позволяли себе в такие минуты расслабиться.
Записка с координатами и позывными «Роберта Эйхе» попала к Егору Мелехову, вызывному оператору, который пришел в радиоцентр после сверхсрочной службы на военно-морском флоте. Его стол находился в самом центре зала и был защищен от посторонних шумов плексигласовыми экранами.
Профессиональным взглядом радиооператор охватил стрелки на циферблате и карту часовых поясов. До начала сеанса оставалось еще достаточно времени.
– Займусь пока пострадавшим, – сказал он начальнику смены, проглядев задания. – Тут время действительно не терпит, переведите на меня «Сапфир» и «Свирь».
– Вас понял, – сказал начальник смены.
В отличие от радистов, обслуживающих рабочие столы, вызывной оператор не занимается приемом и передачей текущих радиограмм, которых за смену набирается несколько сотен на брата. В его задачу входит одно: установить надежную связь с судном и обменяться с ним особо важной информацией. Только в чрезвычайных случаях вызывной может взять на себя судно целиком, и тогда все радиограммы будут проходить только через его руки.
Это делается для того, чтобы по возможности избежать потерь при радиосеансе, потому что одних профессиональных навыков бывает недостаточно. Необходимо еще несколько редких человеческих качеств, таких, как изощренный слух, интуиция и быстрота реакции. Поразительные успехи современной техники только повысили значение подлинного мастерства и таланта, с которыми пока еще не научились соперничать приборы. Служба в радиоцентре требует нечто большего, чем просто усердие и расторопность. Тем более, что автоматы почти целиком взяли на себя всю механическую часть многогранной работы радиста.
За невысокими стеклянными перегородками круглосуточно отстукивают строчки буквопечатающие аппараты – беспроволочные телетайпы. Человеку остается только следить за режимом и время от времени производить настройку. Даже радиограммы, предназначенные для судов, отбивает теперь не рука на ключе, а специальный трансмиттер, способный передавать тысячи слов в минуту. Такие ускоренные автопередачи сначала записываются на магнитофон, а уж потом расшифровываются. И не беда, если что-то затерялось, в эфире. Электронная память позволяет восстановить утраченные слова. На больших судах расшифровка осуществляется в автоматическом режиме. Казалось бы, во всем обошла кибернетика человека.
Но стоит заявить о себе капризной природе, как тут же возникает потребность в пальцах пианиста и ухе композитора, способном выявить хрупкую мелодию морзянки в какофонии магнитных бурь. А поскольку плохая слышимость на море – обычная вещь, принимающий оператор еще многие годы останется главной персоной в любом радиоцентре. Да и от азбуки Морзе, по-видимому, еще не так скоро откажется флот, потому что морзянка слышна намного дальше, чем человеческий голос.
Обработать кипы радиограмм и по кабельным телетайпам передать в министерство данные о работе экипажа, погрузке и выгрузке могут и автоматы. Но держать на связи весь шар земной, способен только человек.
Когда диспетчеру удалось наконец-то связаться с дежурным в госпитале Мелехов установил радиотелефонный контакт между кабинетом главврача, куда срочно вызвали ведущего окулиста, и «Свирью». Медицинские рекомендации на «Сапфир» пришлось передавать ключом. Информация дошла в обоих случаях, а последствия уже не зависели от вызывающего. И то, что моторист в конце концов выздоровел, а парень со «Свири» остался без глаза, было делом рук судовых врачей.
Десятки радиограмм, в основном личного характера, адресованных родным и близким, прошли через рабочие столы, прежде чем радист «Роберта Эйхе» вышел на связь. В течение нескольких минут Одесса-радио переключила его на московский центр, и Мелехов, отстучав подтверждение, передал приказ оставаться на связи. Теперь дальнейший маршрут сухогруза зависел от начальника пароходства.
СУДОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
После полудня океан раскачало. При полном безветрии в правый борт грузно била крутая, темная, как антрацит, волна. Тарелки приходилось наливать едва до половины. При очередном крене у кого-нибудь обязательно выплескивалось. Когда Шередко забежал перекусить, скатерти в кают-компании уже стали розовыми от борща, а на полу застывали жирные лохмы капусты.
– Тю, вражина! – поскользнувшись, он ухватился за кресло с штормовым креплением. – Прямо Саргассово море.
– Клевещете на водоем с идеальной прозрачностью, – меланхолично заметил Беляй, уписывая липкие от чеснока пампушки. – Белый круг заметен на глубине шестьдесят шесть метров. Это вам не Каролина-бугаз.
– Чем порадуете, Василий Михайлович? – поинтересовался Дугин.
– В пятнадцать часов попробуем выйти на телефонию.
– Ну-ну, – капитан скептически прищурил глаз. – А как насчет – позвонить домой? Вы хоть на очередь стали?
– Та, шестая. Пока докричался до той фифы с Одессы-радио, трошки потеснили другие пароходы.
– Нам всегда не везет, – сказал Дугин. – Хотел бы я знать, кто первый?
– Конечно, Богданов, – гордясь своей догадливостью, выпалил Мирошниченко. – Он после каждого рейса заявляется на радио с конфетами и прочей косметикой. Первая очередь «Оймякону» навсегда обеспечена. Автоматически.
– До чего примерный семьянин, – съехидничал Эдуард Владимирович, которому даже длинные макаронины не мешали улыбаться.
Дугин ответил ему беглым непроницаемым взором.
– И правильно делает, – отрезал Беляй.
До него доходили слухи о том, что капитан оставил первую жену именно из-за Богданова. Неосторожная реплика Эдуарда резанула по сердцу. Стало неприятно за Дугина.
– Как, Василий Михайлович, – поинтересовался он, чтобы разрядить обстановку. – Бочка еще на плаву?
– Плывет, железяка, – добродушно тряхнул челкой Шередко. – Красная, небось, вся от ржавчины.
– Будь у меня оружие, я бы с наслаждением ее расстрелял, – сказал Дугин.
После того, как Беляй случайно проник в его тайну, он благосклонно разрешал позубоскалить на предмет бочки. Это не мешало ему скрупулезно отмечать ее извилистую траекторию.
Когтя линолеум, к столу, за которым сидел второй электрик, проковылял зеленый попугай Юрочка. Он плавал на «Лермонтове» со дня приемки судна и считался полноправным членом экипажа. На него был даже выписан специальный санитарный сертификат. Взлетев к хозяину на плечо, вещая птица проскрипела:
– Вторрник.
– Ошибаешься, Юрочка, понедельник, – заворковал электрик Паша. – Ну скажи: по-не-дель-ник.
– Уберите эту ворону! – прояснел ликом капитан. – Пусть в каюте сидит.
Разумеется, никто не пошевелился. Затаив дыхание, все ждали продолжения спектакля.
– Четвер-р-рг! – явно подначивая, прокартавил Эдуард Владимирович.
– Не сбивайте его, – буркнул Дугин, косясь на дверные створки, которые дребезжа раскрывались и захлопывались при очередном крене. – Может, кто-нибудь все-таки закрепит дверь?
– С удовольствием! – вызвался неунывающий Эдуард Владимирович.
– С удовольствием дороже, – буркнул Дугин. – Ворона молчит? Эй, Юрочка!..
– Вадик, наливай, – грустно молвил попугай, помянув кого-то из прежних владельцев. Несмотря на ежедневный тренинг, он упорно отказывался заучивать новые имена и лишь однажды, это было на рейде Валенсии, случайно обмолвился, к вящему восторгу кают-компании, скомандовав: «Костя, наливай!»
– Ни к черту не годится, – капитан разочарованно скомкал бумажную салфетку. – Пошли, что ли, Василий Михайлович?
Пол под ногами плавно проваливался и уходил вверх. Кренометр показывал до двадцати градусов, но качка после горячего обеда не вызывала неприятных ощущений. Хватаясь для надежности за траповые пруты, Шередко и Дугин поднялись в радиорубку.
Валера с готовностью снял наушники и уступил поворотное кресло Василию Михайловичу. Потоптавшись немного возле капитана, он ушел в соседний отсек, где беспроволочный телетайп выстреливал последние международные новости и вести по стране.
Президент США склонял налогоплательщиков к экономии горючего, а «Черноморец» опять проиграл на своем поле «Кайрату».
«Накрылась высшая лига, – подумал Валера, – вот «обрадуется» Иван Гордеевич».
Шередко настроился на условленную частоту и взялся за ключ. Вслушиваясь в трепетную пульсацию вызова и комариный напев ответной морзянки, Дугин думал о крайнем витке завернувшего к Северной Америке стремительного циклона. Судя по быстро падавшему барометрическому давлению, «Лермонтов» уже вклинился в опасную зону. Метровая зыбь, переваливавшая теплоход с борта на борт, не сулила особо радужных перспектив. Часов через восемь – десять следовало ожидать первых порывов ветра. Потом, скорее всего, наступит короткая, давящая в затылок тишина, а там ветер изменит направление и разыграется шторм. Да еще какой! Если верить погодной карте, сила ветра местами достигнет ураганных градаций.
– Говорите, – кивнул капитану Шередко.
Константин Алексеевич взял трубку.
– Говорит теплоход «Лермонтов», – внятно прогудел в микрофон, надевая наушники. – День добрый, Олег Петрович! Как самочувствие? – нажал кнопку. – Прием!
– Константин Алексеевич? – неожиданно близко прозвучал голос Богданова. – Приветствую вас, приветствую. Самочувствие отличное. Продвигаемся помалу указанным курсом. А как у вас?
– Вашими молитвами, Олег Петрович.
– Значит, совсем замечательно.
Шередко врубил динамик, чтобы слышать весь разговор.
Как и положено, оба капитана говорили неторопливо, с легким оттенком небрежности, словно ничего не случилось и их не ожидает в ближайшие сутки рандеву, за которым начнется, требующая обоюдного напряжения, страда. Обычно в таком сдержанно дружелюбном тоне, в котором ощутимо проскальзывают самодовольные нотки, ведут беседу вахтенные штурманы встречных судов по каналам УКВ. Подбадривая друг друга легкими шутками и не всегда интересными для собеседника новостями, они со спокойным сердцем прерывают связь, как только разойдутся, приветственно просигналив кормовым флагом, случайно встретившиеся суда. У каждого своя дорога, у каждого свой замкнутый в себе мир.
Инстинктивно чувствуя неуместность дежурного оптимизма, Дугин, в то же время не решался взять обычный деловитый тон. Щадя и без того уязвленное самолюбие Богданова, он вначале ронял ничего не значащие слова и междометия. Затем, после особенно долгой паузы, небрежно бросил:
– Если ничего не помешает, ждите нас завтра.
– Есть такое дело, – с подчеркнутым безразличием отозвался Богданов.
Дугину показалось, что обе стороны достойно выдержали трудный экзамен. Теперь можно было спокойно перейти на повседневный треп.
– Может, фильмами обменяемся?
– Отчего ж? С превеликим удовольствием… Как вообще жизнь, Константин Алексеевич? Груз не слишком великоват?
– Ничего, выгребаем помалу… Кстати, вам сообщили, что пароходство дало добро?
– Как же, Константин Алексеевич, наслышан… Вопросы будут?
– По-моему, дело ясное, как полагаешь, Олег Петрович? Готовь все необходимое для буксировки, чтобы время зря не тратить, а мы завтра к ужину подгребем. Не оставим вас на произвол судьбы, не надейся.
– Добро… Если произойдут изменения, дам знать.
– Будем держать связь. Наши радисты, надеюсь, не подкачают. А мы с тобой давай часа через три побеседуем. Подходит?..
– Лучше в двадцать. А то у меня разговор с пароходством.
– По радиотелефону? Молодец твой радист. А мы вот никак не можем пробиться. Разрешишь, как говорится, поприсутствовать?
– Добро, если, конечно, Одесса не воспротивится.
По долгой паузе и ощутимой сухости интонации Константин Алексеевич догадался, что согласие было вынужденным. Вероятно, Богданов подумал при этом, что не только не имеет морального права отказывать, но и не в его власти вообще помешать кому бы то ни было настроиться на разговор.
– Вот и отлично, – закончил Константин Алексеевич. – Один ум хорошо, а два лучше. Итак, в двадцать выходим на связь. Всего тебе наилучшего. Конец, – он с облегчением перевел дух.
– Как только начнут говорить, кликните меня, – кивнул радисту. – Не мешает и нам с берегом посоветоваться.
– Удастся ли? – с привычным сомнением отозвался Шередко.
– Другие почему-то умеют, – многозначительно намекнул капитан. – Постарайтесь, может, и у вас получится… А теперь давайте Одессу.
Василий Михайлович переключил диапазон, не глядя на шкалу частот, подстроился к невнятным голосам, выплескивавшимся из шелестящей завесы. Для лучшей слышимости поменял гнезда приемных антенн.
С сочувственной улыбкой Дугин прислушивался к словам, которые изредка ронял хорошо различимый мужской голос. Да и не нужно было никаких слов, чтобы полной мерой ощутить радость, нетерпение и беспокойство, которые дышали в коротких всплесках, неожиданно вырывавшихся из шумового фона, смягченного торопливой и очень далекой женской речью. Женщина, казалось, не обладала никаким опытом в радиоперекличке, не понимала, что нужно говорить коротко и строго поочередно. Ее характерный тембр тонкой ниточкой трепетал где-то на другом конце мира по ту сторону ревущего занавеса. Она не умолкала ни на минуту и потому никак не могла слышать своего далекого друга, которому оставалось только молчать. Отчаянно и нетерпеливо звала его, слезно жалуясь, что он куда-то пропадает и решительно ничего невозможно понять.
– Вот дура баба! – в сердцах взмахнул кулаком Шередко. – Хоть бы хвылынку передохнула.
– А они иначе не могут, женщины, – снисходительно усмехнулся Дугин. – Им лишь бы излиться. Моя, кажется, огонь, воду и медные трубы прошла, а все никак не научится.
– Так человек же переживает.
– Ничего, успокоится. Разговор-то у них самый обыденный, – Дугин смущенно почесал переносицу. – Ну люблю, ну целую, и я люблю, и я целую, дома все благополучно, и у меня тоже, надеюсь быть такого-то… и далее в том же духе. Как-нибудь разберутся. Тут лишь бы голос услышать, – он затуманился и вздохнул. – Великая, конечно, штука этот радиотелефон. И как мы раньше без него плавали? Непостижимо… Только слышимость никудышняя.
– Так нам же самые плохие частоты достались.
– Да, к шапочному разбору пришли.
Несколько односторонний разговор, наконец, закончился и, как только возникшую паузу заполнил голос радиотелефонистки, Шередко поспешил включиться с вызовом.
– Одесса-радио, Одесса-радио, я теплоход «Лермонтов», – монотонно взывал он, не уставая повторять одну и ту же, похожую на заклинание фразу. Казалось невероятным, что невыразительный тихий зов может быть кем-то услышан, что он не затеряется в бескрайней бездне, наполненной сплошным грохотом, прорезаемой музыкой, разноязыкой речью, грозным завыванием каких-то потусторонних сил.
И тем не менее сигнал, испущенный полуторакиловаттным передатчиком «Лермонтова», не потонул в стонущем эфире. Заклинание и впрямь совершило чудо.
– Вас слышу, «Лермонтов», – вполне буднично отозвалась Одесса-радио. – До вас еще не дошла очередь.
– А долго ждать, дорогая Одесса? – торопливо спросил Шередко. – Мы уже месяц, как с домом не разговаривали, девушка.
– Перед вами еще три парохода.
– Часа два, не менее, – пояснил радист, оглянувшись на капитана.
– Все зависит от того, сколько вызовов, – кивнул Дугин. – Давай прикинем… Три парохода, и на каждом по меньшей мере пять гавриков жаждут пообщаться именно сегодня, итого выходит пятнадцать… Да, два часа – это только-только. А то и все три, потому что четыре минуты – это не разговор. Притом на вызовы какое-то время тоже уйдет… Может, Москву попробуешь?
Шередко нагнулся над таблицей, на которой были указаны часы и частоты московского радиоцентра. Соединиться с Одессой через Москву часто удавалось значительно легче, нежели напрямую. Иногда он ухитрялся дозваниваться через Ленинград, Туапсе, а то и Мурманск, достававший любую точку Северной Атлантики. Главное было влезть в рабочие часы, что не всегда выходило, так как разница во времени постоянно менялась. Когда «Лермонтов» работал в американских портах, она составляла семь часов, ныне сократилась до четырех.
– Есть еще пятьдесят минут, – объявил Василий Михайлович, – попытка – не пытка. Как?
– Давай-давай, – подбодрил Дугин, механически употребив емкое словообразование, вошедшее в сложный лексикон докеров полумира, и взял свою пару наушников. – Шестнадцать – тридцать два – сорок семь, – на всякий случай напомнил номер домашнего телефона.
Но его надеждам поговорить с женой не суждено было сбыться. Хотя Шередко, на удивление быстро, договорился с Москвой, абонент, как сообщила московская радиотелефонистка, не отвечал. Дугин сам слышал редкие гудки, чем-то напоминавшие ему цепочку пузырей, пробивающихся сквозь толщу воды из какой-нибудь донной трещины. Следуя друг за другом по колышущейся кривой, они лопались и исчезали, едва достигнув поверхности. Дома никого не было. Сделав мысленную поправку на одесское время, Константин Алексеевич попытался представить себе, где могут находиться его многочисленные домочадцы. Старший сын, конечно, отправился на Приморский бульвар, где останется до позднего вечера бренчать на гитаре в компании таких же беспутных сверстников; младший Алеша, скорее всего, гоняет на велосипеде по Пушкинской или Карла Либкнехта, а теща, возможно, пошла в кино, если, конечно, не жарит бычков во дворе на примусе послевоенных времен, который давным-давно стосковался по свалке. И только Лину никак не умел он вообразить вне домашней, до последних мелочей памятной, обстановки. Отгоняя вздорные мысли, заставил – себя думать, что она задержалась на работе и идет теперь, не спеша, по улице Ленина, мимо голых деревьев и пивных ларьков на перекрестках мостовых, круто сбегающих к морю.
– Имеем еще двадцать пять минут, Константин Алексеевич, – сказал Шередко. – Может, повторим вызов?
– Не стоит, – Дугин устало зажмурился. – Отложим лучше на завтра.
После чая всем командирским столом сели забить «козла». С ловкостью фокусника Горелкин перевернул футляр и смешал кости.
– У кого один-один? – обвел он партнеров придирчивым взглядом. – Шевелись!
– Трус не играет в «козла»! – пропел Беляй на мотив песни о хоккее и со стуком выставил дупель. Как обычно, он играл в паре с Загорашем против Горелкина и капитана.
Игра протекала в быстром, почти автоматическом темпе, благо партнеры понимали друг друга с полуслова. Появление бланша и двойной шестерки, которую Горелкин почему-то называл Гитлером, встречали смехом и день ото дня повторявшимися шуточками.
В неизменности почти ритуального распорядка кроется особая прелесть, по достоинству оценить которую можно только на судне, где все подчинено строгому чередованию одних и тех же действий, а иных развлечений попросту нет. Да и быть, в сущности, не должно, потому что рейс – это одна сплошная работа, рассчитанная на много дней. Немудреный «козел», таким образом, не только дарует минутную разрядку, но и позволяет спокойно поболтать на самые разнообразные темы. Конечно, такое возможно и за картами, но по традиции карты на советских судах не поощряются. Да и нет настоящего удовольствия без залихватского стука, от которого содрогаются переборки и помигивают подволочные плафоны.
– Ишь, разбежались! – Загораш спешно восстановил порядок, когда после очередного глубокого крена с полированной столешницы соскользнули кости. – Неиграцкая погода.
– Давай-давай, – поторопил его Горелкин. – Сейчас мы возьмем реванш за поражение «Черноморца»!
– Трус не играет в «козла»! – Беляй отдуплился с обоих концов. – Все, рыба! Это вам не футбол, Иван Гордеевич!
– Говорили с Богдановым? – спросил Загораш, начиная новый заход.
– Имел удовольствие, – постучав, о край стола, Дугин пропустил ход. – Просил его подготовиться.
– Пароходство же не подтвердило буксировку? – поднял глаза Горелкин. – Приказано только сопровождать.
– Так ли, Иван Гордеевич? – возразил Дугин. – Не подтвердило, но и не опровергло. Слыхал такое дипломатическое выражение?
– Выискивают другие возможности? – с надеждой поинтересовался Горелкин. – Что-нибудь светит?
– Там поглядим, – уклончиво протянул капитан. – Мало ли что может произойти… Чей ход?
Но закончить партию не пришлось. Позвонил Шередко и пригласил Дугина в радиорубку.
– Играйте за меня, – предложил капитан. Когда он пошел в рубку, в динамике уже рокотал, перекрывая помехи, незнакомый начальственный голос.
– Кто это? – спросил Дугин, усаживаясь рядом с Шередко.
– Какой-то Сергей Ильич.
– Сергей Ильич? – капитан на секунду задумался. – Может, капитан-наставник Терпигорев? Неужели шарманка так искажает? – он любовно погладил деревянное обрамление пульта. – Скажи, пожалуйста, Сергей Ильич!
– …все-таки не даешь оборотов? – продолжал расспрашивать Тернигорев. – Почему не попробуешь? Прием!
– Пробовали уже, Сергей Ильич, пробовали, – объяснил Богданов, – как только начинаем прибавлять, появляется вибрация, прямо всю душу вытрясает. Того и гляди пойдет вразнос.
– А ты пробовал довести до полного?
– Не пробовал, потому что боюсь, говорю тебе как на духу: опасаюсь, – уверенный голос Богданова, создавал в рубке почти стереофонический эффект. До «Оймякона» было уже недалеко, и радиотелефония действовала отлично. – Вибрация нарастает по экспоненте.
– Все равно, советую развить обороты. У тебя какие вкладыши в подшипнике, из бакаута?
– Так точно, бакаутовые, но это ничего не значит.
– Еще как значит, Олег Петрович!
– Ладно, Сергей Ильич, уговорил, попробуем еще.
– Наращивай, не бойся… На полном дашь двенадцать узлов, не меньше, помяни мое слово. Конечно, будет трясти, но не до потери сознания. Чем больше обороты, тем меньше вибрация. По себе знаю, да и с народом советовался. Не ты первый, не ты последний. Дождись Дугина и начинай. А то шторм надвигается, вам обоим уходить нужно.
– Кстати, Сергей Ильич, «Лермонтов» нас, возможно, слышит. Я говорил с Константином Алексеевичем.
Дугин счел момент подходящим и схватил трубку.
– Говорит теплоход «Лермонтов», – он нажал кнопку передачи… – Рад приветствовать тебя, Сергей Ильич, еще раз здравствуй, Олег Петрович! Я в курсе ваших переговоров.
– Привет, Константин, привет, – оживился Терпигорев, – можно сказать, пулька составилась, эдакий радиотреугольник… Как, одобряешь мой совет? Слыхал, на что подбиваю Богданова?








