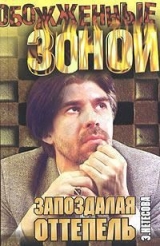
Текст книги "Запоздалая оттепель. Кэрны"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
Яков вздохнул, развел руками.
– Болезнь не спрашивает. Горе и радость входят в дома, не считаясь с нами. У меня тоже нет иного выхода.
Шурка вошла в дом веселая, улыбчивая. Завидев брата, насторожилась:
– Что стряслось?
Узнав, в чем дело, погрустнела. Глянула на Кузьму с мольбой. То ли просила подождать ее, то ли хотела, чтобы отговорил Якова увозить к сестре.
Собиралась Шурка медленно, неохотно. Словно ждала чуда, которое сорвет отъезд. Но его не случилось.
Вздыхая, шаркая ногами, вышла она из дома следом за Яшкой. А Кузьма, со сцепленными кулаками, снова остался один.
Уже утром пришла в дом соседка. Управилась с хозяйством. Молча, ничего не говоря и не спросив, ушла. А Кузьма взялся за работу.
Обил весь дом снаружи доской. Покрасил ее в небесно–голубой цвет. Покрыл крышу шифером. Заменил ступени крыльца и, поставив перила, покрасил. Утеплил входные двери.
Кузьма еще в день отъезда Шурки решил, что ремонтом дома изнутри он займется по возращении хозяйки. Но приехал Яков. Оглядел дом изумленно. Обошел его со всех сторон. Засыпал благодарностями. И, вернувшись, сказал:
– У тебя в запасе еще неделя. Хочешь, вернись домой. Или к своим. А можешь здесь пожить. Отдохни!
– Когда Александра вернется? – спросил Кузьма глухо.
– Это не от нас… Может, завтра все закончится, а может, через месяц… Конечно, Алена обречена. Но ведь своя… Кто еще ей поможет?
Кузьма решил остаться у Шурки. Перестелил полы, подбил потолок фигурной рейкой, закрепил перегородку. Все покрасил. И, помывшись в бане в одиночку, решил выспаться перед возвращением в стардом.
«Шурка моя! Ну почему нас завсегда отнимают друг у дружки? Почему мешают нам? Ведь ты такая!..» – вспомнил ее нагую в бане. И стало обидно, что жизнь все время ставит им подножки, словно испытывая на прочность обоих.
Он вошел в ее спальню. Здесь было тихо и уютно. Казалось, ничто не могло нарушить покоя хозяйки. Жила она трудно, однообразно, неспешно. А едва наметилась перемена, судьба снова посмеялась над обоими.
Кузьма спал в эту ночь особо крепко. Во сне явилась Шурка, какой была в бане. Он потянулся к ней. Но баба выдернула из–за печки кочергу, замахнулась, заорав:
– Пшел вон, паскудный козел!
Мужик даже проснулся. Огляделся вокруг. Никого. Мерно отбивают время ходики. Рассвет заглядывает в окно.
«Пора!» – встает Кузьма. Наскоро умывшись, оделся. И через пяток минут уже вышел за ворота дома.
В стардоме, едва Кузьма появился, старухи зашептались. Вздумали зазвать его на посиделки – вечерний чай. Больше всех старалась Глафира. Она решила доказать всем, что имеет еще в заначнике сухой порох, сумеет завлечь Кузьму. И назло всем выйдет за него замуж. Она поспорила с некоторыми, что через две недели Кузьма будет виться барбосом у ее ног.
Глафира даже косметичку навестила. Потом ей сделали прическу в парикмахерской. На маникюр не пожалела. Нарядилась в вишневое бархатное платье с глубоким вырезом. Надела колье. И пошла пригласить Кузьму на чай от имени всех женских особ стардома.
Кузьма, увидев Глафиру, невольно удивился.
«С чего это она вырядилась, как на собственные похороны? Ишь платье с вырезом! А глянь туды, единые морщины! Заместо сисек – порожние наволочки! Хоть бы прикрыла этот срам!» – подумал невольно и приметил в открытом разрезе платья ногу бабы. Морщинистая, худая, мосластая…
– Глафир! У тебя подол порвался. Иди зашей его! – показал на заголившуюся ногу.
Баба не смутилась:
– Дремучий ты, Кузьма! Нынче мода такая! И ее придерживаются все женщины.
– Так то женщины! Но не клячи Буденного! – не сдержался мужик.
– Нахал! Мужлан! Пещера первобытная! Гомо сапиенс! – взорвалась баба.
– Чего? Как ты меня обозвала?
– Человекоподобным дикарем!
– А ну и хрен с тобой! – отмахнулся равнодушно и спросил: – С чего зашлась? Я ж тебе ничего плохого не сказал. У нас, когда бабу с кобылой равняют, значит, шибко хвалят!
– Не кобылой назвал, клячей!
– А кляча та же кобыла. Только твоего возраста. Что тут обидного?
– Сам мерин!
– Так оно и есть, – согласился Кузьма.
– Тебя, как человека, все мы на чай приглашаем. А ты хамишь! Совсем одичал за отпуск.
Кузьме вспомнилась Шурка. Румяная, упругая, точеная. К ней прикоснуться – сплошное блаженство. Кожа – мягче бархата. Грудь высокая, как у девки. И такую вот королевну, отпаренную, обласканную, согласную на все, отняли прямо из рук. И увезли надолго к какой–то там сестре, даже не спросив его согласия. Тут не только озвереешь, думает Кузьма.
– А в чью честь этот чай? Что намечается?
– Ничего! Ты из отпуска вернулся. Для всех это событие! И даже радость.
– Да будет, Глафира! Без повода не собирались никогда. Мой отпуск – не причина. Скажи, что там стряслось? Иль взамуж отдаете? Иль в семью кого–то забирают?
– Угадал. Прасковью увозят домой. Не смогли без нее обойтись молодые. Так и сказали ей, что спать она станет на импортном диване – в отдельной комнате. И никто ей мешать не будет. Лишь бы было, как раньше. Все до единого за ней приехали. Просили прощения. Она и уступила. Завтра ее забирают от нас. Но ты не выдай меня, что рассказала наперед. Пусть Прасковья сама расскажет. Но приди, – попросила, подморгнув.
Кузьма, купив конфет, вечером пришел в столовую, где у телевизора в это время собиралось все ходячее население стардома.
Кузьму встретили улыбками.
Старухи вмиг усадили его за стол. Окружили пирогами, печеньем, булками. Каждая старалась угостить своим:
– Этот с малиной! Испробуй!
– Отведай с клубникой!
– А мой с земляникой! Ешь!
Кузьма растерялся:
– Да куда мне столько? Не одолею. Не поместится!
– А ты чаем запивай! Свежий, крепкий! С мятой! Всю усталость как рукой снимет! – уговаривали его.
– Эх, Кузенька! Голубочек ты наш сизокрылый! Последние посиделки с вами сижу. И заново домой вертают меня. К своим! Заскучались совсем. Целым кагалом уламывали воротиться. Я фасон держала. Не враз согласилась. Забиделась. Но куда деваться? Своя кровь. Прощать надо. Уезжаю. Завтра за мной приедут. Я уж вещи собрала. А жаль мне покидать нашу богадельню. Зазря ею люд пугают. Тут тепла и сердечности куда как больше, чем серед родни, – вытерла старушка набежавшую слезу.
– А вы нас проведывать будете, если захотите. Нам тоже станет скучно без вас! – подал голос щуплый седой старичок.
– Дома всегда делов полно. Как закрутишься с утра, до ночи не вырвешься. Где там навестить? На то уж сил не сыскать. Здесь вот и отдохнула серед вас. И душой. Как на курорте. Нынче до смерти стану помнить, что не перевелись у нас добрые люди, какие помогают жить, хочь и чужие. Серед своих лишь помираем, – вздохнула Прасковья и подвинула Кузьме пирог с черникой. – Откушай касатик! Дочка испекла. Для прощанья…
Кузьма послушно ел, не замечая, как усевшаяся напротив него Глафира отчаянно пытается привлечь к себе его внимание. Она громче других говорила и смеялась, рассказывала всякие анекдоты, которые не понимал Кузьма. Она тараторила без умолку. Обрывала, поддевала, стараясь выделиться. Но Кузьма ни разу не взглянул на нее.
Глафира начинала терять терпение. Ее бесило равнодушие Кузьмы. Она не привыкла терпеть фиаско.
– Кузьма! А почему вам родители дали такое старомодное имя? Вам подошло бы более звучное, оригинальное! Кузьма – это суконное прошлое! – задевала мужика.
– Нешто Глашка краше? – рубанул в ответ, даже не повернув головы, и снова заговорил с Прасковьей.
– Кузьма! А как вы провели отпуск? Где отдыхали? Вероятно, были на курорте?
Кузьма не ответил.
– Кузьма! Вы бывали когда–нибудь за рубежом?
– Да не трещи, как сорока! Какие там курорты, заграницы? Мне до их? Это ты, балаболка порожняя, моталась, как катях в луже, не зная, к какому берегу приткнуться! У меня работы прорва! А ты хреновину порешь про отдыхи. Когда сдохну, тогда все разом наверстаю. Теперь отстань! – отмахнулся, как от назойливой мухи.
Но столяр плохо знал бабу. Она не умела уступать и отступать. Если Глафира прицепилась, наметила себе что–то, то не оставляла своих притязаний надолго.
Вот и теперь, умолкнув на минуту, взялась снова:
– Кузьма! Каких женщин предпочитаете? Блондинок?
– Молодых! – ответил под общий смех.
– Ну это понятно. Все старики любят девушек. То старческая болезнь, – съязвила баба.
– Какой же Кузьма старик? Он мужчина в самом расцвете сил. Мне б его возраст и внешность, даю слово, флиртовал бы с двадцатилетними. Они как раз таких уважают теперь.
– Да разве они знают тонкости мужской души, толк в любви? Вертихвостки! То ли дело иметь отношения с изысканной дамой, умеющей ценить в мужчине личность, а не кошелек, как молодые. Что вы скажете на это, Кузьма?
Но столяр не слышал, ничего не ответил Глафире.
Побыв для приличия за столом не более часа, решил пойти домой, отдохнуть перед рабочим днем. Выйдя во двор, он сел на скамейку перекурить. И почти тут же к нему подсела Глафира.
– Кузьма, вам не скучно одному в своей келье? Может, скрасим ваше свободное время?
– Как? – не понял столяр.
– Пригласите меня к себе…
– На хрена? Я что, захворал? – выбросил недокуренную сигарету и пошел домой, ворча на баб, потерявших стыд.
Яков, только недавно вернувшийся в стардом, видел все из окна. Едва Кузьма вошел в коридор, он открыл двери, позвал к себе.
– Умерла сестренка. Завтра похороны. Меня не будет целый день. Надо помочь Сане. Она совсем с ног валится. Едва пережила свалившееся горе. Мы все очень дружны были. Теперь нас осталось двое. Как страшно терять родных, Кузьма! Словно часть самого себя. А ведь была семья… Что от нее осталось? Двое одиночек. Я так боюсь за Саньку! Ей, как и мне, всегда не везет. Она тяжело переживает каждую неудачу. Но как оградишь от них последнюю сестру?
– Семья ей надобна. Мужик! Помощник и заступник! Он сам ее беречь станет от бед.
– Муж станет беречь? Да не смеши! Таких на свете нет! Мужья лишь в гроб загоняют! – усмехнулся Яков.
– Ты это про меня? Так я свою берег поболе, чем ты сестру! Она ни дня не работала. Отказу ни в чем не знала. А вот твоя сеструха померла без мужика. Спроси, откуда хвори берутся? Их не заказывают. Иная королевной живет всю жизнь, пальцем не шевеля. Да только хлоп ее какая–нибудь болячка, и нет бабы. Другая по уши в земле всю жизнь. Босиком по грязи и снегу. Хлеба вдоволь не видит. Спит в сарае. А тянет до глубокой стари. Кто у нас нынче дольше всех живет? Нищие и бродяги. Им все по колено. Беды не грызут, заботы не точат. А богатые дохнут. Вот и суди сам, кто от чего и как оно лучше, – нахмурился Кузьма.
– Зря обиделся. Я не тебя имел в виду. Да и при чем здесь ты? Была у меня в юности любовь. Говорил тебе. Не насмелился. Другой опередил. Вчера ее могилу увидел. Оказалось, три года, как она ушла. А бывший муж могилу не навещает. После нее двух женщин сменил. Вот и болит память. Обидно. Хорошая девчурка была. Даже не верится, что никогда не услышу ее смех – звонкий и чистый. Не уберег он. А я – струсил. До конца себе не прощу.
– Ты это к чему каешься передо мной? Я не поп! – удивился Кузьма.
– Дурак ты, ей–богу! С чего б я каялся перед тобой? Разве виноват? Поделился, как с человеком! А ты о себе возомнил! – обиделся Яков.
– Не серчай. Не понял. Ну, ляпнул невпопад, не то! Прости. Но не стоит тебе свою душу рвать! Ну скажи, на что та девка выскочила взамуж за прохвоста? Иль слепой была? Почему тебя не увидела?
– Я повода не дал. Она даже не догадывалась ни о чем. За что ее винить? Да и кто заранее будущее знает? Вот и Шурка тоже замуж неудачно вышла. А есть в том ее вина? Негодяй попался. Я ли с ней не говорил… Просил повременить, приглядеться. Ведь не послушала!
– Сколько ей годов? – спросил Кузьма.
– Саньке? Сорок первый пошел!
– Господи! Я ж против нее старик! – ужаснулся Кузьма.
– Чудак ты, право! Ну какой ты старик? Глянь, как вокруг тебя бабы вьются! Только что от Глафиры избавился. А она баба опытная, видавшая виды, знает толк в мужиках. Вон как прицепилась!
– Срамница! Озорной была! Легко ей жилось, ничего не растеряла из бабьего, окромя молодости. Но она тут одна такая. Остальные – путевые! А Глафире что ни мужик – гостинец! Ей едино! Но кому нужна?
– Это верно, она такая одна у нас. Но говорим не о ней! О Саньке!
– Я ж и не думал, что промеж нами такая разница. Она дите против меня, обижался – с чего она мной погребовала? Понятно теперь!
– А знаешь, на сколько Василий был старше Саньки? На шестнадцать лет!
Кузьма чайную ложку из руки выронил, уставился на Яшку недоверчиво:
– Как же ты дозволил ей?
– Сама выбрала. Полюбила. И никого не стала слушать. Вышла за него, и все тут. Ушла к нему. В его дом. Но дело не в возрасте, Кузьма! Муж и должен быть старше. Так по логике жизни положено. Он опытнее и мудрее. Да и перебеситься успел. Сумеет жену в руках держать. А уж на сколько он должен быть старше, то от жизни. И Санька очень многих своих ровесников отвергла, когда они ей руку предлагали. Смеялась над ними. Никому не верила. И с самой юности говорила, что выйдет лишь за того, кто не меньше чем на десять лет старше будет.
– А Василий до Шурки был женатый?
– Официально – нет. Ну а связи, конечно, были. Далеко не мальчиком женился на сестре. Она его к прошлому не ревновала. Но и тут не состоялось. Не повезло. Другую нашел. Еще моложе Саньки. И живут… Иначе вернулся б! Так что ей виднее, кого выбрать, кого предпочесть… – глянул на озадаченного, погрустневшего Кузьму. – Знаешь, когда сестра умерла, в дом соседи приходить стали. С соболезнованиями, с сочувствием. И один стал возле Шурки увиваться. Ухаживать вздумал за сестрой. Нашел время, дурак! Я не вмешивался, знал: Санька сама за себя всегда постоять сумеет. И вдруг из кухни слышу – что–то упало. Поначалу подумал – кто–то по нечаянности гроб задел. Вбегаю. А там ухажер в углу валяется. Под глазом галоген горит. Спросил Саньку, что случилось, она ответила: «Вот этот кобелюка стыда перед покойницей не ведал, за сиську меня лапнул. Я ему и врубила малость. А мужик мой приедет, еще добавит гаду, чтоб не совался к семейным, говно! На похороны как на попойку пришел! Веселуху сыскал, козел! Теперь пусть уползает, гнида облезлая!» Ну, мужик и впрямь вскоре убежал. Я и спросил Шурку, о каком мужике она говорила. Уж не списалась ли со своим Василием? Она и ответила: «Да при чем он тут? Кому надобен кобель блукащий? Даже если и воротится, не приму его». И вот тут рассказала о тебе. Все. И про баню. И как я помешал вам. Плакала Санька, что сама судьба подножки ставит. И когда кажется – уже все, обязательно сорвется. Говорила мне, чтоб передал тебе, мол, когда сороковины по сестре пройдут, ждать тебя станет к себе. Не сказать этого я не мог. Санька не простила б мне. Хоть и сестра. Но сначала она – женщина. И ей виднее…
Кузьма светло улыбнулся:
– Значит, помнила! – Как наяву увидел бабу, прильнувшую к нему. С трудом заставила саму себя оторваться от Кузьмы. И мужик словно вновь почувствовал запах, тепло ее разгоряченного тела. – Нешто до сороковин и видеть меня не хочет?
– Не в том дело. Неловко мне говорить тебе о таком. Сам знать должен. Прийти можешь в любое время. Но мужчиной лишь на сорок первый день. Так по обычаю… Не мы его придумали, не нам менять. Навестить Саньку в любой день не грех. Да и надо бы тебе появиться, если на будущее что–то решил для себя. Сестра рада будет. Не звала разделить наше горе, потому что у тебя своего хватает. Это она так считает. А я советую – прийти к ней. Твоя поддержка теперь ей как нельзя кстати. Но это только совет, – предупредил Яков и, услышав в коридоре чьи–то шаги, выглянул в двери. – Вам что здесь нужно? – спросил Глафиру, оторопевшую от неожиданности.
– Кузьму ищу. Столяра. К нему пришла. Он в гости пригласил.
– Сейчас одиннадцать часов. О чем вы говорите? Кто ходит в гости в такое время? – спросил строго.
– Мы здесь не в монастыре. И хотя тут стардом, право на личную жизнь у нас никто не отнял. И вам на нее посягать не позволю. Пришла к Кузьме. Зачем – мое дело! Мы взрослые и самостоятельные люди. Закройте двери! Подсматривать за частной жизнью в вашем положении и возрасте просто неприлично! Лучше укажите, где он живет?
Но Яков закрыл двери, не дослушав:
– К тебе гостья!
– Слыхал! Да ну ее! Побарабанит и уйдет. Одно не пойму – зачем ты ее в стардоме держишь? Ведь здоровая баба. Она себе мужика сыщет и станет жить сама. Почему она здесь? Ведь кобыла! Наши бабки против нее былинки! – Услышал стук в дверь. Это Глафира просилась к нему в гости. – Слышь! Плоть у ней зудит. Течка началась. А она в стардоме! Смех, да и только!
– Ничего смешного нет! Давно ли она такой стала? Ты не знаешь, какой ее привезли. В туалет сама дойти не могла. Падала. Ведь она трижды пыталась руки на себя наложить.
– Глафира? Да закинь! Она целую деревню мужиков посилует до смерти, сама жить будет!
– Мне зачем тебе врать? – обиделся Яков.
– Ну, видать, с тоски иль с жиру, а може, по бухой с ума сошла. Но не от горя. Глафира не знает, что это такое.
– Не смейся, Кузьма. Знала и видывала всякое. И роскошь, и нищету. И голод! Да такой, что не приведись никому. Хлебнула до краев. А потому держу ее здесь, радуясь, что не хочет больше умирать, жизни радуется. И себя в ней человеком чувствует.
– Даже шибко! Вона как хамничала тебе! Права вспомнила, срамная!
– Не суди ее строго. Женщина сильна лишь своей слабостью.
– Ага! К мужикам! – хохотнул Кузьма.
– Хорошо хоть эту слабину имеет. А разве лучше быть такой, как Петровна – фронтовичка наша? Она и теперь в день по пачке махорки выкуривает. Сутками сидит не шевелясь. И плачет горькими. Ей ничто не нужно. И никто. Даже сама себе смерти просит все годы. А почему? Видно, оттого, что у нас, живых, тепла для нее не хватает. Вот и поехала психика вразнос. Она себя не только женщиной, человеком не считает. Поздно мы спохватились. Так уж лучше пусть будут Глафиры, со всеми недостатками, это живой человек, чем такие, как Петровна – вечный укор, живой покойник, отвергший саму жизнь. Она ни к кому не придет. Она всем чужая. Ее ничто не расшевелит. Но она – наша беда. Плохо, что за все годы лишь одну Глафиру сумели к жизни вернуть.
– О! Не приведись, если б все такие были! Тут старикам места не хватило бы! – смеялся Кузьма.
– Кстати, она ждет тебя в коридоре. Это невежливо. Выйди, поговори с ней. Но не унижай, не оскорбляй ее. Не души то, что нам не без труда удалось разбудить в ней, – попросил Яков.
Кузьма вышел в коридор. Глафира встала ему навстречу.
– Чего не спишь? – спросил ее.
– К тебе пришла.
– Зачем? Разве я звал? На что я тебе сдался? Да и ты мне без надобностев. Не позорь меня. Я недавно жену схоронил. Не могу ни с кем путаться. Ну что ты прицепилась? – услышал Яков из–за двери и поморщился грубоватой нескладности Кузьмы.
– Да мне не мужик в тебе нужен! Этого говна, стоит выйти за ворота, сколько хочешь! Хоть ведром черпай. Я к тебе как к человеку пришла. За каплей тепла. Ничего другого не желала. А ты грязное подумал. Мало что языком треплю! На нем мозолей не будет. Ничего грязного не позволила б себе. Разве вот в щеку твою колючую поцеловать бы! И все на том! Ни с тебя, ни с меня не убыло б! Мало что говорю про любови! Ты вспомни, сколько нам лет! О какой любви? Разве может гореть пепел? Вот так и в моей душе. Смеюсь, чтоб не заплакать. Брешу, чтоб правду не сказать. Неужели не понял? Не мужика в тебе уважаю! Человека!
– А за что? Ведь ты меня совсем не знаешь.
– Экий ты, право! Ну как не знаю, когда всякий день ты у нас на виду! Скольким помог, словом согрел, подсказал! Помнишь, внука Никаноровны отчитал! Бабка всю ночь за тебя молилась. Единственный ты заступился за нее. Пусть до внука не дошло. Зато у старухи на сердце тепло. Хоть кто–то пожалел, поверил, понял. Артему костыли сделал. Он теперь в столовую сам приходит. К телевизору. Не умирает заживо на койке. Всякий раз тебя благодарит. А Елизавете деревянный гребешок сделал. Помнишь, какой у нее поломался. Мужнин подарок. Плакала она. А ты ее слезы высушил. Нынче не нарадуется. Думала посидеть с тобой в тиши. Посумерничать. Поговорить иль помолчать о чем–нибудь. Может, и для меня теплину в душе своей раскопал бы. А ты – про грязь. Мужиков я видела. Человека не нашла. И в тебе… А жаль…
– Тебе–то чего недостает? Другие вовсе бедолаги. А ничего, крепятся втихомолку. Кто нынче счастлив? Да ни единого в свете не отыщешь. Но молчат. Никого не винят в бедах. В самих себе тепло откапывают не только для себя. И для других.
– Они сильнее меня.
– Выходит, не поизвелись человеки?
– Но мало их, Кузьма. Иначе почему так много горя?
– Да потому, что жизнь из радостев никому не дадена. Все в ней вперемешку. Оттого барахтается в ней человек, как муха в говне. Хочь и вонюче, а тепло! Вот и люди… Ищут крупицу тепла в жизни, как та муха…
– Хочешь сказать, держаться в ней не за что? Не стоит она того?
– Это кому как! Ежли ничего доброго не сеял в молодости, в стари что пожнешь?
– А коли все посевы поморозило, как тогда?
– Смотря какие посевы… Одни согреть, другие пересеять надобно!
– Поздно, Кузьма! Все поздно. И нет уж сил…
– Тебе ли на то жалиться? Ты еще можешь устроить свою жизнь и быть довольной.
– Кузьма! Помороженное поле скоро не родит. Вот так и я. Для новой жизни силы и тепло нужны. А у меня их. нет. Держаться из последнего устала. Даже сильные, молодые кони, случается, падают замертво на дистанции, не доскакав до финиша.
– А тебе на что скакать? Труси полегоньку. Оно так верней. И меньше сил уйдет. И финиш твой – не кормушка, не сбегит от тебя. Главное, не натереть холку и не сорвать пупок. У нас тут сколько хороших мужиков! Ты не гляди на седины и морщины – они все мужчины. И поверь, эти, коль сюда пришли, жизнью битые. Они сумеют другого понять. И защитить, как самого себя.
– Скажи, Кузьма, у тебя есть женщина?
– Тебе это на что?
– Передай ей от меня, что она самая счастливая на свете!
– С чего взяла?
– Да все оттого, что мы, бабы, в этом не ошибаемся. Вот только не каждой повезет, как ей. Ну да ладно. Прости, что время у тебя отняла…
…Лишь через неделю сумел Кузьма вырваться к Шурке. Предупредил Якова, чтобы тот не искал его, сказал, куда собрался. Тот головой крутанул, ответил коротко:
– Твое дело…
– Узнаю, понравилась ли ей отремонтированная изба. Иль что–то не по душе пришлось?
Шурка встретила Кузьму подвязанной черным платком, притихшая.
– Кузьма! – глянула она на него, улыбнулась вымученно.
– Ты что ж это? Вовсе прокисла тут? Совсем старухой сделалась! – обнял бабу.
– Алены не стало, Кузя!
– А ты ее слезами воротишь с погоста? Нет! Зато себя убиваешь заживо! Кому эдакое сдалось? Алене? Навряд ли, коль умной бабой была! Мне и подавно! А ну вытри сопли, слюни, кончай хныкать! Жизнь идет вперед рогами. Главное, задницу и бока от них сберечь! И кончай реветь. У всех свой срок в жизни отпущен, на горе и радости!
– Кузьма! Она моя сестра!
– И что теперь? Я жену похоронил. Если убивался б, как ты, тебя бы проглядел! А она сама, своими руками, меня к тебе толкнула! Коли б знала, уссалась бы от злости. Но ее нет! А ты – вот она! Глянь, какая красивая! Краше тебя в целом свете нет! Я люблю тебя! – вырвалось само собой, неожиданно для самого Кузьмы.
– Потом об этом. Нынче – грех!
– Кто удумал? Балаболки порешили? Старые шишиги? Нельзя до сороковин ни о чем говорить? Да у них вся судьба – сплошной погост и похороны! Им дай волю, в слезах и соплях утопят! А за углом с ближним соседом грешат. Либо с мужиком своей лучшей подруги! Иль, скажешь, сбрехал?
– Не знаю! – опустила голову баба.
– Не слухам их, кикимор заугольных. Им про любовь и в праздники никто не скажет. Разве только черт, да и то с перепою, спутав с ведьмой. А ты у меня – светлое солнышко, радость моя!
Шурка зарделась, выдохнула тяжелый ком.
– Разденься. Чего мы тут стоим? – предложила мужику пройти в комнату. – Помяни Алену! – попросила тихо.
– Царствие небесное рабе Алене! Упокой Господи ее душу! – перекрестился Кузьма, выпил рюмку водки. И спросил: – Сама–то как?
– Креплюсь!
– Ремонт увидела? Иль не до него еще?
– Свою избу не узнала. Мимо прошла.
– С чего?
– Дворец! Моя камкой была!
– Изба должна быть под стать хозяйке. Иди ко мне! Присядь рядом! – обнял Шурку. Та разрыдалась у него на плече. – Ты чего?
– Прости. Не смотри. Это пройдет…
Кузьма понял. Ему давно нужно было прийти сюда. Не дать бабе застрять в горе в одиночку, встряхнуть, отвлечь, заставить увидеть жизнь и захотеть жить, вот так, как в свое время Максим пришел в больницу навестить Зинку. «А ведь прав был зять», – подумалось мужику.
– А ну, где мы тут закопались? – вытащил платок, вытер лицо Шурки. Поцеловал бабу. Та вначале попыталась отвернуться, указав на портрет сестры. Кузьма отвернул его лицом к улице. И схватил Шурку внезапно, крепко. – Моя?!
– Твоя! Но не сейчас! Нельзя теперь!
– Знаю. Я не о том! Дождусь! А ты не скажешь – уходи?!
Шурка прильнула головой к его груди молча.
– Бесшабашный ты мой, нетерпеливый. Не обижайся. Но пусть пройдут сороковины. Ведь и говорить теперь о таком нельзя. Поверье плохое ходит в людях. Мы не умнее стариков.
– А разве старые супротив жизни были? Почему такого не слыхал? Ведь мы с тобой живые! – не выпускал бабу из рук. Та притихла, постепенно стала успокаиваться. – Шурка! А я тебя все время вспоминал. Каждый день. Тою – в бане. Во сне видел.
– Озорник ты, Кузьма, – рассмеялась тихо.
– А чего скрывать? Да ежли б не ты, я в стардоме давно б мохом оброс серед моих гвардейцев Кутузова! У нас они все как на подбор! И старухи! Глянешь – и на погост добровольно без оглядки побегишь! Одна ты и светила мне в душу звездочкой. Огонек мой, ласточка моя!
Шурка дышать боялась. Таких слов она не слышала никогда, ни от кого.
– Ну кто я без тебя? Дерево без листьев. Небо без солнца. Ты моя радость и жизнь, – гладил плечи, голову Шурки. Целовал ее. Видел, как ожили, заискрились глаза, губы прильнули к губам. И руки женщины вначале робко, потом уверенно обвили его шею.
Шурка уже не оглядывалась на портрет. Кузьма сорвал черный платок с головы бабы. Расстегнул кофту. И…
Кто–то требовательно постучал в окно.
– Соседка! Что ей надо? – подвязалась, застегнулась, выглянула на крыльцо.
– Дай соли! Чего закрылась? Иль спала? Тебе еще нельзя запираться. Нехай все горе с избы выйдет! – поучала баба.
Кузьма сидел, злясь на нее, ругая последними словами.
Соседке очень хотелось заглянуть в комнату. Но Шурка не пустила.
– А чего это Алена на улицу с портрета глядит? Чего это ты ее отвернула от себя? Рано покуда! – поучала Шурку.
Та теснила ее к порогу, говоря, что болит голова и она хочет отдохнуть…
Баба ушла. А Шурка, пристыженная, повернула портрет покойной лицом в дом. Кузьма понял – придется смириться и ждать…
…В стардоме, куда он вскоре вернулся, царил переполох. Такого Кузьма не видел с самого начала. Двор забит людьми. Плач, брань, смех, угрозы – все перемешалось в гулком шуме.
Чужие, незнакомые люди роились у входа в стардом. Одни требовали директора, другие уговаривали или бранили рыдающих старух, привезенных сюда на всю оставшуюся жизнь.
Вокруг сновала стайка горластых ребятишек, уже игравших в догонялки и в прятки. Они лишь иногда оглядывались на взрослых, следя за тем, чтобы, уезжая, родители не забыли прихватить их домой, не оставили бы преждевременно вместе со стариками в богадельне.
– Гришка! А вы свою бабку чего сюда свезли? – спросила рыжая конопатая девчонка щербатого мальчишку.
– Не знаю. Мамка так захотела. Мне она не мешала. Мы с ней дружили. А мамка спорилась. Да кто их поймет? Я к бабке приходить буду. А когда вырасту, заберу к себе насовсем.
– А наша – пьяница! Так все ее зовут. Она по дому ногами не ходит. Только на карачках. Ползает целый день, потом головой в угол воткнется, бодает его. Если не оттащат, там заснет. Когда проснется, ползет на кухню. Там у нее бражка запрятана повсюду. Опять налижется – и бац на карачки. Она уже разучилась ходить нормально. Видишь, опять ползет. Ночью я ее пугалась. Папка и не выдержал…
– А наша со всеми перегрызлась. И дома, и с соседями. Она Степана помоями облила. Даже милиция к ней приходила. Бабка сказала им: жаль, что все помои на Степку извела…
И только двое ребятишек сидели молча, тесно прижавшись к полнотелой, аккуратной бабуле, обняв ее, недобро смотрели на мать, худосочную, злую бабу, требовавшую директора громче всех.
Старушка сидела на скамейке спокойно, гладила плечи, головы внучат, уговаривала их не печалиться, не серчать на мать, слушаться ее во всем и не выскакивать из дома раздетыми. Она не плакала. Молча наблюдала за происходящим.
– Бабуленька! Как же мы станем жить без тебя? – всхлипнула девчонка, глянув в улыбчивое лицо старушки.
– А ништяк. Обвыкнетесь понемножку. Мамка вам будет книжки читать. Она их много накупила. А надоедят – телевизор включите! Но вязать не бросай. И готовь. Сама. Там у меня в тетрадке все прописано. Для тебя. Ну и ты, Колюнька, в огороде мамке помогай. Одной ей тяжко будет…
– А я с тобой останусь. Не хочу домой! – сопнул мальчишка, прижавшись цыпленком к бабкиному боку.
– Нельзя, голубочек мой. Рано тебе в богадельню. Тут едино негожие доживают. Ты еще и не жил…
Кузьма даже приостановился, услышав такое. Глянул на бабку, хотел отчитать, но язык не повернулся.
В глазах ее застыла внутренняя боль, которую еле сдерживала, чтобы ничего не поняли и не увидели дети. Их она берегла…






