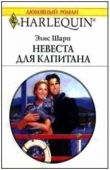Текст книги "Пепельное небо"
Автор книги: Джулиана Бэгготт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Лаборантка благодарит охранников и усаживает Партриджа в небольшое кожаное кресло за столом отца.
– Вот она, – произносит отец. – Плохая тенденция в поведенческом индексе. Сопротивляемость.
Лаборанты слушают, как трусливые зайцы, запуганные отцом, который по-прежнему не обращает внимания на сына. Ничего нового. Партридж привык к тому, что отец его игнорирует.
Мальчик оглядывает кабинет, думая о том, зачем же его сюда привезли. Он замечает несколько первоначальных чертежей Купола, висящих в рамках над отцовским столом. Ну, не рисуется же отец перед ним, пытаясь что-то доказать. Партридж и так знает, что отец очень умен и пользуется уважением – и порой даже внушает страх.
– Все остальные его индексы в порядке. Почему поведенческий шалит? – Отец обращается к лаборантам: – Есть у кого-нибудь идеи?
Партридж постукивает пальцами по ручкам кресла. Отец зол и яростно трясет седой головой. Партридж замечает, что злость вспыхнула в отце впервые с того самого дня, как похоронили Седжа. Брат умер после завершения кодирования и принятия в ряды Спецназа, нового отряда элитных войск, сформированного из шести недавних выпускников Академии. Отец называет это «трагедией», как будто точно найденное слово может каким-то образом сделать смерть более приемлемой.
Лаборанты переглядываются и отвечают, что «идей пока нет». Отец пристально смотрит на мониторы, нахмурив брови. Внезапно он бросает взгляд на Партриджа, как будто только заметив сына. Жестом руки он отпускает лаборантов. Их уход похож на бегство – они торопливо выскакивают за дверь. Похоже, что они покидают кабинет отца с чувством облегчения. Может, они его втайне ненавидят? Но Партридж не может их в этом винить.
– Ну что, как дела? – спрашивает Партридж, теребя лямку рюкзака.
– Тебе интересно, зачем я тебя сюда вызвал?
– Запоздалые поздравления с днем рождения? – пожимает плечами Партридж. Его семнадцатый день рождения был почти десять месяцев назад.
– День рождения? Ты разве не получил от меня подарок?
Партридж пытается вспомнить, что это было. Дорогая ручка с фонариком на одном конце, «чтобы ты мог заниматься и в позднее время и опередил своих одноклассников», как было написано в записке. Отец наверняка не помнит этого подарка. Партридж даже не уверен, что сама записка была написана отцом, ведь он не знает его почерка. Когда он был ребенком, мама писала записки с рифмованными загадками, которые помогали ему найти место, где спрятан подарок. Она говорила, что традицию стишков-загадок и подарков заложил отец, когда они еще только встречались. Партридж запомнил это, потому что мысль о том, что когда-то они любили друг друга, удивила его. Теперь все не так. Он даже не может вспомнить, пришел ли хоть раз отец на его день рождения.
– Вопрос, по которому я тебя вызвал, никак не связан с твоим днем рождения.
– Значит, отцовский интерес к моей учебе. Сейчас ты должен спросить, научился ли я чему-нибудь важному.
Отец вздыхает. Наверное, с ним никто больше не разговаривает в таком тоне.
– Ты научился чему-нибудь важному? – автоматически спрашивает он.
– Мы не были первыми, кто додумался до идеи Купола. Это доисторическая находка. Ньюгрендж, Даут, Мейсхау и все такое.
Отец садится в скрипнувшее кресло.
– Я помню, как впервые увидел изображение Мейсхау. Мне было лет четырнадцать, и я читал книжку про археологические раскопки. – Отец замолкает и складывает очки. – Это был способ создания вечной жизни. Наследие. Это навсегда запомнилось мне.
– Я думал, что наследие человека – это дети.
Отец пристально смотрит на Партриджа, словно тот появился здесь только что.
– Ты прав. Поэтому я и вызвал тебя. Мы обнаружили сопротивление твоей ДНК к некоторым аспектам кодирования.
Мумии. Что-то не так.
– Каким аспектам?
– Тело и разум Седжа воспринимали кодирование без каких-либо усилий. Вы близки генетически, но…
– Каким аспектам?
– Поведенческим, что очень странно. Сила, скорость, сообразительность – все физические аспекты в порядке. Ты чувствуешь побочные эффекты? Психические или физические? Потеря равновесия, странные мысли или воспоминания?
Да, воспоминания есть. Партридж не хочет говорить отцу, что стал вспоминать мать.
– У меня мороз пошел по коже, когда мне сообщили, что ты меня вызываешь.
– Интересно, – отвечает отец, на долю секунды задетый комментарием.
Партридж показывает на висящие рамки.
– Первоначальные чертежи? Совсем новые.
– Это подарок. За двадцать лет службы.
– Симпатичные. Мне нравятся твои архитектурные проекты.
– Это спасло нас.
– Нас?.. – почти неслышно повторяет Партридж.
Семья из двух – теперь только из двух – человек, раздираемая проблемами.
И вдруг, как если бы это логически вытекало из разговора, отец спрашивает Партриджа о матери. О времени незадолго до Взрыва. Когда за несколько недель до гибели она возила Партриджа на пляж. Странная поездка, где они были только вдвоем.
– Твоя мать давала тебе какие-нибудь таблетки?
Почти наверняка с другой стороны настенного монитора за ними кто-то наблюдает. Выглядит совсем как зеркало-обманка. А может, и нет. Может, отец жестом выгнал и их. Но они все равно все записывают: камеры висят в каждом углу.
– Я не помню. Я был маленьким, – отвечает Партридж, хотя он помнит маленькие голубые таблетки. Они должны были лечить простуду, но только усиливали ее. Он дрожал в лихорадке под одеялами.
– Она взяла тебя на пляж. Помнишь? Совсем незадолго до… А твой брат не поехал, у него был важный матч.
– Седж любил бейсбол. И еще столько всего.
– Я не о брате с тобой говорю.
Отец не может произнести имя старшего сына. С момента его смерти Партридж даже пытался считать, сколько раз отец назовет его по имени, и хватило бы пальцев одной руки, чтобы перечислить. Мать погибла, помогая в день Взрыва выжившим добраться до Купола. Отец называл ее святой и мученицей и постепенно перестал говорить о ней вообще. Партриджу запомнилось, как отец сказал: «Они ее не заслужили. Они утянули ее за собой на дно». Это было во времена, когда отец называл выживших «нашими меньшими братьями и сестрами». Лидеров Купола – вместе с собой – он называл «добрыми покровителями». Подобные выражения до сих пор используются в публичных обращениях, но в повседневной речи тех, кто остался за пределами Купола, называют «Несчастными». Партридж много раз слышал, как отец употребляет этот термин. И он должен признать, что сам провел большую часть жизни, ненавидя этих Несчастных, утянувших мать за собой. Однако позже, на лекциях Глассингса, он не мог не задаться вопросом: что же случилось на самом деле? Глассингс намекал, что историю можно изменить. Для чего? Чтобы события выглядели более привлекательно.
– Я говорю о таблетках, которые давала тебе мать, пока вы отдыхали.
– Господи, я не помню! Что ты хочешь, мне было восемь лет!
Как только он это говорит, в воображении сразу возникает тот день. Партридж вспоминает, как они обгорели, хотя было пасмурно. И потом, когда ему стало плохо, мама рассказывала ему сказку про королеву-лебедь с черными лапками. Он помнит маму. Вьющиеся волосы, мягкие руки с длинными ладонями, похожими на птичьи крылья. А еще мама пела песенку про королеву-лебедь. С мелодией, рифмами и особыми движениями. Мама говорила: «Когда я пою тебе эту песенку, крепко держись за кулон!» Края кулона были острыми, но Партридж не разжимал ладони.
Однажды, уже под Куполом, особенно скучая по матери, Партридж рассказал этот стишок Седжу. Тот насмешливо ответил, что это сказка для девочек и для детишек, которые верят в фей. «Партридж, пора повзрослеть. Она умерла. Ты ведь не слепой».
– Мы собираемся продолжить исследования, – продолжает нагнетать атмосферу отец. – Большой комплекс исследований. Тебя будут колоть иголками, как подушку для булавок.
Это звучит как угроза: подушка для булавок.
– Нам очень поможет, если ты расскажешь, что тогда происходило.
– Я не могу. Я бы с радостью, но я просто не помню.
– Послушай меня, сынок. – Партриджу кажется, что слово «сынок» звучит как упрек. – Тебе нужно настроить свои мысли на правильную волну. Твоя мама…
У отца утомленные глаза и сухие губы. Он как будто говорит с кем-то другим, таким тоном, каким обычно говорит по телефону. Алло, Уиллакс слушает. Отец скрещивает руки на груди. Вдруг, всего на миг, его лицо теряет решительное выражение – видимо, он что-то вспоминает.
– Все время какие-то проблемы с твоей матерью.
Они обмениваются взглядами. Партридж ничего не говорит, но повторяет про себя слова отца. Все время. Так не говорят о тех, кто умер.
– Она была немного не в себе. – Отец будто поправляет неосторожно брошенную фразу. Затем складывает руки на поясе и чуть наклоняется. – Я, кажется, расстроил тебя.
Это еще более странно. Отец никогда не говорит о чувствах.
– Нет, все нормально.
– Давай сфотографируемся, – предлагает отец, вставая. – Сейчас попрошу кого-нибудь. Давно мы не фотографировались, даже не помню, когда в последний раз.
На похоронах Седжа, наверное.
– Поставишь фото в спальне, не будешь скучать по дому.
– Я и не скучаю. – Партридж не может называть домом то место под Куполом.
Отец вызывает лаборантку, женщину со странным носом и челкой, и велит ей взять фотокамеру. Под недавно повешенными чертежами Партридж и отец встают рядом друг с другом, как в строю.
Вспышка.
ПРЕССИЯ
В ПОИСКАХ
Даже за квартал от рынка Прессия чувствует запах – протухшее мясо и рыба, гнилые фрукты, уголь и сигаретный дым. Прессия легко различает вертлявые тени торгашей, узнавая их по кашлю. Иногда по нему можно понять, когда человек умрет. Есть много разных видов кашля. Одни решительно грохочут. Другие начинают и заканчивают со свистом. Третьи заходятся в кашле и не могут остановиться. Четвертые отхаркивают мокроту. Есть и такие, которые заканчивают кашлять с хрипом из-за жидкости в легких – смерть уже ждет их на пороге, как говорит дед. Сам он грохочет днем, но ночью, во сне, кашляет с хрипом.
Прессия держится середины улицы. Проходя ряд бараков, она слышит ругань, громкий мужской рык, металлический лязг. Визжит женщина, начинает плакать ребенок.
Когда Прессия добирается до рынка, она видит, что лавки уже закрываются. Продавцы уносят металлические вывески с дороги под ржавые крыши и навесы. Они закрывают прилавки раскисшим от сырости толстым картоном, загружают свои товары в хромые тележки и накидывают на прилавки истрепанные тенты.
Прессия проходит мимо кучки людей – круг тесно стоящих спин, шипение, время от времени чей-то вскрик, затем снова шепот. Девушка бросает беглый взгляд на их лица, пестрящие металлом, блестящим стеклом и шрамами. Рука одной женщины будто завернута в кожаный рукав.
Затем Прессия замечает группу детей чуть младше ее. Близняшки, обе с покалеченными, ржавыми ногами, крутят веревочную скакалку для третьей девочки с изувеченной рукой. Девочки напевают:
Раз, два, три, четыре, пять,
Чистый к нам пришел опять!
Шесть, семь, восемь, девять, десять,
Мы должны его повесить!
Из кишок сплетем кушак,
Из волос сплетем канат,
Мыло сварим из костей,
Мыться позовем друзей!
Раз, два, три, четыре, пять,
Чистых мы идем искать!
Чистыми называют тех, кто живет в Куполе. Дети зациклены на Чистых и упоминают их во всех своих стишках. Прессия знает эту считалку наизусть. Она прыгала под нее, когда была маленькой, и мечтала о том самом мыле из костей. Какая глупость! Интересно, эти детишки тоже мечтают об этом? Каково это – быть Чистым? Ощущать себя Чистым, выглядеть как Чистый, избавиться от шрамов, снова иметь руку вместо куклы?
Среди играющих детей – маленький мальчик с далеко расположенными друг от друга глазами, настолько далеко, что они находятся практически по бокам его головы, как у кролика. Он присматривает за двумя шампурами обуглившегося мяса, балансирующими над огнем в железной бочке. На шампуры нанизаны маленькие, размером с мышь, зверушки. Эти дети были младенцами во время Взрыва. Рожденных до Взрыва называют Старенькими, а тех, кто родился после, – Новенькими, которые, по сути, должны были стать Чистыми, но вышло иначе. Мутация, вызванная Взрывом, поселилась глубоко в генах выживших. Дети рождались не Чистыми, а со следами дефектов родителей. С животными было то же самое. Они начали появляться с еще более сложными мутациями, став смесью людей, животных, земли и вещей.
Дети ее возраста делятся на тех, кто помнит жизнь до Взрыва, и тех, кто не помнит. Часто после знакомства дети играют в «Я помню», обмениваясь воспоминаниями как валютой. Чем более личное воспоминание, тем большее доверие собеседнику это означает. Тем, кто слишком мал, чтобы помнить что-то, одновременно и завидуют, и сочувствуют. Прессия часто притворяется, что помнит больше, чем на самом деле. Она смешивает воспоминания других людей со своими собственными, но беспокоится, что ее воспоминания могут затеряться среди множества чужих.
Она переводит взгляд с одного лица на другое. Огонь отбрасывает причудливые тени, освещая осколки металла и стекла на их лицах, подсвечивая яркие шрамы, ожоги и рубцы на коже. Одна из девочек смотрит на нее. Прессия ее знает, но никак не может вспомнить, как ее зовут. Девочка спрашивает:
– Хочешь кусочек Чистого? С хрустящей корочкой!
– Нет, – отвечает Прессия громче, чем хотелось бы.
Дети смеются, все, кроме мальчика, который следит за огнем. Он переворачивает шампуры аккуратно и мягко, словно работает с заводным механизмом, с чем-то вроде инструмента или мотора. Мальчика зовут Микель. Он не такой, как другие дети. В нем есть что-то несгибаемое. Прессия не сомневается, что он много раз видел смерть и давно остался сиротой.
– Точно не будешь, Прессия? – спрашивает он очень серьезно. – Перекуси немного, ведь скоро тебя заберут.
Микель всегда довольно резок, хотя обычно не позволяет себе грубости по отношению к ней, потому что она старше.
– Спасибо за предложение, – отвечает она, – но мне надо идти.
Микель грустно смотрит на нее. Может быть, он ждал в ответ крика, что никто ее не заберет. В любом случае, ей жаль мальчика, потому что его жестокость говорит скорее о его слабости и ранимости.
Вскоре впереди она замечает Кеппернеса, о котором говорил ее дед, но не сразу узнает его. Он как раз в возрасте ее отца, как она его себе представляет. Закатав рукава, Кеппернес швыряет пустые коробки в тележку. Его руки, инкрустированные стеклом, худые и жилистые. Он бросает взгляд на Прессию и отворачивается. В его корзине еще остается несколько нераспроданных клубней. Прессия наклоняет голову, пряча шрамы под волосами.
– Как поживает ваш сын? Его шея зажила? – спрашивает Прессия в надежде, что он вспомнит, что все еще должен им.
Кеппернес встает и с гримасой потягивается. Один его глаз блестит оранжево-золотистой пленкой – катаракта от радиационного ожога. Это в порядке вещей.
– Ты ведь ребенок хирурга, да? Внучка? Тебе не стоит здесь больше ходить. Слишком взрослая!
– Нет, – отвечает Прессия, защищаясь, – мне всего пятнадцать.
Она притворяется, что ежится от ветра, хотя на самом деле пытается выглядеть меньше и младше.
– Ну и что? – Кепернесс останавливается и пристально смотрит на девушку. Она фокусируется на его здоровом глазу, единственном, которым он может видеть. – Я рисковал своей жизнью из-за этих клубней. Накопал их прямо у владений УСР! У меня совсем немного осталось.
– У меня есть уникальная вещица. Ее может позволить себе только человек с хорошим достатком. Ну, вы понимаете, она не для всех.
– И что же это?
– Бабочка, – отвечает Прессия.
– Бабочка? – хмыкает он. – Не так уж много бабочек осталось.
Это правда, они очень редки. В прошлом году Прессия видела несколько мотыльков, маленьких вестников возрождения.
– Это игрушка.
– Что?
У детей больше нет игрушек. Они играют свиными мочевыми пузырями и вышитыми куклами из тряпок.
– Дай взглянуть!
Она мотает головой.
– Нечего вам смотреть на нее, если не собираетесь покупать!
– Дай я только посмотрю!
Прессия вздыхает и притворяется, что делает это с неохотой. Она вытаскивает бабочку и протягивает ее мужчине.
– Ближе, – требует Кеппернес.
Сейчас она понимает, что оба его глаза иссушены Взрывом, просто один сильнее, чем другой. Прессия говорит:
– У вас в детстве наверняка были игрушки.
Он кивает и ворчит:
– И что это меняет?
Она заводит бабочку и сажает ее на тележку. Насекомое расправляет крылышки.
– Интересно, как это – расти в то время, когда росли вы. Праздновать Рождество и дни рождения.
– Когда я был ребенком, я верил в волшебство. Ты можешь себе такое представить? – говорит Кепернесс, наклоняя голову и уставившись на игрушку. – Сколько ты за нее возьмешь?
– Обычно я долго торгуюсь. Это же напоминание о прошлом. Но с вас… С вас я возьму клубни, те, что у вас остались, – сказала она.
– По рукам.
Он протягивает ей корзину, и она вытряхивает клубни к себе в сумку, затем протягивает ему бабочку.
– Я отдам ее своему сыну. Он долго не протянет, – говорит Кеппернес.
Прессия уже разворачивается, чтобы уйти. Она слышит тиканье заводного механизма, затем шелест крыльев.
– Порадуется хоть чуть-чуть.
Нет, думает она. Продолжай идти. Не спрашивай. Но она помнит его сына, милого и выносливого мальчика. Он не плакал, когда дед без анестезии зашивал ему шею.
– С ним что-то случилось?
– Его атаковал холем. Сын охотился за полями, рядом с пустыней. Он увидел моргающий глаз холема, а тот стал затягивать его в песок. Мать была рядом и вытащила его. Но холем успел его укусить, и теперь его кровь заражена.
Холемы – это те, кто смешался с землей; в городах они смешались с взорванными зданиями. Многие из них умерли сразу после Взрыва, потому что остались без ртов. У некоторых рты есть, но отсутствует пищеварительная система. Кто-то выжил, ибо в них было больше от камня, чем от человека.
Некоторые считают, что холемы, сросшиеся с животными, могут быть полезными, работая в паре со зверьем. Когда Прессия роется в развалинах, она все время боится, что какой-нибудь холем выскочит, схватит ее за ногу и утащит. Она никогда не ходит туда, где напали на мальчика. Именно там живут те, кто смешался с землей. Прессия слышала, что холемов можно увидеть и в пепельном песке Мертвых земель. Многие из выживших, предчувствовавшие Взрыв, скрылись в лесах, но их проглотили деревья.
Укус – это жуткая смерть. У ребенка идет пена изо рта, и он бьется в судорогах. Прессия лезет в сумку за клубнями.
– Я не знала, – говорит она. – Слушайте, оставьте себе и клубни, и бабочку.
– Нет уж, – отвечает Кеппернес, кладя бабочку во внутренний карман. – Я недавно видел твоего деда. Он не то чтобы хорошо выглядит, а? У нас у всех проблемы. Сделка есть сделка.
Прессия не знает что ответить. Кеппернес прав. У каждого есть близкий, который либо умирает, либо уже умер.
– Хорошо, – соглашается она, кивая. – Мне очень жаль.
Он разворачивается, чтобы снова начать загружать свою тележку, и качает головой.
– Нам всем очень жаль.
Кеппернес отодвигает тяжелый кусок рогожи и накрывает ею свои товары. Пока он не видит, Прессия переворачивает свою сумку, и пара клубней скатывается обратно в корзину.
Она быстро разворачивается и уходит. Она все равно не сможет их есть, зная, что сын Кеппернеса умирает и что она взяла больше, чем обычно берет за свои работы.
Теперь нужно поискать детали для поделок. Кеппернес прав. Ее дед болен. Долго он не протянет. Что, если ее заберут? Может, стоит убежать пораньше? Нужно сделать как можно больше игрушек, чтобы дед мог обменивать их и жить на это.
Прессия ускоряет шаг, однако в конце рыночной площади приостанавливается. На низкой кирпичной стене висит новый список УСР. Холодный ветер треплет листок. Какие-то торговцы с грохотом везут тележки по улице. Девушка ждет, пока они пройдут мимо, и подходит ближе к списку. Она расправляет листок и приближается еще больше, потому что шрифт очень мелкий, затем пробегает взглядом по списку и видит его.
Имя ПРЕССИЯ БЕЛЗ и свою дату рождения.
Она проводит пальцем по буквам.
Не стоит больше обманывать себя. Документы с ее именем не потеряются.
Прессия отходит назад, спотыкается о торчащие кирпичи и сворачивает на первую попавшуюся улицу.
Воздух холодный и сырой. Девушка поднимает ворот свитера, затем вытягивает рукава и засовывает в них руки, как в муфту. Она всегда так делает, когда нервничает. Маленькая иллюзия уюта.
Среди руин еще видны остовы некоторых зданий, внутри них люди соорудили подобие жилищ. Но Прессия направляется к дому, который полностью снесен взрывом. Такие места лучше всего подходят для поиска. В прошлый раз она нашла там очень красивые штучки – проволоку, монеты, металлические скрепки, ключи, – но зола развалин таит в себе опасность. Многие холемы и некоторые человекоподобные звери выкопали себе дома в золе и разводят там костры, готовя на них то, что поймали, и пуская клубы дыма. Она представляет сына Кеппернеса там, в Мертвых землях, глаз, выглядывающий из песка около ноги, затем руку, которая вырвалась словно из ниоткуда, утаскивая его за собой. Прессию некому спасти. Если ее схватят и утащат, звери будут питаться ею, пока от нее ничего не останется.
Дыма не видно, и поэтому Прессия осторожно ступает на кучу качающихся камней, аккуратно нащупывая себе путь и высматривая проблески металла или маленькие кусочки проволоки. Надежды что-то отыскать мало, однако на этот раз удается найти тонкую металлическую трубку и то, что когда-то было гитарными струнами и шахматными фигурками.
Может быть, она сможет сделать стоящий подарок деду на память. Слово «сувенир» все время приходит ей на ум, напоминая о том, что, возможно, она скоро уйдет. Навсегда.
Когда Прессия возвращается домой, все прилавки уже закрыты. Поздно, дедушка уже начал волноваться… На другом конце рынка она снова видит мальчика с широко посаженными глазами, Микеля. Он готовит уже какого-то другого зверя, на этот раз над жестяным баком. Тушка совсем маленькая, размером с мышку, почти без мяса.
Рядом еще один мальчик. Он протягивает руку, чтобы потрогать мясо. Микель кричит:
– Не трогай, обожжешься!
Микель толкает мальчика на землю. Мелькают босые пятки, сплошь покрытые мозолями. Мальчик почесывает ушибленные колени, вскрикивает при виде крови и бежит к темному дверному проему. Три обожженные женщины выходят ему навстречу. Спутанные тряпки скрывают их тела, которые срослись между собой посередине. Их лица блестят, как у пластиковых кукол. У одной из женщин сгорбленные плечи и искривленная спина. Группи, вот как их называют. Клубок рук, одни из которых бледные и веснушчатые, другие смуглые. Средняя женщина хватает мальчика и говорит:
– Заткнись! Тише ты!
Женщина с искривленной спиной, которая, на первый взгляд, меньше всех оплавлена, едва сдерживаясь, кричит на Прессию:
– Что ты сделала с ним? Что?
– Я его не трогала! – выкрикивает Прессия и натягивает посильнее рукав.
– Пора домой, – говорит женщина мальчику. Она оглядывается, словно боясь увидеть что-то страшное. – Живо!
Ребенок вырывается у нее из рук и бежит к опустевшему рынку, рыдая на ходу. Женщина с кривой спиной потрясает костлявым кулаком перед лицом Прессии.
– Видишь, что ты наделала?
Вдруг раздается крик Микеля:
– Зверь! Зверь!
Прессия разворачивается и видит волкоподобного зверя. Он больше животное, чем человек. Весь покрытый шерстью, со стеклом, вставленным вдоль ребер, зверь мчится на всех четырех лапах, прихрамывая, и когда он останавливается и поднимается на задние лапы, то становится ростом практически со взрослого человека. Вместо звериной морды Прессия видит розовое, почти безволосое человеческое лицо с узкой челюстью и длинными зубами. Бока зверя быстро вздымаются, в центре груди чернеет звено от цепи.
Микель взбирается на самый верх бака и начинает карабкаться на железную крышу. Группи баррикадируют дверной проем куском дерева. Они даже не пытаются позвать своего ребенка, который все еще бежит один по улице.
Прессия знает, что зверь сначала поймает малыша, который является более легкой добычей, чем Прессия. Но конечно, огромный зверь может атаковать и их обоих.
Прессия вцепляется в свою сумку и срывается с места. Она всегда быстро бегала. Может, это ей досталось от отца-футболиста. Туфли протерлись до подушечек пальцев, и она чувствует землю сквозь тонкие носки.
С закрытыми прилавками улица выглядит незнакомой. Зверь несется прямо на нее. Прессия и маленький мальчик единственные на всей улице. Ребенок, должно быть, чувствует какую-то опасность в воздухе. Он оборачивается, и его глаза расширяются от ужаса. Он спотыкается, и страх мешает ему подняться. Подбежав ближе, Прессия видит обожженную кожу вокруг его глаза, мерцающего беловато-голубым, словно мрамор.
– Вставай! – кричит она, хватая его под руки и пытаясь поднять. Ей нужно, чтобы мальчик ей помог, так как она может схватить его только одной рукой. – Держись крепко!
Она дико озирается по сторонам, ища куда можно забраться. Зверь неумолимо надвигается на них.
По обе стороны от них только развалины, но напротив Прессия видит здание, которое разрушено лишь наполовину. От стеклянной двери остался только каркас – металлическая решетка. Дед когда-то говорил, что это был ломбард, и объяснял, что люди ограбили его первым, потому что в ломбарде были ружья и золото, несмотря на то что золото очень быстро обесценилось. Дверь ломбарда слегка приоткрыта.
Ребенок кричит громко и пронзительно и оказывается тяжелее, чем ожидала Прессия. Он крепко обхватывает ручонками ее шею, мешая дышать. Зверь уже так близко, что девушка слышит его тяжелое дыхание.
Прессия добирается до двери с металлическими решетками, толкает ее, проскальзывает внутрь, разворачивается и захлопывает, все еще держа ребенка.
Они оказываются в маленькой пустой комнате с парой тюфяков на полу. Прессия закрывает вопящий рот ребенка здоровой рукой.
– Тише! – просит она. – Помолчи!
И, отойдя к самой дальней стене, садится с мальчиком на руках в темный угол.
Зверь оказывается у двери в ту же секунду, воя и скребя по решетке. В нем нет ничего человеческого, кроме лица и глаз. Дверь громко трещит, но не поддается.
Разочарованный, зверь припадает к земле и рычит. Затем он поворачивает голову, принюхивается к чему-то и убегает.
Внезапно мальчик изо всех сил кусает Прессию за руку.
– Ай! – вскрикивает она, потирая руку о штаны. – Зачем ты это сделал?
Мальчик смотрит на нее широко открытыми глазами, как будто сам удивляется.
– Я ожидала чего-то вроде «спасибо», – ворчит она.
С другой стороны комнаты раздается громкий удар. Прессия, охая от неожиданности, оборачивается.
Крышка подвала отодвигается, и оттуда высовывается лохматая голова парня с темными серьезными глазами. Он немного старше Прессии.
– Ты сюда на собрание пришла или как?
Мальчик снова кричит, как будто это единственное, что он умеет. Неудивительно, что женщина просила его заткнуться, думает Прессия. Он просто любитель поорать. Малыш кидается к решетчатой двери.
– Не ходи туда! – кричит Прессия.
Но мальчик слишком шустрый. Он открывает дверь, выскальзывает наружу и удирает.
– Кто это был? – спрашивает парень.
– Сама не знаю, – отвечает Прессия, поднимаясь на ноги. Сейчас она видит, что парень стоит на шаткой складной лестнице, ведущей в подвал, полный людей.
– Я знаю тебя! – восклицает он. – Ты внучка хирурга!
Она видит шрамы, взбирающиеся по одной стороне его лица, возможно даже, это дедушкина работа. Она видит, что шрамы еще совсем свежие, полученные не больше года или двух назад.
– Я не помню, чтобы мы встречались.
– Нет, мы не виделись, – отвечает парень. – К тому же я был очень сильно изранен. Ты могла не узнать меня. – Он указывает на свое лицо. – А я помню, что видел тебя.
Он смотрит на нее так, что она краснеет. Возможно, в темном блеске его глаз есть что-то знакомое. Прессии нравится его лицо, настоящее лицо выжившего – суровое и все в шрамах. Глаза парня делают его одновременно и сердитым, и милым.
– Ты пришла на собрание? Серьезно, мы уже начинаем! У нас и еда есть.
Это ее последняя прогулка до того, как ей исполнится шестнадцать. Ее имя уже в списках. Сердце все еще часто стучит в груди. Она спасла мальчика и до сих пор ощущает кураж. К тому же она голодна, и мысль о еде ей нравится. Может быть, там ее будет достаточно, чтобы она смогла незаметно утащить немного для деда.
Вдалеке завывает зверь.
– Да, – кивает Прессия, – я пришла на собрание.
Парень едва не улыбается, но сдерживает себя. Он явно не из тех, кого легко заставить улыбнуться. Развернувшись, он кричит тем, кто внизу:
– У нас новенькая, освободите место!
Прессия замечает, как что-то трепыхается у него под голубой рубашкой, словно рябь на воде.
Она вспоминает его, мальчика с птицами на спине.