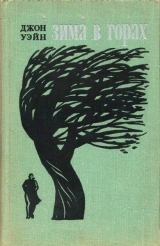
Текст книги "Зима в горах"
Автор книги: Джон Уэйн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
Теперь, приглядевшись к детям, Роджер обнаружил, что у Мэри лицо такой же формы, как у отца – более круглое, чем у Дженни, и со временем, когда девочка вырастет, оно станет менее тонким. И все же это не было лицо Туайфорда: в глазах не проглядывал расчет, они были невинные, нетронутые. А мальчик, подошедший сейчас к ним, был и вовсе почти копией матери.
– А у меня в кармашках есть беленькие камушки, – сказал он и посмотрел на Роджера с таким видом, точно решил доверить ему некую тайну. – Беленькие, как молочко, беленькие, как наволочки, беленькие, как облачка. Так мы говорим, когда играем (он не пояснил, что это была за игра). – Хотите посмотреть?
– Очень!
Пухлая ручонка исчезла в кармане, другая полезла в другой карман. И на раскрытую в ожидании ладонь Роджера торжественно легли пять белых камушков. Они были совсем гладкие и светились чистым молочным светом. В одном или двух проглядывали тонкие пурпурные жилки.
– А я свои камушки куклам в домик не кладу. Я не играю в куклы. Я из своих камушков строю садик.
– Вот как?
– Да, лунный садик.
– Лунный?
– Ну да, как на луне. Весь беленький. – Робин сгреб камни своими маленькими цепкими пальчиками. – Вы насмотрелись уже на них?
– Да, спасибо.
– Тогда я положу их назад в кармашки.
Спрятав камушки, Робин вернулся к прерванному занятию. И оба ребенка, забыв о Роджере, вновь занялись своим серьезным делом, словно, пропустив его через свое сознание, они могли больше не думать о нем и предоставить его заботам мамы.
Роджер пристально смотрел на Дженни. Желал ли он ее больше, чем, скажем, Райаннон? Конечно, Райаннон была куда красивее. Но она была уж слишком хороша – она возбуждала его до потери сознания. И даже если бы ему вдруг фантастически повезло и он сумел бы завоевать ее расположение, ему всегда бы казалось, что он недостоин ее. А вот с Дженни он мог представить себе счастье вполне возможное, реальное – счастье домашнего очага, где найдется место и для двух детишек, которые иначе обречены расти в душной атмосфере, созданной этим денежным мешком Джеральдом Туайфордом, жить в milieu[15]15
Среде (франц.).
[Закрыть], где их будут всегда окружать люди вроде этого омерзительного слизняка Дональда Фишера. Дженни была нужна ему, и он мог дать ей то, что ей было нужно, – почему же не попытаться? Ветер налетел и покрыл рябью воду, холодную и соленую, растворяющую фальшь.
– Вы бываете когда-нибудь вечерами свободны? – внезапно спросил он ее.
– Иногда. – Ее голос звучал намеренно ровно.
Он продолжал наступать:
– А вы не согласились бы провести как-нибудь вечер со мной?
Она посмотрела вдаль, поверх воды.
– И что же мы будем делать?
– Что хотите. Есть, пить, болтать.
Она насупилась.
– Рестораны исключены. Здесь нет ни одного хорошего, да и вообще… – Она умолкла, но он понял, что́ она хотела сказать. Она замужем, а рестораны – место общественное.
– Я не думал о ресторане, – поспешал он пояснить. – Я приготовлю что-нибудь в своей берлоге.
– Вот как! – сказала она и с иронической усмешкой повернулась к нему. – У вас есть берлога?
Он рассмеялся. От этого слова так сильно отдавало печальными и смешными ассоциациями, связанными с холостяцкой жизнью.
– Все где-то живут.
– Но вы, видимо, живете в таком месте, где вы можете принять меня, накормить обедом и даже приготовить его. Как удобно.
– Не надо иронизировать, – сказал он. – Я честный труженик и снял летнюю квартирку, за которую между июнем и сентябрем люди платят большие деньги. А я получил ее почти задаром.
– Очень хорошо, – сказала она уже без всякой иронии.
– По средам я кончаю рано. Живу я в Лланкрвисе. Первый дом направо после знака, ограничивающего скорость до тридцати миль в час. У меня свой вход сбоку.
– Бог мой, какой поток информации! Я ведь еще не сказала, что приеду.
– Но вы же можете как-нибудь вечером, в одну из сред, когда дети лягут спать, а муж ваш будет в Лондоне и не сможет пожаловаться на то, что вы пренебрегаете им, и дома нечего будет делать, и не с кем перекинуться словцом, – вы же можете сесть в свою голубую машину и приехать в Лланкрвис.
– Да, конечно, я могу приехать. Но я не вижу, зачем мне это.
– Ну, сделайте это без всяких причин. Приезжайте просто потому, что получили приглашение.
– А вы умеете стряпать? – переменила она тему разговора.
– Простые блюда. Но голодной вы не останетесь.
– Может, мне приехать и приготовить вам что-нибудь? Какая у вас плита?
Сердце у Роджера заколотилось. Он одерживал победу: она готова приехать.
– Не думайте об этом. Вы и так достаточно занимаетесь хозяйством. Приезжайте просто посидеть, и дайте мне вас побаловать. Только это будет в ближайшую среду или в следующую?
– Ни в ту, ни в другую, – последовал категорический, холодный, как сама северянка, ответ. – Если я вообще приеду, то после следующей.
– Значит, в третью среду?
– Да, Джеральд будет вечером выступать в Лондоне по телевидению, и я не буду нужна дома.
Дети заспорили о чем-то.
– Мамочка, – с криком бросились они к ней, – рыбки едят водоросли?
– Некоторые едят, – сказала она.
– Вот видишь, – сказал Робин, повернувшись к Мэри.
– Но ведь у них же нет зубов. – Личико Мэри вытянулось от огорчения, что она проиграла в споре. – Им нечем жевать!
– А они язычком – лижут, лижут, – сказал Робин. – Вот так: лик-лик. – И он показал, как это делается.
– Оба вы неправы, – сказала Дженни. – У них есть зубы. Положите пальчик рыбе в рот и увидите, есть у нее зубы или нет.
Это их успокоило: если ни один из них не прав до конца, значит, никто и не победил в споре. Они побежали прочь, и слышно было, как Мэри сказала Робину:
– И откуда ты взял, что рыбы лижут?
– А вот лижут. Лунные рыбки лижут!
Роджер почувствовал, что пора красиво ретироваться. Он добился того, зачем пришел, а между Дженни и ее детьми не надо вставать, не надо портить им прогулку.
– Ну, я пошел, – сказал он. – Значит, в третью среду. Я буду поджидать вас около восьми.
– Только я, наверно, не смогу долго у вас быть, – сказала она и обернулась, остановившись на скользкой гальке, по которой в отдалении бегали дети.
– Неважно, – сказал он и улыбнулся.
Она озарила его ответной улыбкой и тотчас повернулась к нему спиной. Перепрыгивая с камня на камень, он добрался до низкой стены, тянувшейся вдоль берега. За ней бежала в город дорога между полосками тощей, припудренной солью травы, – дорога, которая уведет его от Дженни назад, в пустоту. Он обернулся, чтобы еще раз посмотреть на нее: все трое стояли к нему спиной и, пригнувшись, всматривались в кружево пены у самого края моря.
– А вот еще один! – донеслось до него восклицание Робина.
– Счастливых поисков! – крикнул он.
Но ветер, который потихоньку набирал силу в то время, как они беседовали, уже окреп и унес звук его голоса назад, к гавани и неподвижным башням замка. Слегка пожав плечами, Роджер двинулся обратно в город тем же путем, каким пришел.
Гэрет держал автобус в гараже из рифленого железа. Стоял гараж на пустыре между двумя садовыми оградами в верхнем конце поселка и был не слишком просторен – во всяком случае, Гэрету трудновато было запихивать в него все, что требовалось: автобус, канистры с горючим, инструменты, верстак, покрышки и т. д. Вкатить желтого дьявола и выкатить его оттуда было делом не простым, так как свободного пространства с каждой стороны оставалось не больше трех-четырех дюймов, и Гэрет никому этого не доверял. Вечером после последнего рейса он загонял автобус в гараж и по утрам выводил его, а днем, между рейсами, какая бы ни была погода, автобус стоял на зеленой травяной обочине возле центра поселка. Там-то Роджер впервые и увидел его, когда спускался с гор в ливень.
Он работал с Гэретом уже две недели, и сейчас снова шел дождь. Он волнами налетал на улочки поселка, и несколько пассажиров, намеревавшихся ехать одиннадцатичасовым рейсом вниз в Карвенай, уже сидели в автобусе, распространяя запах мокрых макинтошей. Гэрет заводил часы – скоро в путь. Роджер сидел на одном из свободных мест впереди, смотрел на дождь и прислушивался к беседе, которая шла по-валлийски позади него. Он уже разбирал отдельные слова, а подчас мог понять и целые фразы.
Фургон компании по вывозу мусора появился на улице, проехал несколько ярдов и остановился; из него выскочили мусорщики, забрали с полдюжины мусорных баков, опустошили их в таинственно жужжавшую утробу машины и поставили на место; машина двинулась дальше и снова остановилась. Роджер лениво наблюдал за ними сквозь затуманенное дождем стекло. Три человека забирали мусорные баки, один сидел за рулем. Те, что забирали мусор, были в клеенчатых плащах, а один из них даже набросил на плечи толстую мешковину, предохраняя себя от дождя. Они работали молча, в хорошем ритме, а скрытый от глаз механизм непрерывно пережевывал отбросы, прессовал их и утрамбовывал. Прогресс пришел в Лланкрвис.
Внезапно откуда-то из глубины улицы раздался протяжный пронзительный крик, и появилась миссис Аркрайт, без шляпы, с уже намокшими, обвисшими, подцвеченными синькой седыми волосами. Она размахивала руками и кричала:
– Вернитесь! Вернитесь!
Трое мужчин поспешно опустошили мусорные баки и вскочили на приступок сзади фургона.
– Поехали! – крикнул шоферу один из них.
– Мы же не закончили еще на этой улице! – возразил тот, высовываясь из окна машины.
– Неважно! Поехали! – закричали они ему.
К этому времени миссис Аркрайт, припустившись бегом, уже почти настигла их.
В автобусе пассажиры, вытянув шеи, наблюдали за разыгрывавшейся драмой. Фургон рванул с места, три мусорщика повисли на нем сзади, как толстые мясные мухи, – и миссис Аркрайт, сделав еще по инерции рывок вперед, в растерянности остановилась.
– Я об этом сообщу куда надо! – донесся ее голос сквозь стену дождя.
– Мы не нанимались слушать ваши оскорбления! – крикнул ей в ответ один из мусорщиков. И фургон исчез за углом.
А миссис Аркрайт круто повернулась и зашагала к автобусу, словно нарочно подготовленному для проведения митинга.
– Я ведь показывала им планы! – воскликнула она, еще не успев встать на ступеньку автобуса. – Я ездила в муниципалитет и показывала им планы, и они признали, что мой дом входит в район, где собирают мусор, признали!
По автобусу прошел сочувственный шепоток. А какой-то длинный, худой человек сказал:
– Везде один обман, один обман.
– Мусорщики говорят, что я должна выносить мусор к перекрестку, – сказала миссис Аркрайт. – Это я-то – вдова! Неужели они к своим матерям тоже так относятся?!
– Есть такие, которые так и относятся, именно так, – сказал длинный, худой человек.
– Вы едете с нами, миссис Аркрайт? – спросил Гэрет. – Нам пора двигаться. – Он произнес это с гордостью человека, ведущего экспресс.
– Да, я еду с вами, – мрачно заявила она, отбрасывая назад прядь намокших, подцвеченных синькой волос. – Высадите меня на площади. Я пойду в эту канцелярию и не уйду оттуда, пока они не заберут мой мусор. Если они и дальше так будут действовать, разведутся крысы, начнется тиф, помяните мои слова: будут крысы и тиф. Получите с меня, молодой человек, – сказала она Роджеру.
Роджеру приятно было, что она назвала его «молодой человек», но в то же время он не обрадовался тому, что миссис Аркрайт поедет с ними в автобусе. Патетика ее жизни и узость ее интересов угнетающе действовали на него. Она жила в отличном новеньком домике со всеми удобствами и с чудесным видом на залив, но вся ее жизнь сводилась к еженедельным схваткам и упорной борьбе за то, чтобы у нее забирали мусор.
Продвигаясь по автобусу, держась за спинки сидений, чтобы не упасть, Роджер надеялся, что миссис Аркрайт получит удовольствие от fracas[16]16
Стычки (франц.).
[Закрыть] с чиновниками из Корпорации мусорщиков, но не добьется победы, ибо тогда она лишится горечи, которая питает ее жизнь.
Наконец настала та среда – среда, когда должна была приехать Дженни. С той минуты, как они условились о встрече, Роджер и жаждал наступления этой среды и страшился. Конечно, ему хотелось, чтобы Дженни приехала к нему, хотелось ее увидеть; конечно, он не мог не радоваться возможности прощупать почву, понять, насколько труден будет путь, который предстоит преодолеть; а если говорить, не затуманивая смысла изящной метафорой, – выяснить, есть ли у него шансы оторвать ее от мужа на достаточно долгий срок, чтобы получить необходимое утешение. И тем не менее как раз это обследование почвы, то, что придется потратить немало усилий, чтобы отторгнуть Дженни от мужа, и страшило его. Сколько будет хлопот, сколько, черт побери, уйдет сил, как это будет выбивать из колеи и лихорадить – и с каждым годом все больше.
В шесть часов Роджер вернулся с первым вечерним рейсом в Лланкрвис – с работой на этот день было покончено. Еще предстоял десятичасовой рейс, но по средам народу обычно бывало мало: многие в этот день не работали вечером и склонны были уезжать подальше, а не сидеть в карвенайских пивных. Гэрет вполне мог сам справиться и возражать не стал. Итак, Роджер направился к себе, отпер зеленую дверь, которая вела в помещение, сдаваемое миссис Пайлон-Джонс на лето, и вошел, бормоча себе под нос: «Мясо, овощи, масло. Вино, штопор. Уголь, растопка. Мы еще не решили, когда мне положено замерзнуть в снятой квартире. Картофель. Поправить запор на окне». Он был весь как натянутая струна, неуверенный в себе, несчастный. Готовиться к свиданию, наводить уют, чтобы лечь в постель в замужней женщиной в протестантском поселке, – зачем ему нужен весь этот фарс, в его-то годы? Это было несправедливо, ужасно. Он искренне жалел себя и даже немного жалел Дженни.
Тем не менее он разжег хороший огонь в камине, накалил электрический вертел, так что тот зашипел, – по крайней мере, он вкусно ее накормит, и они приятно проведут время, прежде чем он нарушит ее покой.
Миссис Пайлон-Джонс сидела тихо, как паук, на своей половине дома. Узнает ли она о том, что произойдет? А что, если Дженни, исстрадавшись в своем несчастном браке, упадет ему в объятия и затем очутится в его постели? Станет ли миссис Пайлон-Джонс наблюдать в замочную скважину? Способна она вызвать лланкрвисскую разновидность куклукс-клана или Общества по охране порядка и поддержанию закона? Но в конце-то концов (подумал он, стоя перед электрическим вертелом и почувствовав вдруг неодолимую усталость), какое это будет иметь значение, если даже она так и поступит?
Условный час пробил. Он ждал ее, она опаздывала – прошло уже десять минут, нет, пятнадцать; он уже начал браниться про себя, когда на улице раздался скрип шин и звук затормозившей машины. Он не собирался бежать к двери – пусть постучит, ну а потом он не спеша откроет, но вместо этого широко распахнул дверь. На улице стояла голубая машина. Это была Дженни.
Она вошла. На ней было короткое модное пальто, под ним то же платье, что и в тот раз, когда он впервые увидел ее: простое, хорошо сшитое темно-красное шерстяное платье, короткое (укороченное?), хорошее платье (ее лучшее?). Интересно, она специально выбрала его или машинально сняла с вешалки, как единственное, которое можно надеть? Все это промелькнуло у Роджера в голове, пока она произносила первые, старательно подготовленные фразы, объясняя, почему она опоздала.
– Давайте есть, – сказал он. – Я голоден. Я ведь работал. – От волнения он говорил чуть грубовато.
– Я тоже работала. Возилась с детьми, укладывала их спать. А что у вас за работа?
– Потом расскажу.
– Это что – тайна?
– Нисколько. Я работаю на автобусе.
– На автобусе? Кем же – шофером? Вы не похожи…
– Нет, я работаю кондуктором.
– Кондуктором в автобусе? Вы, что же, занимаетесь этим на пари или как?
– Нет, я так отдыхаю. Для разнообразия. – Произнося это, он подогревал тарелки, стучал блюдцами и вообще делал все очень быстро, словно профессиональный повар.
– Что-то вы захлопотались, – сказала она, подходя к нему. – Могу я вам помочь?
– Да, можете налить себе рюмку хереса из вон той бутылки, а потом можете открыть вино и поставить его на стол. В общем, заняться мелочами. Основное я буду делать сам, потому что тут затронута моя честь. Я хочу приготовить вам хорошую еду.
– Прекрасно. Я буду заниматься одними мелочами и тогда, надеюсь, не задену вашей чести. – Он услышал, как она налила себе хереса. – Вам тоже налить?
– Нет, спасибо. – Он уже выпил джину до того, как она пришла.
Интересно, что делает ее муж в то время, как она сидит в Лланкрвисе и пьет херес в квартирке, которую миссис Пайлон-Джонс сдает на лето? Дженни говорила, что он выступает по телевизору. Именно сейчас, в этот момент? Если бы у него был телевизор, хватило бы у них нахальства включить его, сесть перед ним и смотреть на эту отвратительную гладкую физиономию?
Вот было бы здорово – сорвать с нее платье и обладать ею перед телевизором, на глазах у смотрящего с экрана мужа.
– А чем вы обычно занимаетесь? – спросила она.
– Я филолог.
– Как этот нудный старик Брайант?
– Как он.
– И что вы изучаете?
– Североевропейские языки. Больше всего я люблю скандинавские и английский.
– Я понимаю, но что именно вы изучаете в английском и в скандинавских языках? Просто грамматику и структуру?
– Видите ли, я написал довольно серьезную работу под названием: «Превращение „умляутных вариантов“ в „умляутные аллофоны“ в скандинавских языках и, в частности, в сравнении с конечными „i“ и „е“ в древневерхненемецком».
Она перестала вывинчивать пробку и, прищурясь, поглядела на него.
– Вы, конечно, шутите?
– Нет, не шучу. Такие названия часто встречаются в филологических работах. Наготове у меня, например, такой труд: «„Iа“ как особая дифтонгическая фонема в скандинавских языках переходного периода».
– Но кому все это нужно?
– Ну, видите ли, мы исследуем, как развивался язык. Изучаешь старые руны и надписи на мечах седьмого века и прочих предметах, а потом пытаешься систематизировать то, что удалось выявить, и сделать выводы относительно эволюции языка. Если удается кое-что прояснить, это помогает археологам установить, к какой эпохе относятся обнаруженные ими предметы.
– Лишь в том случае, если на предметах есть надписи?
– Да, но на большинстве предметов надписи есть.
– И вам действительно нравится этим заниматься?
– Так же, как иным нравится изучать хромосомы. Рис готов, и мясо тоже почти готово. Вы голодны?
– А что вы приготовили из мяса?
– Шашлык.
– Тогда я очень голодна.
Он поджарил толстые куски мяса, переложив их кусочками ананаса и луком. Это был его коронный номер.
– Вы к тому же еще и повар, – заметила она, садясь за стол.
– Я умею готовить только это блюдо. Остальное время ем вареные яйца.
Они принялись за еду. Он налил вина. Она с удовольствием ела, пила и болтала; отблески огня из камина падали на ее лицо. До сих пор он ни разу не был с ней наедине. В первый раз, когда они встретились, на нее давило присутствие мужа и друзей мужа; во второй раз он видел ее, когда она была матерью, строгой и любящей. Любящей! Она должна быть восприимчивой к любви и любвеобильной. Но любовь – вещь серьезная, она меняет жизнь людей, а сейчас поведение Дженни говорило лишь о том, что она дружески расположена к нему и получает удовольствие от его общества. Ничто не давило на нее, она отдыхала, не думая о своих проблемах, наслаждаясь вкусной едой.
Он налил ей еще вина, принес сыру и фруктов, и они снова ели, пили и болтали. Но размышления о любви настроили его на грустный лад: это напомнило ему о собственной неутоленной потребности в любви, напомнило об одиночестве. Он пригласил ее потому, что надеялся втянуть в свою жизнь, получить от нее хотя бы частично то, в чем так нуждался; приятно, конечно, отдыхать и ни о чем не думать, однако было бы лицемерием и безумием удерживать эти отношения на таком уровне, затягивать их, не приступая к делу. Роджер опрокинул стакан вина, чтобы взбодрить себя, набраться решимости, но это не помогло. Он вдруг почувствовал, что страшно устал и все тело его словно налито свинцом. Он позволил себе подумать о том, какие серьезные вещи зависят от их встречи, и теперь уже не мог вернуть прежнее беспечное настроение: минуты отдыха прошли, предстояло трудиться, трудиться и трудиться.
Покончив с грушей и вытирая пальцы о бумажную салфетку, Дженни заметила, что настроение его изменилось.
– Что случилось?
Ему нравилась ее безыскусная прямота. Да встряхнись же, приступай к делу.
– Давайте посидим, если вы покончили с едой, – сказал он.
– А я и так сижу.
– Я хотел сказать: давайте пересядем на диван, – предложил он. Диван он нарочно пододвинул ближе к пылавшему камину.
– Как хотите, – сказала она безразличным тоном.
Однако, когда они очутились рядом на диване, он не мог заставить себя ни сказать ей что-нибудь, ни придвинуться к ней.
– Чудесный был ужин, спасибо, – сказала она.
– Спасибо, что вы выбрались навестить меня. Ведь ехать сюда на машине куда сложнее, чем…
– Не о том мы с вами говорим, – сказала она, – не правда ли?
– О чем не о том?
– Насчет того, что сложнее.
Он помолчал, потом сказал:
– В общем-то, речь идет ведь об этом. Именно об этом и ни о чем другом.
– А я считала, что еду к вам, – сказала она, глядя в огонь, – чтобы приятно провести время.
– Люди моего возраста не нуждаются в приятном времяпрепровождении, – сказал он. – Если же они в этом нуждаются, если этого ищут и пытаются создать соответствующие условия, значит, что-то в их жизни неблагополучно.
– А как обстоит дело с людьми моего возраста? – спросила она.
– Ну, тут все иначе. У людей вашего возраста больше времени впереди, и потому они спокойнее смотрят на все. У них еще есть время построить жизнь, разрушить ее и построить заново – так, как им больше по душе.
– Если они чувствуют в этом потребность.
Он осторожно сказал:
– А наверное, лучше чувствовать такую потребность. Наверное, неправильно, когда все с самого начала складывается, как надо.
– Почему? Или вы считаете, что сломанная кость становится крепче, когда срастается?
– Отчасти да, но есть и другое. Люди, которые, провальсировав несколько раз, не наделав положенных ошибок и не пройдя через период несчастья, попадают прямо в счастье, не понимают, чего они избегли, и потому не бывают благодарны за выпавшую им удачу, недостаточно ценят ее.
Дженни отпила из бокала. В отблесках пламени, падавших из камина, красный цвет вина казался гуще и сочней, чем на самом деле, – вино словно светилось сквозь стекло.
– Скажите, Роджер, вы философствуете ради удовольствия слушать собственный голос, изрекающий мудрость? Или у вас есть какая-то причина говорить мне все это?
В наступившем молчании он глотнул вина. Но оно не оказывало на него никакого действия. Порог его напряжения был слишком высок, чтобы алкоголь помог ему преодолеть его.
– Да, у меня есть на то причина.
– Что же, послушаем.
– Я хочу обладать вами.
– Не говорите глупостей, – сказала она с вдруг прорвавшимся северным акцентом.
Он снова отхлебнул из бокала.
– Почему же это глупости?
– Потому что я замужняя женщина с двумя детьми.
– Но вы замужем не за тем человеком. Ваше замужество не приносит вам счастья.
Вместо ответа она нагнулась и подняла с пола свою сумочку. Он думал, что она ищет сигарету, чтобы выгадать время, и, пока будет вынимать ее из сумочки и раскуривать, решит, как ответить на его наскок. Но, к его удивлению, она извлекла из сумочки очки в толстой темной оправе, надела их и внимательно посмотрела на него.
– Зачем это вы?
– Хочу рассмотреть ваше лицо, – сказала она. В этих очках с толстой темной оправой, с этой челкой черных волос она походила на беззащитного ребенка с тонким личиком. Глаза ее сквозь стекла очков были совсем как у обиженной совы. – Я слишком тщеславна и потому редко ношу очки. Но они нужны мне, если я хочу что-то рассмотреть. А свет здесь не очень яркий.
– Он и не может быть ярким в арендованной квартире, – сказал он.
– Не уходите от темы разговора. Я хочу отчетливо видеть ваше лицо, так как это может дать ключ к пониманию того, что происходит у вас в уме и почему вы вдруг вздумали говорить о моем муже и моем браке.
– О, – сказал он, – в таком случае можете снять очки. Никаких тайн тут нет. Я могу вам совершенно точно сказать, что у меня на уме. – Но, еще произнося эти слова, он подумал о том, что едва ли сумеет объяснить все достаточно ясно не только для нее, но даже для себя самого.
– Ну, так скажите. – Но очков она не сняла.
– Я одинок и далеко не счастлив. Не думаю, чтобы во мне говорила излишняя жалость к себе – я стараюсь объективно смотреть на вещи. Жизнь моя подошла к голому открытому ветрам перекрестку, и я не знаю, каким путем дальше следовать. Я могу создать себе уютную жизнь, но от одного уюта не станешь счастливым. Я потерял цель в жизни.
– А что же случилось, почему вы ее потеряли?
– У меня умер брат. Он был человек больной, и я ухаживал за ним.
– Очень жаль, конечно, что он умер, потому что вы, видимо, любили его. Но для вас это, конечно, явилось избавлением?
– Вот это-то как раз и трудно объяснить.
– А вы попытайтесь, – сказала она, откидываясь назад.
– Я жил с Джеффри вовсе не потому, что был единственным человеком, который мог бы ухаживать за ним. Многие могли бы это делать, причем более квалифицированно и лучше, чем я. Он часто раздражал меня, и порой я совсем не годился для ухода за ним. – Он помедлил, затем продолжал: – Когда я сказал, что Джеффри был больным человеком, я постеснялся употребить более точное слово. На самом деле он был невропат, душевнобольной. У него была поражена психика и нервы.
– Он что – таким родился?
– Нет, это все война. – Он снова помолчал. – Об этом мне бы не хотелось говорить.
– Если вы не расскажете, как же я пойму?
Он повернулся к ней.
– А вы хотите понять?
– Вы же хотите, чтобы я поняла, правда?
Он кивнул.
– Пожалуй, все, что вам надо знать, в основном это то, что мои родители умерли в войну и мы с Джеффри остались одни, причем он уже тогда был тяжело болен. В свои хорошие дни он мог сам одеться – разве что какую-нибудь пуговицу оставит незастегнутой, – мог более или менее донести пищу до рта, но совершенно не в состоянии был на чем-либо сосредоточиться или удержать хоть что-то в памяти. И я знал, что, если отдать его в какую-нибудь лечебницу, его будут лишь обмывать и обтирать, как кусок неопрятной человеческой плоти. Правда, я никогда всерьез не думал отправить его в такое заведение. Он был нужен мне не меньше, чем я ему.
– Почему?
Роджер передернул плечами.
– Так уж сложилось. Дело в том, что мне было всего семнадцать лет, когда кончилась война, и прошли годы, прежде чем я смог хоть что-то зарабатывать и взять Джеффри к себе. Около десяти лет он провел в больницах – то в одной, то в другой. Но я все это время навещал его и говорил ему, что он переедет ко мне и будет жить со мной, как только я устроюсь, и он это понимал – во всяком случае понимал в свои хорошие дни.
– А что он делал в плохие дни?
– Плакал.
– Просто плакал?
– Просто плакал, и больше ничего. Сидел на кровати и целыми днями оплакивал свою судьбу.
Дженни встала, разгладила юбку на бедрах и посмотрела на него сверху вниз.
– Ну, а теперь скажите мне, какое все это имеет отношение к моему браку с Джеральдом?
Роджер не сразу смог ответить. Перед его мысленным взором стояло красное сморщенное лицо Джеффри, и он слышал голос Джеффри, произносящий сквозь рыдания: «Слишком это тяжело, Роджер. Не могу я, Роджер. Мне слишком тяжело».
Затем это видение исчезло, все вдруг словно залило резким белым светом, и он сказал:
– Это нетрудно объяснить. Когда человек несчастлив, он всегда ищет себе подобных. Вот я остался без Джеффри, лишившись, как Отелло, главной цели в жизни, а кроме того, поняв, что той любви, какую я проявлял к брату, оказалось недостаточно, чтобы удержать его в жизни дольше сорока пяти лет. Поэтому у меня почва ушла из-под ног, и я чувствую себя виноватым. К тому же – едва ли вас это удивит – моя личная жизнь совсем разладилась.
– Это меня не удивляет. На свете куда больше…
– Долгое время я встречался с девушкой по имени Марго и был очень привязан к ней. Я даже хотел на ней жениться. Она была очень хорошенькая и усиленно старалась избавиться от своего пуританского воспитания. Поэтому она все время искала удовольствий – без передышки. Она встречалась со мной пять лет и, насколько мне известно, одновременно еще с тремя или четырьмя мужчинами. Не говоря уже о случайных знакомствах. Она была большая мастерица по части любви и обожала заниматься этим в ванной во время вечеринок у разных тузов в Челси.
– Вы так говорите о ней, точно ее ненавидите.
– Честно говоря, нет. Просто она и меня заразила своим отношением к жизни. Мне хотелось создать семью, но я любил Марго, а она не желала строить со мной жизнь – сначала потому, что еще вдоволь не наразвлекалась с другими, а затем потому, что я не хотел отдавать Джеффри в лечебницу. В конце концов это разлучило нас. Мне потребовалось около года, чтобы поверить, что это действительно так. Я очень нуждался в Джеффри и просто не мог поверить, что есть люди, которые даже знать о нем не желают, как не желала Марго. Она видеть его не могла.
– Я бы не стала ее винить, если для нее главное удовольствия.
– Да я и не виню. Уже сам вид такого человека, как Джеффри, напоминает о сторонах жизни, никак не совместимых с приятным времяпрепровождением. Если бы он не был импотентом, она, возможно, даже попыталась бы сблизиться с ним. Говорят, идиоты возбуждают женщин.
– Слишком много у вас появилось горечи.
– Появилось? Во мне всегда было черт знает сколько горечи.
– Хорошо, – сказала она. – Пусть у вас будет горечь. Только не надо этим гордиться. Не думайте, что это делает вас великомучеником.
– Дженни, это несправедливо.
– А я вовсе не собираюсь быть справедливой, почему, собственно, я должна быть к кому-то справедливой? Просто люди, которые с горечью относятся к жизни, всегда считают, что это их возвышает. Они думают, что, если у тебя нет горечи, ты неглубокий человек.
Роджер подлил вина себе и ей.
– Возможно, вы и правы. Но вообще это не имеет значения. Моя горечь неглубока. Она у меня где-то на поверхности, как перхоть. Она может уйти, и при этом моя натура коренным образом не изменится. А вот то, другое – потребность оберегать Джеффри – гнездилось гораздо глубже. Корни этого уходят к дням моего отрочества.
– Знаете, что я думаю, – сказала она. – Я думаю, все это растает и исчезнет, как только вы найдете женщину, которую сможете полюбить, я имею в виду – полюбить по-настоящему.
– Я уверен, что именно так пишут в книгах.
– Опять у вас эта горечь. Об этом не только пишут в книгах, это всем известно.
– Хорошо, – сказал он, глядя на ее тонкое, серьезное лицо, озаренное светом камина. – Это может пройти, согласен. А до тех пор я обречен жить с тем, что в книгах наверняка назвали бы «синдромом Джеффри».








