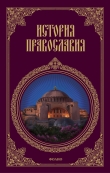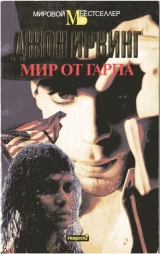
Текст книги "Мир от Гарпа"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 37 страниц)
5. В городе, где умер Марк Аврелий
Когда Дженни привезла Гарпа в Европу, он был лучше подготовлен к уединенной писательской жизни, чем большинство его сверстников. Он прекрасно себя чувствовал в своем воображаемом мире; в конце концов, его воспитала женщина, для которой уединенный образ жизни был совершенно естественным. Прошли годы, прежде чем Гарп обнаружил, что у него совсем нет друзей, причем Дженни Филдз не видела в этом абсолютно ничего странного. Ведь и у нее был всего один друг, Эрни Холм, причем их отношения носили весьма сдержанный старомодный характер.
Дженни и Гарп перепробовали с дюжину пансионов во всех районах Вены, прежде чем нашли подходящую квартиру. Эта идея принадлежала мистеру Тинчу; он полагал, что надо по очереди пожить во всех частях города, а уж потом со знанием дела выбирать себе жилье. Однако краткие остановки в пансионах больше подходили самому Тинчу, который посетил Вену летом 1913 года; но Дженни с Гарпом прибыли в этот город летом шестьдесят первого, и им скоро надоело перетаскивать пишущие машинки из одного пансиона в другой. Но именно в это время Гарп набрался впечатлений, которые впоследствии легли в основу его первой получившей известность повести «Пансион Грильпарцер». До приезда в Вену Гарп понятия не имел, что такое пансион, однако быстро уяснил, что это явно хуже гостиницы: пансион всегда меньше и невзрачнее, да и завтраком там кормят далеко не всегда. Одним словом, от пансиона можно было ожидать чего угодно. Дженни и Гарпу попадались чистенькие, удобные и приветливые заведения, но сплошь и рядом они натыкались на откровенное убожество.
Им не потребовалось много времени, чтобы выбрать район, примыкающий к Рингштрассе, длинной улице, опоясывающей самый центр старого города. В этой части Вены было практически все необходимое, к тому же Дженни, не знавшей ни слова по-немецки, здесь было намного легче – это был самый космополитичный район города, если, разумеется, это определение вообще применимо к Вене.
Гарпу очень нравилось опекать свою мать; три года изучения немецкого в Стиринге давали ему явное преимущество, и он чувствовал себя главой семьи.
– Мам, попробуй этот шницель, – авторитетно советовал он.
– А может, заказать этот «кальбснирен»? Что бы это ни было, у него занятное название, – заметила Дженни.
– Это телячьи почки, – пояснял Гарп. – Ты любишь почки?
– Не знаю, – призналась Дженни. – Наверное, нет.
Когда они наконец обосновались в собственной квартире, Гарп взял на себя всю заботу о покупках. Дженни восемнадцать лет питалась в столовой Стиринга и в результате совершенно не умела готовить, а теперь к тому же не могла прочесть ни одного кулинарного рецепта. Именно в Вене Гарп понял, какое удовольствие доставляет ему приготовление пищи. Но больше всего в Европе ему понравились туалеты. Живя в пансионах, Гарп обнаружил, что туалет – это крохотная комнатка, в которой нет ничего, кроме унитаза; с его точки зрения, первая толковая вещь, с которой он столкнулся в Европе. Он писал Хелен: «Это они здорово придумали – ходить на горшок в одном месте, а чистить зубы в другом». Разумеется, туалет тоже будет фигурировать в его рассказе «Пансион Грильпарцер».
Надо сказать, что первое время Гарп совсем ничего не писал. Он обладал редкой целеустремленностью (во всяком случае, для восемнадцатилетнего юноши), просто на него свалилось слишком много впечатлений. Если прибавить к этому новые обязанности, то легко понять, как он был занят; на протяжении нескольких месяцев его хватало лишь на письма Хелен. Новая жизнь мешала ему сосредоточиться, а без этого он не мог написать ни строчки, невзирая на все попытки сесть за письменный стол.
Сначала он попытался сочинить рассказ об одной семье; однако все придуманное сводилось к тому, что члены этой семьи жили дружно и интересно. Но этого было явно недостаточно.
Дженни и Гарп сняли квартиру с высокими потолками и обоями кремового цвета на втором этаже старого дома на Швиндгассе, маленькой улочке в Четвертом районе. Теперь они жили в двух шагах от Принц-Ойгенштрассе, Шварценбергплац и Верхнего и Нижнего Бельведеров. Гарп со временем обошел все художественные музеи города, а Дженни ограничилась посещением Верхнего Бельведера. Сын объяснил ей, что там экспонируются лишь картины девятнадцатого и двадцатого веков, но Дженни объявила, что этих двух веков ей вполне хватит. Гарп попытался уговорить ее хотя бы прогуляться через парк до Нижнего Бельведера и посмотреть на коллекцию барокко, но Дженни решительно покачала головой; она прослушала в Стиринге несколько курсов по истории искусства и считала себя достаточно подкованной в этой области.
– Ну а Брюгельс, мама? – не успокаивался Гарп. – Тебе надо всего-навсего сесть на «штрассенбан»[17]17
«штрассенбан» – Трамвай (нем.).
[Закрыть], проехать по кольцу и сойти на Мариахильферштрассе. Как раз напротив трамвайной остановки увидишь большое здание. Это и есть Художественно-исторический музей.
– Но ведь до Бельведера я могу дойти пешком, – возразила Дженни. – Зачем же мне ехать куда-то на трамвае?
Пешком можно было дойти также до церкви Святого Карла, а немного вверх по Аргентиниерштрассе располагалось несколько элегантных посольских зданий. Прямо напротив их квартиры на Швиндгассе находилось болгарское посольство. По словам Дженни, она предпочитала не удаляться от дома. В соседнем квартале было небольшое кафе; иногда она посещала его и читала там газеты на английском языке. Она никогда не ходила в рестораны без Гарпа, а дома ела только то, что он стряпал. Она была всецело поглощена идеей что-нибудь написать – на этом этапе в большей степени, чем Гарп.
– У меня сейчас нет времени заниматься туризмом, – однажды заявила она сыну. – Но ты-то как раз должен впитывать в себя культуру. Самое время для тебя.
«Впитывать и в-в-впитывать» – именно такое наставление дал им Тинч. Дженни считала, это Гарп должен ходить по музеям; что касается ее, то она чувствовала, что впитала уже вполне достаточно и настало время поведать миру свои мысли. Дженни Филдз шел сорок второй год. Ей казалось, самое важное в жизни у нее позади, и ей оставалось только писать.
Гарп дал ей свернутый листок бумаги и велел всегда носить его в сумочке. На листке был написан их адрес на случай, если она заблудится: Швиндгассе, 15/2, Вена IV. Гарпу пришлось долго разучивать с ней этот адрес – она никак не могла освоить произношение. – Швиндгассе-фюнфцейнцвай! Тьфу! Ну и словечко! – возмущалась Дженни.
– Еще раз, – требовал Гарп. – Ты что, хочешь раз и навсегда потеряться?
Итак, днем Гарп бродил по городу и присматривал места, куда можно сводить Дженни вечером, когда она оторвется от письменного стола; в каком-нибудь кафе, за кружкой пива или стаканом вина, он подробно описывал ей прошедший день. Дженни вежливо слушала. И от вина и от пива ее клонило в сон. Затем они где-нибудь плотно ужинали, и Гарп отвозил Дженни домой на «штрассенбане»; он никогда не пользовался такси, так как досконально изучил все трамвайные маршруты, чем очень гордился. Иногда по утрам Гарп ходил на рынок; в такие дни он рано возвращался домой и весь вечер проводил у плиты. Дженни ничего не имела против; ей было решительно все равно, где обедать: дома или в ресторане.
– Вот это «гумпольдскирхнер», – рекламировал Гарп бутылку вина. – Очень хорошо идет с «швайнебратен», то бишь жареной свининой.
– Какие смешные слова, – удивлялась Дженни.
Впоследствии, характеризуя ее литературный стиль, Гарп писал: «Моя мать с трудом изъяснялась на английском, понятно, что у нее не было ни малейшего желания связываться еще и с немецким».
Дженни Филдз каждый день добросовестно садилась за пишущую машинку, но как писать – не имела понятия. Хотя она и писала в физическом смысле слова, но то, что получалось, явно не удовлетворяло ее. Тогда она стала вспоминать прочитанные книги, пытаясь понять, чем они отличались от ее первых набросков. Свою книгу Дженни начала очень просто: «Я родилась…», ну и так далее. «Родители хотели, чтобы я училась в Уэлсли; однако…» «И вот я решила, что мне нужен ребенок, мой собственный. И тогда я им обзавелась. Это произошло так…» За свою жизнь Дженни прочитала много хороших книг и отдавала себе отчет, что те читались как-то совсем по-другому, а вот почему – этого она уразуметь не могла. Она частенько посылала Гарпа в те немногие книжные магазины, где продавались книги на английском языке. Она пыталась понять, с чего начинают другие писатели. Довольно скоро ее труд вырос до трехсот с лишним страниц, и все равно у нее было ощущение, что, в сущности, к своей книге она и не приступала.
Впрочем, Гарпа в свои творческие искания Дженни не посвящала; во всяком случае, сын видел ее всегда в хорошем настроении, правда, она совсем перестала о нем заботиться. Дженни Филдз твердо верила – у всего есть свое начало и свой конец. Взять хотя бы учебу Гарпа или ее собственную. Или полеты сержанта Гарпа. Ее любовь к сыну отнюдь не уменьшилась, но она чувствовала: ему больше не нужна ее опека; она довела Гарпа до некоего рубежа, и теперь он волен жить по своему разумению. Не могла же она водить его всю жизнь за ручку. Им славно жилось вместе; по правде сказать, ей и в голову не приходило, что когда-нибудь они расстанутся. Но в Вене, по ее мнению, Гарп должен был сам себя занимать. Что он и делал.
Его рассказ о жизни одной дружной семьи так и не двигался с места; ему только удалось придумать им интересное занятие. Отец – глава семьи – был инспектором общественных заведений, и вся семья дружно ему помогала. Они ездили по всей Австрии, проверяя рестораны, отели и пансионы и присваивая им соответствующие разряды «А», «В» и «С». Такая работа пришлась бы по вкусу и самому Гарпу. В Австрии, где столько туристов, подобная градация и возможность повышения или понижения разряда очень важны. Правда, Гарп никак не мог сообразить, кому и для чего. Словом, пока он только придумал семью, имеющую завидную работу. Они ездили все вместе, выискивали недостатки и ставили оценку. Ну а что дальше? Писать письма Хелен было гораздо легче.
Весь конец лета и начало осени Гарп в одиночестве знакомился с Веной, исходив и изъездив ее вдоль и поперек. Он писал Хелен: «Одна из черт юности – ощущение, что вокруг нет никого, кто бы походил на тебя и мог бы понять. Вена еще больше усиливает это чувство, здесь и в самом деле нет человека, похожего на меня».
Его впечатления были верны, по крайней мере, статистически. В то время в Вене насчитывалось немного людей одного с ним возраста. В 1943 году родилось совсем мало венцев; но что еще важнее – низкая рождаемость в период между 1938 годом (начало нацистской оккупации) и 1945-м (год окончания войны). И хотя на удивление много младенцев появилось в результате изнасилований, венцы не хотели заводить детей вплоть до 1955 года, когда кончилась русская оккупация. В общей сложности Вена прожила под иноземцами семнадцать лет. Неудивительно, что большинству ее жителей все эти годы не очень-то улыбалось обременять себя потомством. В результате Гарп жил в городе, где молодой человек его лет выглядел едва ли не белой вороной. Наверное, поэтому он так быстро повзрослел. И еще Вена вызывала в нем странное чувство: это был музей, хранивший предметы материальной культуры умершего города, заметил он в одном из писем Хелен.
Нельзя, однако, сказать, что Гарп писал это в осуждение. Ему нравилось бродить по огромному музею. «Живой город устроил бы меня меньше, – писал он позже. – Вена лежала передо мной бездыханная, я смотрел на нее, думал и смотрел, смотрел без конца. В живом городе я никогда не смог бы столько заметить. Живые города слишком непоседливы».
Словом, все теплые месяцы Т. С. Гарп провел, изучая Вену, засыпая письмами Хелен Холм и обустраивая быт матери. Ее обычная тяга к уединению усугубилась неизбежным писательским одиночеством. «Моя мама-писатель», – иронически называл ее Гарп в бесчисленных письмах Хелен. И все же он завидовал ей, потому что она что-то писала. Он же чувствовал, что его рассказ как бы застрял в нем. Он мог бы сочинить для придуманной семьи одно приключение за другим. Но что толку? Куда это их приведет? В еще один ресторан разряда «В», где десерт так плох, что о разряде «А» не приходится и мечтать? Или в еще один второразрядный отель, летящий в пропасть разряда «С» столь же неотвратимо, сколь неистребим запах плесени у него в вестибюле? Допустим, кто-то из семьи инспектора зайдет в ресторан класса «А». А дальше что? Ну, изобразит он каких-нибудь сумасшедших или даже убийц, прячущихся в одном из пансионов, но как они вмонтируются в общий замысел? Общего-то замысла у него как раз и не было.
Однажды он увидел на перроне вокзала четверых циркачей из Венгрии или Югославии, которые выгружали из вагона свой нехитрый скарб. И попытался втиснуть их в свой рассказ. С ними был медведь, который ездил на мотоцикле вокруг автостоянки. Подошли несколько человек, один из циркачей ходил на руках, собирая у зрителей деньги за представление в миску, балансирующую у него на подошвах; время от времени он падал, впрочем, и медведь падал со своего мотоцикла.
В конце концов у мотоцикла заглох мотор. Двум другим участникам труппы не удалось показать свои номера; только они хотели сменить медведя и ходившего на руках артиста, появились полицейские и потребовали оформить множество бумаг. Это было долгое и нудное дело, и толпа, если, конечно, можно так назвать горстку зрителей, разошлась. Гарп ушел последним, и не потому, что это жалкое представление жалкого цирка так уж его заинтересовало, – ему захотелось вставить их в свой рассказ. Увы, ничего толкового в голову не приходило. Уходя с вокзала, он слышал, как медведь блюет у него за спиной.
Спустя несколько недель все достижения Гарпа по-прежнему ограничивались одним названием: «Австрийское Туристическое бюро». Название ему тоже не нравилось. Гарп плюнул на сочинительство и вновь переключился на туризм.
Но вскоре похолодало, и Гарпу надоело болтаться по городу; к тому же ему показалось, что Хелен стала редко отвечать на письма; он корил ее за лень, хотя и понимал, дело не в Хелен, а в том, что он слишком много ей пишет. Она была гораздо более занята, чем он. Хелен поступила сразу на второй курс колледжа, и ей приходилось нести двойную учебную нагрузку. У Хелен и Гарпа было одно общее в годы юности – что бы они ни делали, впечатление было такое, будто они мчатся как на пожар. «Оставь бедняжку Хелен в покое, – советовала ему Дженни. – Я думала, ты собираешься писать кроме писем что-то еще». Но Гарпу не улыбалась перспектива – под одной крышей соревноваться с матерью, кто больше накатает страниц.
Ее пишущая машинка не умолкала ни на минуту; Дженни Филдз сомнений не ведала. Гарп боялся, что этот размеренный стук поставит крест на его литературной карьере еще до того, как он напишет первый рассказ. «Моя мать не знала в работе пауз для возвращения к написанному», – как-то записал он.
К ноябрю книга Дженни выросла до шестисот страниц, но ощущение, что по-настоящему она еще не приступала к ней, так и не покидало ее. Ну а у Гарпа даже не было темы. С воображением, как видно, дело иметь труднее, чем с памятью.
«Прорыв», как он назвал это в письме Хелен, случился одним холодным снежным днем в Музее истории Вены. Этот музей был всего в нескольких минутах ходьбы от Швиндгассе; он все откладывал его посещение, зная, что может зайти туда в любой день. Дженни его опередила. Этот музей удостоился чести оказаться в числе двух или трех достопримечательностей, которые она пожелала осмотреть. Разумеется, лишь потому, что он находился на противоположной стороне Карлсплац, а стало быть, как выражалась Дженни, «по соседству».
Описывая музей Гарпу, она упомянула о некоей «писательской» комнате; имя писателя она забыла. Идея иметь в музее комнату писателя показалась ей весьма интересной.
– Это что, в самом деле жилая комната, мам? – спросил Гарп.
– Да, целая комната, – подтвердила Дженни. – Они перенесли туда всю мебель этого писателя, а может, и стены с полом. Я, правда, не понимаю, как это им удалось.
– А я не понимаю, зачем вообще им это понадобилось, – возразил Гарп. – Надо же, перенести в музей целую комнату!
– По-моему, это спальня, – сказала Дженни, – кажется, он там и писал.
Гарп вытаращил глаза. По его мнению, это было просто непристойно. А что, зубная щетка писателя тоже выставлена на всеобщее обозрение? А ночной горшок?
Комната оказалась вполне обычной спальней, только кровать была слишком маленькой – почти детской. Да и письменный стол размерами не отличался. Во всяком случае, ни стол, ни кровать не говорили о значительности писателя. Мебель была темного дерева, все предметы выглядели достаточно хрупкими; и Гарп решил, что комната матери куда лучше подходит для сочинительства. Имя писателя, чью комнату столь бережно хранили в Музее истории Вены, было Франц Грильпарцер; о таком писателе Гарп и не слыхал.
Франц Грильпарцер умер в 1872 году; это был австрийский поэт и драматург, и за пределами Австрии имя его мало кому известно. Он принадлежал к тем писателям девятнадцатого века, чья известность ненамного пережила их самих; Гарп будет потом утверждать, что Грильпарцер и не заслуживал того, чтобы память о нем пережила девятнадцатый век. Ни поэзия, ни драматургия не интересовали Гарпа, но он все-таки пошел в библиотеку и прочитал одну из лучших его повестей «Бедный скрипач». Сперва он подумал, что не может по достоинству оценить этот шедевр – трехгодичного курса немецкого языка для этого, наверное, мало; во всяком случае, по-немецки он произвел на Гарпа удручающее впечатление. Тогда он откопал в какой-то книжной лавчонке на Габсбургергассе английский перевод этого рассказа; впечатление было столь же удручающим.
По мнению Гарпа, знаменитое произведение Грильпарцера представляло собой глупенькую мелодраму; кроме того, повесть была плохо построена и отличалась крайней сентиментальностью. Она слегка напомнила ему русские повести девятнадцатого века, где главным героем был романтически настроенный недотепа, начисто лишенный жизненной хватки. Но Достоевский, думал Гарп, мог хотя бы вызвать у читателя сочувствие к этим бедолагам, Грильпарцер же просто наводил скуку своей слезливой тягомотиной.
В этой же лавке Гарп увидел английский перевод «Мыслей Марка Аврелия»; он читал Марка Аврелия в Стиринге, на уроках латыни, но на английском она ему не попадалась. Владелец лавки сказал, что Марк Аврелий умер в Вене. И Гарп купил «Мысли».
«В жизни человека, – писал Марк Аврелий, – отпущенное ему время – всего лишь миг, его существование – вечная суета, его разум – тусклый свет свечи, его тело – добыча червей, его душа – бурное море, жребий его темен, слава преходяща. Стало быть, тело его – текущие воды; а душа – только сны и химеры». Гарп почему-то решил, что Марк Аврелий написал эти строки именно в Вене.
Мрачные размышления Марка Аврелия, несомненно, есть тема серьезной литературы, думал Гарп; разница между Грильпарцером и Достоевским заключалась вовсе не в теме. Дело в уме и вкусе, подытожил он, в том, что делает творение автора произведением искусства. Эта весьма банальная мысль, как ни странно, вдохновила его. Спустя много лет Гарп прочел в предисловии к книге Грильпарцера, что тот был «впечатлительным, противоречивым, временами параноидальным, часто впадающим в депрессию, эксцентричным меланхоликом; одним словом, сложным и вместе с тем современным человеком».
«Может, оно и так, – писал Гарп. – Но ко всему прочему он был еще и на редкость скверным писателем».
Убедившись в том, что Франц Грильпарцер «плохой» писатель, юный Гарп вдруг поверил в себя как в художника, не написав, в сущности, еще ни строчки. Наверное, в жизни каждого писателя бывает момент, когда ему насущно необходимо доказать себе несостоятельность какого-нибудь собрата по перу. Гарп как бы применил к бедному Грильпарцеру свой борцовский опыт. Наблюдая за поединком, где сражался его противник, и подметив его слабости, Гарп уверился, что сам он выступит лучше. Он и Дженни заставил прочитать «Бедного скрипача». Это был едва ли не единственный случай, когда ему захотелось узнать ее мнение о прочитанной книге.
– Чушь, – вынесла свой приговор Дженни. – Примитивно. Сентиментально. Слащаво.
И оба пришли в бурный восторг.
– Мне его комната не понравилась, – сказала Дженни. – Совсем не похожа на кабинет писателя.
– Ну, по-моему, это не принципиально, – вставил Гарп.
– Слишком она тесная, – настаивала Дженни. – И темная. К тому же там такой беспорядок.
Гарп заглянул в комнату матери. На кровати и на комоде были разбросаны страницы ее невероятно длинной запутанной рукописи. Листки были прилеплены даже к настенному зеркалу, так что почти не оставалось места, чтобы смотреться. И он подумал, что ее комната тоже не очень-то похожа на кабинет писателя, но промолчал.
Он послал Хелен длинное, самодовольное письмо, в котором цитировал Марка Аврелия и топтал Франца Грильпарцера. «Франц Грильпарцер умер в 1872 году. Умер раз и навсегда, – писал Гарп. – Знают его только в Вене; он вроде дешевого местного вина, сразу портится, стоит его вывезти подальше». Письмо было чем-то вроде разминки. Гимнастика перед ответственной встречей. Возможно, Хелен это поняла. Гарп напечатал его на машинке, и оно ему самому так понравилось, что он оставил себе оригинал, а Хелен послал копию. «Я чувствую себя чем-то вроде библиотеки, – пеняла ему Хелен. – Такое впечатление, что я для тебя картотечный ящик для аннотаций».
Он не знал, искренни ли ее жалобы. Но ее проблемы, в общем-то, мало волновали его, и он не стал развивать эту тему. В ответ только сообщил, что завтра садится писать. Он был уверен, что задуманный им рассказ ей понравится. Возможно, сама Хелен не была в этом столь уверена, но беспокойства своего не показывала; она с головой ушла в университетские занятия, проглатывала курс за курсом втрое быстрее однокашников. Заканчивался первый семестр, во втором она будет уже третьекурсницей. Целеустремленность и честолюбие молодого писателя не отталкивали ее, она сама настойчиво двигалась к цели и способна была оценить настойчивость других. В общем, ей нравилось, что Гарп ей пишет; она тоже была честолюбива, а его письма – она постоянно внушала ему это – были прекрасно написаны.
В Вене Дженни и Гарп вовсю издевались над несчастным Грильпарцером. К немалому удивлению, они обнаруживали по всему городу все новые и новые названия, связанные с его именем. Тут был и переулок Грильпарцера, и одноименное кафе; но венцом всему оказался торт, увиденный в одной кондитерской: он назывался «Грильпарцерторт»! Как и следовало ожидать, он был слишком приторный. Теперь, готовя матери завтрак, Гарп стал спрашивать, как ей сварить яйца – всмятку или «а-ля Грильпарцер». А однажды в Шёнбруннском зоопарке они увидели очень уж нескладную антилопу с тощими и грязными боками; она грустно стояла одна в узком загаженном загончике. Гарп тут же окрестил ее: «гну Грильпарцера».
В свою очередь, Дженни как-то повинилась Гарпу, что допустила «грильпарцерство»: неожиданно вставила в роман сцену, которая действует на нервы, как вой сирены. Это была сцена кровопускания в бостонском кинотеатре. «В кинозале, – писала Дженни Филдз, – какой-то солдат, пожираемый похотью, стал ко мне приставать».
– Да, мам, эта сцена в самом деле никуда не годится, – согласился Гарп.
По мнению Дженни, «грильпарцерством» здесь было словосочетание «пожираемый похотью».
– Но это так и было, – оправдывалась Дженни. – Это была похоть чистой воды.
– Уж лучше сказать «распаляемый похотью», – предложил Гарп.
– Фу, – сказала Дженни. – Еще одно «грильпарцерство».
Проблемой была сама похоть, а не то, как ее описать. Разговорились о похоти. Гарп признался в своей страсти к Куши Перси и изложил ей слегка отретушированную версию их «первой брачной ночи». Дженни это не понравилось.
– А как же Хелен? – спросила она. – К ней ты тоже испытываешь нечто подобное?
Гарп сознался и в этом грехе.
– Какой ужас! – воскликнула Дженни. Ей самой эти чувства были незнакомы, и она не могла себе представить, как это Гарп может смешивать похоть с любовью.
«Тело – текущие воды», – не совсем к месту процитировал Гарп Марка Аврелия; мать только покачала головой. Они обедали в ресторане, где все было ярко-красного цвета, по соседству с Блутгассе.
– Кровавый переулок, – перевел Гарп, крайне довольный своими знаниями немецкого языка.
– Перестань переводить все подряд, – сказала Дженни. – Я совсем не хочу все знать.
На ее вкус в зале было чересчур много красного и слишком дорогая еда. К тому же их очень медленно обслуживали, и они возвращались домой позже, чем обычно. Вечер был очень холодный, а веселые огни Кёрнтнерштрассе согреть их при всем желании не могли.
– Давай возьмем такси, – предложила Дженни. Но Гарп, верный себе, заявил, что через пять кварталов трамвайная остановка.
– Черт бы побрал твои «штрассенбаны», – пробурчала Дженни.
Было ясно, что тема «похоти» безнадежно испортила ей вечер.
Первый район сверкал традиционной рождественской безвкусицей; между взметнувшимися ввысь шпилями Святого Стефана и массивным зданием оперы расположились семь кварталов, состоящих исключительно из магазинов, баров и отелей; идя зимой по этим кварталам, можно было спутать Вену с любым другим американским или европейским городом.
– Как-нибудь выберемся в оперу, мам, – сказал Гарп. Они жили в Вене уже полгода и еще ни разу не были в опере: Дженни не любила поздно ложиться спать.
– Сходи один, – ответила она сыну.
Впереди на тротуаре стояли три женщины в длинных меховых шубах: у одной была муфта из того же меха. Время от времени она подносила муфту ко рту и дышала в нее, чтобы согреть руки. На нее было приятно смотреть, а вот подругам женщины явно недоставало ее элегантности; они напоминали дешевые рождественские украшения. Дженни очень понравилась муфта.
– Вот что мне нужно, – заявила она. – Где бы мне достать такую? – она махнула рукой в сторону женщин; Гарп не понял, что именно она имела в виду.
Он прекрасно знал, что это проститутки.
Когда проститутки увидели Дженни, идущую в сопровождении Гарпа, они не сразу поняли, что это за пара. Красивый юноша вел под руку скромно одетую привлекательную женщину, по возрасту годившуюся ему в матери; но Дженни держалась весьма официально, и в разговоре у них чувствовалось какое-то напряжение, даже неловкость. По крайней мере, так это выглядело со стороны, из чего проститутки сделали вывод, что Дженни не может быть матерью Гарпа. Тут Дженни махнула в их сторону, чем сильно их рассердила; они решили, что Дженни того же поля ягода, что и они, незаконно вторглась на их территорию и только что подцепила клиента, состоятельного по виду и явно готового поразвлечься, который мог бы достаться им самим.
В Вене проституция существовала легально, правда, под строгим контролем. У проституток было что-то вроде профсоюза; все они имели учетные карточки и периодически проходили медицинское обследование. Только самым привлекательным разрешалось работать на фешенебельных улицах Первого района. Чем дальше от центра, тем они старше или страшнее, а чаще всего и то и другое; и, разумеется, дешевле. Считалось, что в каждом районе установлены свои цены. Увидев Дженни с Гарпом, проститутки выстроились на тротуаре, загородив им путь. Они быстро определили, что Дженни не тянет на высшую категорию и, вероятнее всего, работает самостоятельно, что тоже незаконно. Так или иначе, ее ожидают серьезные неприятности, уж об этом-то они позаботятся.
По правде говоря, большинство людей никогда не приняли бы Дженни за проститутку, но по внешнему виду было трудно определить, к какому классу общества она принадлежит. Дженни столько лет не снимала платья медсестры, что, приехав в Вену, встала в тупик: что же ей носить? Идя с Гарпом на прогулку, она часто одевалась слишком шикарно, возможно, компенсируя этим старый халат, в котором сидела за машинкой. Она не умела покупать одежду, да и все вещи в чужом городе казались ей чуть-чуть странными. Не имея своего стиля, она просто покупала все самое дорогое; в конце концов, деньги у нее были, а вот желания ходить по магазинам и выбирать наряды – никакого. Поэтому она всегда была расфуфырена, особенно по сравнению с Гарпом, и, случайно обратив на них внимание, вы вряд ли сказали бы, что это мать и сын. Гарп и в Вене остался верен пиджаку, галстуку и удобным брюкам. В этом классическом городском костюме человека среднего достатка он мог смешаться с любой толпой.
– Спроси, пожалуйста, эту женщину, где она купила свою муфту, – сказала ему Дженни, с удивлением заметив, что троица, выстроившись в шеренгу, двинулась им навстречу.
– Это проститутки, мама, – шепнул ей Гарп.
Дженни Филдз остолбенела. Женщина с муфтой довольно грубо заговорила с ней. Разумеется, Дженни не поняла ни слова и вопросительно взглянула на Гарпа, ожидая перевода. Женщина продолжала обвинительную речь; а Дженни, в свою очередь, не отрывала глаз от сына.
– Моя мать хотела бы спросить вас, где вы купили эту прелестную муфту, – произнес наконец Гарп, тщательно выговаривая немецкие слова.
– Ой, это иностранцы! – воскликнула одна из них.
– Боже, это его мать! – сказала другая.
Женщина с муфтой, тотчас умолкнув, уставилась на Дженни; Дженни перевела взгляд с Гарпа на муфту. Одна из проституток была совсем еще молоденькая девушка с очень высокой прической, усеянной золотыми и серебряными звездочками; на щеке у нее красовалась татуировка в виде зеленой звезды, а на верхней губе – маленький шрам, почти незаметный, так что с первого взгляда трудно было понять, что за неправильность у нее в лице; что-то не так, это ясно, – но что именно, сразу не скажешь. Зато с фигурой у нее был полный порядок: высокая, стройная, словом, не отвести глаз. Во всяком случае, Дженни, оторвавшись от муфты, устремила взгляд на нее.
– Спроси, сколько ей лет, – сказала она Гарпу.
– Их бин восемнадцать, – ответила девушка. – Я по-вашему хорошо говорю.
– Надо же, как и моему сыну, – сказала Дженни, толкнув Гарпа локтем.
Разумеется, ей и в голову не могло прийти, что они приняли ее за свою. Спустя какое-то время Гарп объяснил ей это, чем привел в ярость. Гневалась она исключительно на себя.
– Это все из-за одежды! – бушевала Дженни. – Я совершенно не умею одеваться!
И с того дня Дженни Филдз уже не расставалась со своей униформой, словно заступила на вечное дежурство, но вернуться к своей профессии ей никогда больше не пришлось.
– Можно мне взглянуть на вашу муфту? – спросила Дженни у ее хозяйки; Дженни думала, что они все ее понимают, но понимала только молодая девушка. Гарп перевел ее просьбу, женщина неохотно стянула муфту, и в воздухе разлился аромат духов, исходивший из теплого гнездышка, где только что покоились ее узкие, унизанные кольцами руки.