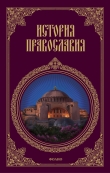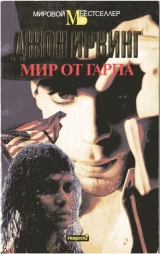
Текст книги "Мир от Гарпа"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Нравились Хелен и светлые бачки Майкла Милтона, которые были длиннее обычных и слегка курчавились. Гарп же подбривал виски высоко, вровень с уголками темно-карих глаз, волосы у него были густые и лохматые и прикрывали ухо, изжеванное Балдежкой.
В последние месяцы чудачества мужа начали раздражать ее. Вполне возможно, они стали заметнее, поскольку Гарпу давно не писалось и он бесился сильней, чем обычно: ведь когда он не отрывался от письменного стола, времени на всякие глупости не оставалось. Во всяком случае, Хелен стала от них уставать. Взять хотя бы его дурацкую манеру въезжать на машине в гараж, не включая фар, которая и раньше возмущала ее. Никакой логики в поведении – трястись от страха за своих детей, объявить войну лихачам-водителям, панически бояться утечки бензина и таким безумным образом въезжать в гараж.
Трюк Гарпа заключался в следующем. Подъезд к дому шел резко в гору после длинного пологого спуска. Когда Гарп бывал уверен, что дети уже легли, он на подъеме отключал мотор и фары и въезжал вверх на холостом ходу: разгонялся на спуске так, что инерции хватало на крутой подъем и въезд в абсолютно темный гараж. Он уверял, что боится разбудить детей фырчанием мотора и светом фар. Очередная нелепость. Через пять минут ему все равно приходилось включать газ и зажигать фары, чтобы отвезти домой девушку, сидевшую с мальчишками. Этот трюк со слепым въездом в гараж был, по мнению Хелен, опасным ребячеством, который Гарп проделывал единственно ради острых ощущений. Сколько он подавил игрушек, оставленных детьми во дворе, сколько поломал стоявших в гараже велосипедов!
Однажды няня пожаловалась Хелен – ей страшно спускаться под гору с отключенным двигателем и фарами. Еще новый фокус – Гарп съезжал под гору с выключенными фарами, включая их перед самым выездом на дорогу.
«Может, это я сама стала нервничать из-за пустяков?» – недоумевала Хелен. До сих пор она за собой этого не замечала. Как давно, спрашивала она себя, все эти Гарповы штучки стали ее по-настоящему раздражать? Трудно сказать, одно очевидно: замечать свое раздражение она стала почти с того самого дня, когда прочитала ответ Майкла Милтона.
Хелен ехала к себе на работу, размышляя над тем, что сказать этому грубому и самонадеянному мальчишке, как вдруг отломился набалдашник переключения передач, поцарапав запястье. Произнеся все известные ей неприличные слова, она вырулила «вольво» к обочине и осмотрела поврежденную руку и сломанный рычаг.
Набалдашник шатался уже много недель; у него сорвалась резьба, и Гарп несколько раз пытался поправить дело с помощью скотча. Хелен ворчала: так могут чинить только придурки, у которых вместо головы задница. Впрочем, Гарп никогда не утверждал, что у него золотые руки, к тому же по семейному раскладу забота о машине лежала не на нем, а на Хелен.
Разделение труда в общих чертах было давно оговорено, хотя иногда бывали и неувязки. Так, Гарп занимался хозяйством, но гладила Хелен. «Это потому, – объяснял Гарп, – что ты любишь глаженое белье». И она же следила за машиной. «Ты ею пользуешься каждый день и лучше знаешь, в порядке ли она». Что касается глажения, с этим Хелен была согласна, а вот следить за машиной, по ее мнению, надлежало все-таки Гарпу. Ей не улыбалось добираться со станции техобслуживания до работы на грузовичке ремонтников, сидя в промасленной кабине рядом с каким-нибудь молоденьким механиком, обращавшим куда больше внимания на нее, чем на дорогу. Относились к ней на станции приветливо, но Хелен просто не выносила комедию с выяснением вопроса, кто подбросит ее до работы.
– Эй, ребята, кто более или менее свободен? Надо подвезти миссис Гарп до университета! – крикнет босс в сырую, пропахшую смазочным маслом черноту ям, где орудуют механики. На его призыв тут же отзовутся трое или четверо, все как на подбор белозубые и перепачканные грязью и копотью. Они побросают на дно гаечные ключи и плоскогубцы с игольчатыми носами, подтянутся, чтобы выбраться из своих ям, и стремглав подбегут к ней, горя желанием – пусть ненадолго, всего на одно головокружительное мгновение – разделить тесную, заваленную звякающими запчастями кабину грузовичка с профессором Гарп, едущей к себе на работу.
«Зато, когда меня надо везти из гаража, – говорил Гарп, – поиски добровольцев продолжаются довольно долго». Ему нередко приходилось торчать в гараже по целому часу, пока кто-нибудь сжалится над ним и увезет домой. Вот утро и погибло, и опять ни строчки не прибавилось, так что Гарп решил: пусть машиной занимается Хелен.
Что касается набалдашника, тут они виноваты оба.
– Позвони и закажи новый, – предложила утром Хелен. – А я заеду к ним и подожду, когда они его приделают. Не оставлять же у них машину на весь день, пока они будут чесать там задницу, прилаживая старый. – Она дала мужу набалдашник, он пошел и кое-как приладил его с помощью скотча.
Набалдашник почему-то всегда слетал, когда машину вела она, а не Гарп. Впрочем, и то верно, что она ездила на машине куда чаще, чем он.
– Черт! – воскликнула она, когда набалдашник свалился ей прямо в руку. Хелен так и поехала дальше, переключая скорость без набалдашника. Металлический прут царапался, и кровь с пораненного запястья слегка испачкала новую юбку. Припарковавшись, она вышла из машины, набалдашник в руке, и пошла через всю стоянку к своему корпусу. По дороге решила было выкинуть его в водосточную канаву, но заметила на нем какие-то маленькие цифры и подумала, что надо позвонить на станцию, сообщить им номера. А выкинуть набалдашник можно и потом. Но самое лучшее – взять и послать его Гарпу бандеролью.
В таком вот настроении, досадуя из-за этой чепухи, Хелен столкнулась с молодым человеком, слонявшимся в коридоре у дверей ее кабинета. Как всегда – на лице самомнение и две верхние пуговицы красивой рубашки расстегнуты. Она сразу отметила – широкие плечи твидового пиджака слегка подбиты ватой, волосы жидковаты и слишком длинны, а один кончик тонких, как лезвие ножа, усов чуть дальше прорезал щеку за уголком рта. Хелен не знала, чего ей хотелось: любить этого молодого человека или привести в порядок его внешность.
– Я вижу, вы рано встаете, – заметила она, отдав ему набалдашник, чтобы открыть дверь кабинета.
– Вы что, поранились? – спросил он. – У вас идет кровь!
Позже Хелен подумает, у него, должно быть, особое чутье на кровь: царапина на запястье почти перестала кровоточить.
– Уж не хотите ли вы стать врачом? – поинтересовалась Хелен, пропуская Майкла вперед.
– Я поступал на медицинский, – ответил он.
– И что же вас от него отвратило? – спросила она, стараясь не глядеть на него и перекладывая бумаги на столе с места на место, хотя в этом не было особой нужды. Затем поправила жалюзи, хотя они были поставлены под тем утлом, какой нужен, сняла очки и только тогда подняла на него глаза: черты его лица показались ей мягкими и смазанными.
– Органическая химия! – изрек он. – Завалил экзамен. Кроме того, хотелось пожить во Франции.
– Вы, значит, жили во Франции? – спросила Хелен, зная, что именно этого вопроса он и ожидал. Он, видно, этим гордился, упоминая о Франции к месту и не к месту, ухитрившись вставить это обстоятельство даже в анкету.
Хелен сразу поняла: ум у него поверхностный, дай Бог, чтобы вообще был. Эта мысль принесла ей некоторое облегчение, точно он стал от этого менее опасен и можно было вздохнуть свободнее.
Какое-то время поговорили о Франции, что доставило Хелен удовольствие, она могла говорить о ней не хуже Майкла Милтона, хотя ни разу не была в Европе. Между прочим она заметила ему, что он выбрал ее семинар по самой несерьезной причине.
– Несерьезной, вы считаете? – улыбнулся он, пойдя в наступление.
– Во-первых, – ответила Хелен, – это неосуществимо.
– У вас есть любовник? – спросил он, продолжая улыбаться.
Странным образом его нагловатая манера не обижала; другому она нашлась бы что ответить: во-первых, ей мужа вполне достаточно, во-вторых, дурно совать нос в чужие дела и, в-третьих, у него еще молоко на губах не обсохло. Ему же она сказала только, что для начала ему не худо бы записаться в группу самостоятельных занятий. Он ответил, что готов хоть сейчас. На что Хелен заметила, что во втором семестре она не берет себе новых студентов в эту группу.
Хелен понимала, она не дала ему окончательно от ворот поворот. Но и надежд особых тоже не вселила. Они проговорили час, Майкл Милтон серьезно расспрашивал ее о проблемах повествования. Интересно рассуждал о романах Вирджинии Вулф «Волны» и «Комната Иакова», но поплыл, когда коснулись романа «К маяку», а «Миссис Дэллоуэй», как ей показалось, не читал вообще. Когда он наконец ушел, она внутренне согласилась с мнением своих коллег: он действительно и бойкий, и самодовольный, и поверхностный, и при этом не слишком приятный. Правда, в нем было остроумие, неглубокое, но яркое и тоже почему-то не вызывавшее особых симпатий. Но двух вещей ее коллеги явно не заметили: его дерзкой улыбки и манеры носить одежду, как будто на нем ее вообще не было. Ее коллеги были мужчины, им дерзкая улыбка и не предназначалась. Ей же его улыбка говорила: «Я все о тебе знаю, и знаю, что ты любишь». Да, эта улыбка могла бесить, но для Хелен она была соблазном: стереть, во что бы то ни стало стереть ее с лица Майкла Милтона. А стереть ее можно одним – доказать ему, что он вовсе ее не знает, и тем более не знает ее вкусов.
Правда, Хелен понимала, что в ее распоряжении не так-то много возможностей это доказать.
Сев в «вольво», Хелен включила скорость и больно поцарапала ладонь острым концом переключателя передач. Хелен помнила, куда Майкл Милтон положил набалдашник, – на подоконник, прямо над корзинкой для мусора. Когда придут убирать комнату, его обнаружат и тут же, конечно, выкинут. «Но я забыла сообщить в гараж цифры!» – пронеслось у нее в голове. Значит, придется звонить на станцию техобслуживания – ей или Гарпу – и заказывать новый набалдашник без этих чертовых цифр; марку, год выпуска машины и все прочее они сообщат, но у набалдашника, конечно, своя собственная маркировка.
Повернуть обратно? Но ей так не хотелось возвращаться на работу. Звонить уборщице и просить ее не выкидывать набалдашник? Но в голове столько всяких дел, что обременять себя еще одним нет сил. Да к тому же его, наверное, выбросили.
Во всяком случае, подумала Хелен, в этой дурацкой истории с набалдашником они с Гарпом виноваты оба. Или, вернее, не виноват никто. Просто так получилось.
Впрочем, какую-то вину она за собой чувствовала, пока совсем крошечную. Майкл Милтон дал ей почитать свои старые работы для других семинаров. Она взяла их и прочла. Это был законный, вполне невинный повод для очередной беседы. Немного осмелев и привыкнув к ней, он как-то принес и свои художественные опусы – несколько рассказов и трогательные стихи о Франции. И Хелен так и продолжала считать свои долгие с ним беседы творческими консультациями.
Вместе пообедать – ничего предосудительного, ведь они обсуждают его очередную работу, уговаривала она себя. Возможно, оба они понимали, что эти его работы не Бог весть что. Но для Майкла Милтона годился любой повод, чтобы побыть наедине с ней. Что же касается Хелен, ее тревожил один очевидный вопрос: вот кончились все работы и доклады, что он когда-то писал; вот обговорены все, какие положено, книги, – чем они займутся тогда? Она знала, это ее проблема, у Майкла Милтона сомнений на этот счет не было. Он ждал самонадеянно, раздражая ее этой самонадеянностью, когда она наконец примет решение. Порой она задавалась вопросом, хватит ли у него смелости повторить то, что он написал в той анкете; честно говоря, она думала, что не хватит. Скорей всего, оба знали, ему не придется этого делать, следующий шаг, очевидно, был за ней. У него хватит терпения ждать – доказательство, что он взрослый мужчина. А Хелен же очень хотелось щелкнуть его по носу.
Среди обуревавших ее незнакомых чувств было одно, которое ей не нравилось, – чувство вины. К нему было особенно трудно привыкнуть; всю жизнь Хелен Холм гордилась своей непогрешимостью, и ей очень хотелось вернуть себе это чувство. Она почти преуспела в этом, но сознание своей правоты все-таки полностью не возвращалось.
Помог ей в этом Гарп. Вероятнее всего, он вдруг почувствовал, что у него есть соперник. Много лет назад он начал писать, подстегиваемый как раз чувством соперничества. И вот теперь оно помогло ему справиться с задержавшейся творческой паузой.
Хелен, он убедился, читает другого автора! Он, конечно, не мог и помыслить, что Хелен волнует что-то помимо литературы; в нем взыграла чисто писательская ревность: ее лишают по ночам сна слова, написанные не им!
В свое время он завоевал Хелен с помощью «Пансиона Грильпарцер». Инстинкт подсказал ему, что он должен прибегнуть к этому способу и теперь.
Для начинающего писателя это действенный стимул; вряд ли сегодня он мог бы иметь тот же эффект, особенно если учесть, что Гарпу столько времени не писалось. Возможно, эта пауза была необходимым этапом творчества – временем, когда собирают камни, опустевший колодец заполняется водой, в безмолвной душе рождается новая книга. Рассказ, написанный сейчас для Хелен, отражал то печальное обстоятельство, что он родился от насилия, которому автор подверг самого себя. Он появился на свет не как отражение глубинных процессов жизни; Гарп написал его, чтобы дать выход писательской ревности.
Вполне возможно, рассказ был хорошей разминкой для автора, который долго ничего не писал. Но Хелен не стала вникать, почему для Гарпа этот рассказ был так важен.
– Наконец я довел что-то до конца, – сказал он жене.
Разговор этот был после ужина, когда дети ушли спать; сегодня Хелен особенно нуждалась в близости с Гарпом; она жаждала долгой, всепоглощающей любви; у Майкла Милтона наконец-то иссякла вся письменная продукция; Хелен нечего было читать, а им нечего обсуждать вместе. Она знала, нельзя бросить ни одного, даже мимолетного взгляда недовольства на рукопись мужа, но она так от всего устала, что в тупом молчании взирала на брошенные рядом с грязной посудой листы.
– Посуду я вымою, – поспешил сказать Гарп, освобождая место для рукописи. Сердце у нее упало, она по горло сыта чтением. Наступило время секса или просто излияния нежных чувств; если этого не даст ей Гарп, его заменит Майкл Милтон.
– Я хочу твоей любви, – сказала Хелен мужу; а он не спеша, аккуратно убирал грязную посуду, как официант, уверенный в солидных чаевых.
– Прочти рассказ, Хелен, – рассмеялся он. – И тогда перейдем к любви.
Такая раскладка ее не устраивала. Конечно, не могло быть сравнения между профессиональным письмом Гарпа и студенческими работами Майкла Милтона; среди студентов Майкл выделялся одаренностью, но она знала, писателем ему не быть. Литература не была его призванием. Сейчас его призванием была она. А ей так хотелось нежности. Отношение к ней Гарпа вдруг показалось ей до слез обидным. В сущности, предметом его обожания была не она, а его собственные сочинения. Любви между ними нет, так ей сейчас казалось. Благодаря Майклу Милтону она сильно обогнала Гарпа в понимании высказанного и невысказанного в отношениях между людьми. «Если бы только люди говорили друг другу все, что думают», – написала когда-то Дженни Филдз. Наивное, вполне простительное заблуждение; и Гарп и Хелен знали – на свете ничего нет труднее этого.
Гарп тщательно мыл посуду, ожидая, пока Хелен прочтет рассказ. По привычке взяв красный карандаш, она стала читать первую страничку. «Нет, мои рассказы так не читают. Я все-таки не один из ее студентов», – подумал Гарп, но ничего не сказал, продолжая мыть посуду как ни в чем не бывало. Он видел, Хелен сейчас лучше не трогать.
«БДИТЕЛЬНОСТЬ» Т. С. Гарп
«Каждый день я делаю пятимильную[33]33
Пять миль – Примерно 8 км.
[Закрыть] пробежку, и почти каждый день возле меня притормаживает какой-нибудь словоохотливый водитель.
– Для чего тренируетесь? – спрашивает он.
– Поддерживаю форму, чтобы гоняться за машинами, – отвечаю я, ровно и глубоко дыша. Вся штука в том, что во время бега я почти никогда не сбиваюсь с дыхания.
На эти мои слова все отвечают по-разному – в меру собственной глупости, ведь глупость, как и все остальное, распределена между людьми неравномерно. Единодушны они в одном – я буду гоняться именно за их машиной. Я не идиот догонять машину на шоссе и позволяю насмешникам катить восвояси, хотя иной раз мне кажется, я мог бы кое-кого догнать и здесь. И конечно, я бегаю не для форсу, как мне кричат иные водители.
Просто в моем околотке подходящего места для бега нет. Пригороды не годятся даже для бега на средние дистанции. А там, где живу я, на каждом перекрестке по четыре стоп-сигнала; кварталы коротенькие, и от бесконечных, под прямым углом поворотов начинают болеть подушечки на ступнях. Кроме того, на тротуарах полно собак, детских игрушек, можно угодить и под брызги газонных увлажнителей. А если и есть свободное пространство, как правило, первым его захватит старик, ковыляющий на костылях, либо пенсионер, вооруженный увесистой тростью. Человек совестливый не может крикнуть такому: «Дорожку!» Даже если промчаться мимо на безопасном расстоянии с моей скоростью, старики пугаются до смерти. А вгонять людей в инфаркт – не в моих правилах.
Вот я и тренируюсь на шоссе. А гоняюсь за машинами в моем пригороде. Здесь я достойный соперник водителям, любящим превышать скорость. Если машина, пусть неохотно, останавливается у каждого стоп-сигнала, ей никогда не разогнаться между двумя перекрестками до скорости пятьдесят миль[34]34
Пятьдесят миль – Около 80 км.
[Закрыть]. Тут я ее и настигаю. Бегу прямо по газонам, перемахивая по дороге через одно-два крыльца, детские качели, надувные резиновые ванночки и живые изгороди (если же они чересчур высоки, я сквозь них проламываюсь). А поскольку мой двигатель работает всегда бесшумно, надежно и ритмично, я прекрасно слышу приближение машины и у стоп-сигнала не останавливаюсь.
В конце концов я нагоняю машину, жестом указываю на обочину, и водитель неизменно мне подчиняется. Я, конечно, в блестящей спринтерской форме, но их путает не это. Я предстаю перед ними в образе разгневанного отца, и у них начинают дрожать коленки: ведь почти все они безусые юнцы, и мой вид почти всегда действует на них отрезвляюще. Начинаю я просто:
– Вы не видели здесь моих детей? – В громком голосе у меня слышна тревога. Когда лихач-водитель слышит подобный вопрос, он тут же начинает сомневаться, не переехал ли он как-то случайно моих детей. И сразу теряет бойцовские качества.
– У меня двое малышек, – продолжаю я, и мой голос в этом месте начинает театрально дрожать.
Со стороны кажется, что я едва сдерживаю рвущиеся наружу слезы или неописуемую ярость, а может, и то и другое вместе. Водители, наверное, думают, что я ищу похитителя детей или подозреваю их в растлении малолетних.
– Что тут случилось? – неизменно спрашивают они в ответ.
– Вы не видели моих детей? – повторяю я свой вопрос. – Мальчик везет в красной коляске маленькую девочку.
Это, конечно, выдумка чистейшей воды. Ведь у меня двое мальчиков, они совсем не такие маленькие, и никакой коляски у них нет. В это время они, скорее всего, смотрят телевизор или гоняют на великах в парке – там безопасно, машины не ездят.
– Не видел, – отвечает сбитый с толку водитель. – Вообще, какие-то дети по дороге встречались. Но, кажется, это не ваши. А в чем дело?
– А в том, – говорю я, – что вы их чуть было не задавили.
– Но я их и в глаза не видел, – возмущается нарушитель.
– Еще бы, неслись как угорелый, – отвечаю я. – Превысили скорость и ничего не видели.
Мои слова воспринимаются как неопровержимое доказательство виновности. Своим жестким тоном я даю понять, что запираться бесполезно. А он действительно ни в чем не уверен. Отрепетировано у меня все превосходно – капли пота от бешеной гонки начинают капать с усов, прокладывая бороздки на дверце машины. И лихач понимает: только отец, действительно волнующийся за жизнь детей, способен мчаться, как спринтер, выглядеть, как маньяк, и к тому же носить такие злодейские усы.
– Прошу прощения, – обычно говорит он.
– У нас в округе полно детей, – отвечаю я на это. – Превышать скорость можно прекрасно где-нибудь в другом месте. Пожалуйста, ради детей не надо больше здесь ездить так быстро. – Голос на этот раз звучит не злобно, а умоляюще, но лихач видит: мои честные, увлажненные слезами глаза все равно горят фанатическим блеском.
Обычно за рулем совсем мальчишка. У них просто зуд какой-то – жечь бензин на всю катушку. Может, водителей подстегивает бешеная музыка, рвущаяся из радиоприемника во время езды? Разумеется, я отнюдь не собираюсь их перевоспитывать. Моя цель – изгнать лихачей из моего пригорода. На шоссе гоняйте сколько угодно. Шоссе, я согласен, другое дело. Когда я там тренируюсь, то знаю свое место и бегу по обочине, придорожному горячему песку, гравию и осколкам от пивных бутылок, стараясь не наступить на раздавленную кошку, убитую ветровым стеклом птицу или использованный презерватив.
Обычно мой фарс срабатывает.
После пятимильной пробежки делаю пятьдесят пять отжиманий, пятьдесят пять приседаний, затем пять раз бегу стометровку и наконец делаю пятьдесят пять наклонов. Дело не в том, что мне так уж нравится число пять: когда ум отключен, так легче считать тяжелые физические упражнения. После душа (около пяти после полудня) и до самого вечера позволяю себе выпивать не более пяти банок пива.
Вечером я за машинами не гоняюсь. Вечерами детям не позволяют играть вне дома – ни в моем пригороде, ни в соседнем. Вечером, думается мне, автомобиль – король современного мира. Даже в пригородах.
Вечером я и сам редко выхожу из дому и отпускаю домочадцев. Правда, помню, мне как-то пришлось выйти после заката, чтобы расследовать дорожную аварию. Сижу в гостиной, вдруг тьму за окном прорезал свет фар, метнувшийся вверх и тут же погасший. Тишину взорвал скрежет металла и дребезг разбитого стекла. Всего в полуквартале от дома, посередине улицы лежал перевернутый «лендровер», из которого, как струйка крови, вытекали бензин и масло: лужа при этом получилась глубокой и ровной и, как зеркало, отражала луну. «Лендровер» напоминал подорвавшийся на мине танк. Прочерченные на асфальте полосы говорили, прежде чем очутиться здесь, машина не один раз перевернулась.
С трудом приоткрыв дверцу со стороны водителя, я чудом включил дверную лампочку: в кабине, за рулем, вверх ногами, но живой, сидел толстый водитель. Похоже, целый и невредимый. Макушка его упиралась в крышу, которая теперь, естественно, была полом, но водитель, кажется, не вполне осознавал перемену декораций. Больше всего он был озадачен присутствием большого коричневого шара, находившегося рядом с его головой, как бы дублируя ее; водитель прижимался щекой к шару, точно это была, ну, скажем, отсеченная голова любовницы, еще недавно покоившаяся на его плече.
– Это ты, Роджер? – спросил мужчина, и я не совсем понял: адресуется ли это мне или шару.
– Нет, – ответил я сразу за нас обоих.
– Этот Роджер – кретин, – пояснил мужчина. – Шары перепутал!
Предполагать в словах толстяка извращенно-сексуальный смысл не хотелось. Скорей всего, подумал я, речь идет о шарах кегельбана.
– Этот вот шар – Роджера, – пояснил он, тыча пальцем в коричневую округлость возле своей щеки. – Я должен был сразу догадаться, что это не мой шар, потому что он никак не влезал в мой портфель. Мой шар влезает в чей угодно портфель, а его шар какой-то странный, не лезет. Я пихал его, пихал, тут «лендровер» и покатился с моста.
Зная, что никаких мостов поблизости нет, я все же пытался представить себе эту картину. Но меня привлекли булькающие звуки вытекающего бензина – так булькает пиво в горлышке бутылки, которую запрокинул мучимый жаждой работяга.
– Вам лучше выйти из машины, – посоветовал я перевернутому вниз головой любителю кегельбана.
– Нет, подожду Роджера, – ответил тот. – Он сейчас подъедет.
Действительно, скоро появился еще один «лендровер», точная копия первого. Роджеровский «лендровер» подъехал с выключенными фарами и, не успев затормозить, стукнул машину толстяка; оба «лендровера», как сцепленные товарные вагоны, со скрежетом пропахали по мостовой еще ярдов десять[35]35
Десять ярдов – Около 9 м.
[Закрыть].
Похоже, что Роджер и в самом деле был полный кретин, но я ему этого не сказал, а задал всего один вопрос:
– Вы Роджер?
– Угу, – ответил тот из глубины ходившего ходуном второго «лендровера»: внутри машины было темно, мелкие осколки ветрового стекла, фар и решетки дождем сыпались на мостовую.
– Кто же еще как не Роджер! – простонал из своего «лендровера» толстый любитель кегельбана, сидевший все еще в прежней позе. Я с трудом разглядел, что из носа у него течет струйка крови, – в чем наверняка был виноват шар.
– Кретин ты, Роджер! – крикнул он. – Увез мой шар!
– Мой тоже кто-то увез, – отозвался тот.
– Идиот, он же у меня! – объявил толстяк.
– Ну так это еще не все, – произнес Роджер. – У тебя не только мой шар, но и мой «лендровер».
Роджер не спеша закурил сигарету, он явно не торопился выбраться из темной разбитой кабины.
– На вашем месте я бы включил фары, – посоветовал я. – А толстяку надо скорее выбраться из вашей машины. И лучше бы не курить, крутом разлит бензин.
Роджер не обратил внимания на мои слова и, продолжая дымить, молча сидел в темном чреве второго «лендровера». Сидевший вниз головой толстяк опять крикнул свое: «Это ты, Роджер?», словно ему повторно прокрутили только что приснившийся сон.
Вернувшись домой, я поспешил позвонить в полицию. Случись столь вопиющее нарушение дорожных правил днем, я бы непременно сам занялся им, но случай был явно особенный: любители кегельбана перепутали не только шары, и я решил предать их в руки закона.
– Полиция? – спросил я.
Я хорошо знаю, что можно ожидать от нашей полиции. Наша полиция не очень-то любит арестовывать людей; сколько ни сообщай о злостных нарушителях дорожных правил, толку никакого. Говорят, что есть особая категория граждан, которых полиция задерживает с удовольствием, но лихачи-водители к ним не относятся. А потому она и не жалует борцов с такими нарушителями общественного порядка.
Я сообщил местонахождение пострадавших машин и в ответ на традиционный вопрос, кто обратился в полицию, ответил: «Роджер».
Зная своих полицейских, я не сомневался, эта информация для них важнее всего. Они любят пощекотать нервы тому, кто их потревожил. И, ясное дело, прибыв на место происшествия, они тут же принялись допекать Роджера. Я видел, как они оживленно беседуют с ним, стоя под фонарем, но разговор до меня доносился лишь урывками.
– Да, он Роджер, – то и дело повторял толстый любитель кегельбана. – Это он, он самый.
– Говнюки, я не тот Роджер, что вызывал вас, – клялся Роджер.
– И это верно, – подтвердил толстяк. – Этот Роджер, озолоти его, не обратится в полицию.
Спящая округа вскоре огласилась криками полицейских:
– Эй, Роджер! Здесь есть еще Роджер?
– Роджер! – завопил толстый любитель кегельбана.
Но все темные дома квартала, включая и мой, благоразумно безмолвствовали. С первым проблеском дня здесь все равно ничего не останется. Кроме разве что пятен бензина и осколков стекла на асфальте.
Испытывая огромное удовольствие при виде искалеченного автомобильного транспорта, наблюдал я за сценой, затянувшейся почти до рассвета. Сцепленные громоздкие «лендроверы» были растащены в стороны и отбуксированы: со стороны они казались двумя изнемогшими носорогами, застигнутыми во время совокупления. Роджер и толстый любитель кегельбана, размахивая шарами, спорили до тех пор, пока не выключились уличные фонари, после чего, словно по сигналу, пожали друг другу руки и разошлись в разных направлениях – разумеется, пешком, и с таким видом, словно знали, куда идти.
Утром ко мне в дом все же заявилась полиция, заинтригованная загадочным существованием второго Роджера. От меня, впрочем, они ничего не узнали.
– Если что-нибудь подобное опять случится, немедленно дайте нам знать, – сказали они и не солоно хлебавши отбыли.
К счастью, я не так часто испытываю потребность прибегать к услугам полиции; с обычными нарушителями справляюсь сам – одной беседы бывает достаточно. Все же как-то мне попался лихач, повторно превысивший скорость в моем квартале. Это был весьма дерзкий молодой человек, сидевший в кабине кроваво-красного грузовичка с мрачно-желтой рекламой на дверце кабины: «О. Фекто, владелец и главный водопроводчик».
С повторными нарушителями я не церемонюсь и сразу перехожу к делу. Молодому человеку я заявил прямо:
– Сейчас же зову полицию. И звоню твоему боссу, старине Фекто. Мне надо было позвонить ему в первый раз.
– Мой босс – это я сам, – ответил парень. – И главный водопроводчик тоже я. Так что катись отсюда к едреной матери.
И я сразу понял, что передо мной действительно сам О. Фекто, наглый, преуспевающий юнец, плевать хотевший на закон и порядок.
– В нашем пригороде много детей, – заметил я, – двое из них – мои.
– Ага, – протянул юный водопроводчик. – Вы уже это говорили. – И он прибавил обороты, мотор зафырчал, как будто прокашлялся. На лице нарушителя появилось слабое подобие угрозы – под стать слабому подобию бородки, украшавшей еще мальчишеский подбородок. Я взялся за дверцу – одну ладонь положил на приспущенное стекло кабины, другую – на ручку.
– Пожалуйста, не превышайте больше скорости в этом квартале, – попросил я.
– Ага, буду стараться, – согласился О. Фекто.
Наверное, на этом бы все и закончилось, но водопроводчик закурил сигарету и улыбнулся. И я увидел в этой бессмысленно нагловатой улыбке дьявольскую ухмылку мирской скверны.
– Так и знай: попадешься еще раз – воткну твою рекламу тебе в задницу!
Какое-то время мы молча пялились друг на друга – О. Фекто и я. Затем водопроводчик врубил скорость, что есть сил рванув на себя переключатель передач. Я едва успел отскочить назад к обочине и в водосточной канаве заметил маленький железный самосвал без передних колес. Я схватил игрушку и бросился вслед за грузовичком О. Фекто. Через пять кварталов я почти догнал его, размахнулся и что есть силы запустил в него самосвалом: шум он произвел изрядный, но вреда не причинил никакого. О. Фекто, однако, резко затормозил. При этом из кузова вылетели штук пять длинных водопроводных труб, а один из контейнеров изрыгнул отвертку и несколько мотков толстой проволоки. Водопроводчик спрыгнул с подножки кабины, с силой захлопнув за собой дверцу: в руках он держал большой гаечный ключ. Я сразу понял, он из тех, кто пуще глаза бережет девственную нетронутость своей собственности на колесах. Схватив пятифутовую[36]36
Пять футов – Примерно 1,5 м.
[Закрыть] трубу, я развернулся и ударил ею по левой задней фаре. Я уже давно заметил, все кратное пяти само плывет в мои руки. (Кстати, объем груди у меня при вдохе – пятьдесят пять дюймов[37]37
Пятьдесят пять дюймов – Около 140 см.
[Закрыть].)