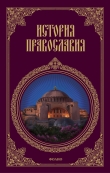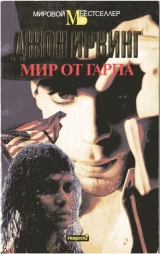
Текст книги "Мир от Гарпа"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц)
1. «Бостонская милосердия»
Мать Гарпа, Дженни Филдз, была задержана в Бостоне в 1942 году за нанесение телесных повреждений мужчине в кинотеатре. Это произошло вскоре после бомбардировки японцами Перл-Харбора. Люди тогда весьма сочувственно относились к солдатам, ибо каждый чувствовал себя солдатом в душе, но Дженни Филдз была исключением: ее нетерпимость к поведению мужчин в целом и солдат в частности оставалась прежней. В зале кинотеатра ей трижды пришлось пересаживаться, но какой-то солдат упорно придвигался к ней все ближе и ближе. Наконец она оказалась почти у самой стены, довольно замызганной, причем прямо перед ней торчала какая-то дурацкая колонна, загораживающая экран. Дженни решила, что больше не двинется с места, а солдат снова пересел, пристроившись совсем рядом.
В то время Дженни было двадцать два года. Колледж она бросила, едва туда поступив, а вот на курсах медицинских сестер равных ей не было – эта профессия пришлась ей по душе. У Дженни была спортивная фигура и всегда хороший цвет лица, темные блестящие волосы и походка, которую мать называла мужской (при ходьбе она размахивала руками), а зад маленький и твердый, что делало ее со спины похожей на мальчика. Сама она считала, что у нее слишком большая грудь: подобные габариты, по ее мнению, придавали ей чересчур «доступный» вид.
Между тем отличительной чертой Дженни была именно недоступность. Собственно, из колледжа она ушла как раз потому, что у нее закралось подозрение – вдруг родители, отправляя ее в Уэлсли[1]1
Уэлсли – Престижный женский колледж. (Здесь и далее примечания переводчика.)
[Закрыть], на самом деле заботились только о том, как подыскать ей достойного жениха. Этот колледж был рекомендован старшими братьями, которые уверяли родителей, что у выпускниц Уэлсли прекрасная репутация потенциально хороших жен. Узнав об этом, Дженни решила, что ее учеба будет напоминать подготовку телки к процедуре искусственного осеменения.
В колледже она специализировалась на английской литературе, но, убедившись, что ее однокурсницы озабочены исключительно постижением искусства утонченного обращения с мужчинами, она без каких-либо сожалений сменила литературу на медицину. В глазах Дженни профессия медицинской сестры имела сугубо практическое значение, а ее изучение не сопряжено ни с какими тайными намерениями (впоследствии в своей знаменитой автобиографии она с прискорбием писала, что медсестры любят кокетничать с врачами, но это было уже потом, когда она с медициной рассталась).
Ей нравилась простая, без глупостей форма: свободная блуза скрадывала пышность груди, удобные туфли вполне соответствовали ее быстрой походке. Во время ночного дежурства была возможность читать – чтение было одним из немногих ее пристрастий. От отсутствия студентов она не страдала – их манера напускать на себя угрюмую разочарованность, если девушка им отказывала, или, наоборот, напыщенное самодовольство, если, поддавшись минутной слабости, уступала, вызывали у нее отвращение. В больнице ей по большей части приходилось иметь дело с солдатами и рабочими парнями, которые были проще и искреннее в ухаживаниях: эти по крайней мере на другой день носа не воротили, если накануне их притязания были, так сказать, не совсем отвергнуты. Затем внезапно все стали солдатами с самомнением студентов, и Дженни Филдз решительно прекратила всякое общение с мужчинами.
«Моя мать, – писал Гарп, – была одинокой волчицей».
Богатство семейства Филдзов создала обувная промышленность, хотя и миссис Филдз внесла свой вклад в виде приданого. Дела семьи шли так хорошо, что уже давно никто из Филдзов лично не участвовал в производстве обуви. Они жили в большом доме на берегу бухты Догз-хед в штате Нью-Гемпшир. На выходные дни Дженни всегда приезжала домой – главным образом, чтобы доставить удовольствие матери, которая была убеждена, что ее дочь «заживо хоронит себя в больнице», и доказать ей, что она блюдет нравственность и не утратила культурной манеры речи и поведения.
Дженни часто встречалась с братьями на Северном вокзале и ехала домой поездом в их компании. Как было заведено у Филдзов, они садились справа по ходу поезда, если ехали из Бостона, и слева, когда возвращались обратно. Таково было желание Филдза-старшего, который, хотя и признавал, что вид с этой стороны особенно непригляден, тем не менее настаивал, чтобы все члены семьи обязательно созерцали источник своей независимости и благосостояния, каким бы непривлекательным он ни был. По правую сторону поезда, идущего из Бостона, и, соответственно слева, если ехать в обратном направлении, видна во всей красе обувная фабрика «Филдз», а также огромное панно с изображением башмака, уверенно шагающего вам навстречу. Панно возвышалось над железнодорожным депо и отражалось бесчисленное количество раз в окнах фабричного здания. Надпись под грозно наступающим ботинком гласила:
Берегите ваши ноги
И в цеху и на дороге,
Вам поможет в этом «Филдз».
Помимо прочего, фабрика выпускала туфли для медсестер; и в каждый приезд Дженни мистер Филдз дарил ей новую пару. В результате у нее дома образовался настоящий обувной склад. Миссис Филдз, которая предрекала дочери, покинувшей Уэлсли, самое мрачное будущее, всякий раз одаривала ее красиво упакованной грелкой. О том, что́ это за подарок, Дженни знала только с ее слов, поскольку никогда не заглядывала в пакет. Мать при этом всегда задавала один и тот же вопрос: «Доченька, та грелка, что я тебе дарила в прошлый приезд, цела?» Дженни мучительно вспоминала, куда она ее дела – то ли забыла в поезде, то ли выбросила, и отвечала приблизительно так: «Наверное, я ее потеряла, она мне, правда, не нужна». Тогда миссис Филдз доставала очередную грелку, еще в аптечной упаковке, и чуть ли не силком вручала ее дочери со словами: «Дженнифер, пожалуйста, следи за собой. Пользуйся, ради Бога, грелкой».
С профессиональной точки зрения Дженни не видела в грелках никакого проку; для нее это был милый старомодный предмет, скорее психологического свойства. Но некоторые из пакетов все-таки попадали в ее маленькую комнатку возле бостонской больницы. Нетронутые, они так и хранились в шкафчике, набитом обувными коробками.
Дженни явно ощущала себя отрезанным ломтем. Ей казалось странным, что, уделив ей столько внимания в детстве, родители в какой-то, заранее намеченный час словно отключили свою любовь и стали возлагать на нее определенные надежды. Жизнь ее делилась на два отрезка – в течение первого, очень короткого, ей полагалось впитать обильную порцию их любви, а весь второй, более длинный и важный, – платить по векселям. Уйдя из колледжа и став обыкновенной медицинской сестрой, Дженни словно оборвала нить, связывавшую ее с близкими; и они, в свою очередь, стали отдаляться от нее, даже вопреки своей воле. По семейным представлениям, Дженни полагалось бы стать врачом или на худой конец, выйти замуж за врача, а до той поры оставаться в колледже. Каждый раз, собираясь всей семьей, мать, отец, братья и она сама испытывали чувства возрастающего отчуждения.
Так оно обычно и происходит в семьях, думала Дженни Филдз. Уж своих-то детей (если, конечно, они у нее родятся) она будет любить в любом возрасте, ведь двадцатилетним любовь родителей, возможно, важнее. В самом деле, много ли нужно двухлетнему малышу? В больнице самыми покладистыми пациентами были младенцы. Чем дети старше, тем больше требуют внимания и тем меньше их терпят и любят.
У Дженни было такое чувство, что она выросла на большом корабле, ни разу не заглянув в машинное отделение и тем более не разобравшись, как оно работает. Ей нравилось, что в больнице все сводилось к простейшим вопросам: кто что съел, пошло ли съеденное на пользу и хорошо ли усвоилось. В детстве она никогда не видела грязной посуды: по правде сказать, Дженни была уверена, что горничные, убрав тарелки, просто выбрасывали их (даже на кухню ее долго не пускали). А когда по утрам на грузовике привозили молоко, Дженни была уверена, что вместе с молоком привозят и посуду с едой, поскольку звон бутылок очень напоминал те звуки, что слышались за дверью кухни, где горничные производили свои загадочные манипуляции с посудой.
В пять лет Дженни Филдз впервые побывала в туалетной отца. Однажды утром она обнаружила ее по запаху отцовского одеколона. Там она увидела душ – очень современный по меркам 1925 года, зеркало, а также длинный ряд всевозможных склянок, которые были так не похожи на флакончики матери, что Дженни решила: перед ней тайное логово человека, который много лет незаметно обитает в доме. В сущности, она была права.
В больнице Дженни знала, куда все девается, и постепенно получала самые прозаические ответы на вопрос, откуда что берется. В Догз-хеде ее детства все члены семьи имели отдельные ванные, отдельные комнаты, отдельные двери с зеркалами на внутренней стороне. В больнице всякая интимность напрочь отсутствовала, не было никаких тайн: если нужно зеркало, попроси у сестры.
Самыми таинственными вещами, которые маленькой Дженни было дозволено изучить самой, были погреб и огромная глиняная корчага, которую каждый понедельник наполняли съедобными моллюсками. По вечерам мать посыпала их кукурузной мукой, а утром их промывали свежей морской водой из трубы, идущей через кладку фундамента до самого моря. К концу недели моллюски становились жирными, без единой песчинки в складках. Они уже не умещались в раковинах, их длинные отвратительные шеи колыхались в соленой воде. По пятницам Дженни помогала повару сортировать их; погибшие моллюски не втягивали шеи, если их коснешься.
Дженни потребовала книгу о моллюсках. Она изучила их вдоль и поперек, узнала, как они питаются, как размножаются, как растут. Это были первые живые существа, которые стали для нее абсолютно понятны – их жизнь, воспроизводство и смерть. В Догз-хеде люди были не столь доступны для изучения. И лишь в больнице Дженни стала наверстывать упущенное и постепенно уразумела, что люди, в общем, ненамного загадочней и привлекательней моллюсков.
«Тонкие различия, – писал Гарп о матери, – были не по ее части».
Конечно, Дженни могла бы заметить одну очевидную разницу между моллюсками в людьми, а именно наличие у большинства людей чувства юмора, но сама Дженни была начисто его лишена. В то время большой популярностью у медсестер пользовался один анекдот, в котором Дженни не видела ничего смешного. Анекдот обыгрывал название одной из бостонских больниц. Больница, в которой работала Дженни, именовалась Бостонская больница милосердия, или кратко «Бостонская Милосердия». В городе была также Массачусетская общедоступная больница, или «Общедоступная Масс». И была еще больница, которую называли «Скрюченный Питер» (по прозвищу ее основателя).
Анекдот был такой. Одного бостонского таксиста остановил человек, который на карачках полз с тротуара к машине. Он задыхался, лицо его побагровело от боли. Таксист открыл дверцу и втащил его внутрь. Пассажир скорчился на полу вдоль заднего сиденья, прижимая колени к груди.
– В больницу! – еле выдавил он.
– «Скрюченный Питер»? – назвал таксист ближайшую больницу.
– Если бы только скрюченный, – простонал больной. – Мне кажется, Молли его откусила!
Вообще-то Дженни Филдз редко нравились анекдоты, а про этот и говорить нечего: шутки про «питера» были не для нее. Она имела удовольствие видеть, в какую беду попадали иной раз люди из-за бедняги «питера». Дети были явно не самое страшное.
Конечно, ей встречались женщины, которые не хотели иметь детей и очень переживали из-за беременности. Таким женщинам, думала Дженни, ни в коем случае нельзя рожать, хотя гораздо больше ей было жалко самих детей. Были, естественно, и такие, кто хотел детей, и, глядя на них, она тоже проникалась подобным желанием. Когда-нибудь, думала Дженни Филдз, она родит ребеночка – одного. Проблема была в том, что ей очень не хотелось иметь дело с «питером», да и вообще с мужчинами.
Больше всего страдали солдатские «питеры». Пенициллином стали лечить только в 1943 году. А широкое применение это чудо-лекарство нашло лишь спустя два года. В «Бостонской Милосердия» в сорок втором применялись сульфамиды и мышьяк. Против триппера – сульфаметазол с огромным количеством воды. Против сифилиса – неоарофенамин. Вот до какого абсурда, по мнению Дженни, довел человека секс; чтобы очистить биохимию человека, в эту биохимию вводился мышьяк.
Для лечения «питеров» применялась еще одна процедура, которая также требовала много воды. Дженни часто при ней ассистировала, так как пациент доставлял обычно массу хлопот: иногда его приходилось держать. Процедура была очень простая – через пенис и уретру пропускалось до ста кубических сантиметров жидкости, которая затем выливалась обратно. Надо сказать, что при всей своей простоте она действовала на нервы всем ее участникам. Прибор для промывания был изобретен неким врачом Валентином и соответственно получил название «ирригатор Валентина». Со временем этот ирригатор был заменен более совершенным прибором, но сестры «Бостонской Милосердия» еще долго называли эту процедуру «Валентиновым лечением». Подходящее наказание для влюбленных греховодников, считала Дженни Филдз.
«Моя мать, – писал Гарп, – была отнюдь не романтической натурой».
Когда солдат в кинотеатре начал к ней придвигаться, Дженни Филдз подумала, что ему не помешало бы «Валентиново лечение». Но, к сожалению, она не носила с собой ирригатор. К тому же для этой операции требуется, по меньшей мере, согласие пациента. А вот что у нее с собой было, так это скальпель; с ним она никогда не расставалась. У него был отколот самый кончик: то ли его уронили на пол, то ли в раковину, словом, для сложных операций он не годился. Скальпель был очень острый и постоянно разрезал шелковые кармашки в сумке. Тогда она нашла футляр от градусника и верхней половинкой, как колпачком авторучки, закрыла лезвие. Именно этот колпачок она и сняла, когда солдат подсел к ней и небрежно облокотился на подлокотник, который был – вот ведь какая глупость! – один на два кресла. Его длинная рука, свешивавшаяся с подлокотника, вздрагивала, как бока лошади, отгоняющей мух. Дженни в одной руке держала скальпель на дне сумки, а другой крепко прижимала сумку к себе. Ей представлялось, что платье медсестры сверкает, как священный щит, и что именно белизна притягивает этого хищного извращенца.
«Моя мать, – писал Гарп, – провела всю свою жизнь в постоянной готовности дать отпор покушавшимся на ее сумочку или на нечто, по ее мнению, более ценное».
Тогда, в кинотеатре, солдата явно интересовала не сумка. Его рука легла ей на колено.
– Убери свои поганые руки, – Дженни произнесла эти слова вслух, так что кое-кто из зрителей обернулся.
– Да ладно тебе, – страстно простонал солдат и быстро залез ей под юбку: ее колени оказались крепко стиснутыми, и в то же мгновение вся его рука, от плеча до запястья, была взрезана, как спелая дыня. Скальпель, направленный умелой рукой Дженни, прошел через китель и рубашку и аккуратно рассек кожу и мышцы так, что на локтевом сгибе обнажилась кость. «Если бы я хотела его убить, – заявила она позже в полиции, – я бы полоснула его по запястью. Я медицинская сестра и знаю, как люди истекают кровью».
Солдат орал благим матом. Вскочив на ноги, он здоровой рукой двинул Дженни по уху с такой силой, что у нее зазвенело в голове. Ответным взмахом скальпеля она срезала с его верхней губы кусочек, напоминавший по форме и толщине ноготь большого пальца. «Я не хотела перерезать ему горло, – заявила она позже в полиции. – Я целилась отрезать нос, но промахнулась».
Крича от боли, солдат на четвереньках дополз до прохода между рядами и тем же манером двинулся дальше, к спасительному свету фойе. В зале какая-то женщина визжала от страха.
Дженни вытерла скальпель о сиденье, опустила его в сумку и аккуратно надела на лезвие футляр от градусника. Затем пошла в фойе, откуда неслись душераздирающие вопли и призыв администратора, обращенный в темноту зрительного зала: «Ради Бога, нет ли здесь врача?».
Медсестра, по крайней мере, в зале была, и она добросовестно поспешила оказать пострадавшему первую помощь. Увидев ее, солдат тут же лишился чувств, и отнюдь не из-за потери крови. Дженни знала, как кровоточат лицевые порезы; они всегда выглядят очень опасными, хотя на самом деле ничего особенно страшного нет. Куда более глубокий разрез на руке, конечно, требовал немедленной обработки, но смерть от потери крови солдату не грозила. Разумеется, никто из присутствующих, кроме нее, этого не понимал, поскольку крови было много, особенно на ее белой униформе. Так что гадать, чьих это рук дело, долго не пришлось. Администратор кинотеатра не подпустил ее к лежавшему в обмороке солдату, а кто-то даже отобрал у нее сумку. Сошедшая с ума медсестра! Безумная потрошительница! Дженни Филдз, однако, сохраняла полное спокойствие. Она полагала, что стоит появиться стражам порядка – и все станет на свои места. Однако и полицейские не проявили должного понимания.
– Ты давно встречаешься с этим малым? – спросил один из них по дороге в полицейский участок.
А чуть позже другой задал не менее содержательный вопрос:
– С чего ты взяла, что он собирался напасть на тебя? По его словам, он просто хотел познакомиться.
– Это серьезное оружие, лапочка, – сообщил ей третий полисмен. – Не советую тебе таскать с собой подобные штуки. Может плохо кончиться.
В результате Дженни пришлось ждать братьев для улаживания дела. Оба занимались юриспруденцией в юридической школе Кембриджа, на другом берегу реки. Один учился, а другой преподавал право.
«Оба, – писал Гарп, – разделяли мнение, что юридическая практика – занятие вульгарное, изучение же права возвышает и облагораживает».
По прибытии братья не спешили ее утешить.
– Ты сведешь мать в могилу, – сказал один.
– И почему ты не осталась в Уэлсли?! – воскликнул другой.
– Одинокая девушка должна уметь себя защищать, – заметила Дженни. – Что может быть естественней?
Тогда один из братьев осведомился, может ли она доказать, что не имела с пострадавшим никаких отношений.
– Признайся только нам, – прошептал ей на ухо второй защитник, – ты давно с ним встречаешься?
Ситуация разрядилась, когда полиция выяснила, что солдат – из Нью-Йорка, где у него жена и ребенок. В Бостоне он был в увольнительной и больше всего на свете боялся, что эта история дойдет до его половины. Сошлись на том, что это будет ужасно для всех, и в результате Дженни отпустили с миром. Когда она стала требовать, чтобы полиция вернула ей скальпель, младший брат сказал:
– Ради Бога, Дженнифер, ты что, не можешь стащить еще один?
– Я его не стащила! – заявила Дженни.
– Тебе надо бы завести подруг, – посоветовал старший.
– Студенток Уэлсли, – повторили братья хором.
– Спасибо, что пришли, – поблагодарила Дженни.
– О чем речь, мы же родные! – ответил один.
– Кровь – не вода, – добавил другой и тут же смешался: униформа Дженни была вся в пятнах крови.
– Дженнифер, – сказал старший брат, который в детстве был для нее примером во всем. Голос его звучал весьма серьезно. – Не советую тебе связываться с женатыми мужчинами.
– Я порядочная девушка, – заявила она.
– Маме мы ничего не скажем, – успокоил младший.
– Отцу, разумеется, тоже, – подвел черту первый. В неуклюжей попытке придать их встрече семейную теплоту он подмигнул ей, скривив лицо, и у Дженни на миг создалось впечатление, что ее первый в жизни идеал страдает нервным тиком.
Рядом с братьями красовался плакат с изображением дяди Сэма. Крошечный солдатик, весь в коричневом, стоял на большой ладони дяди Сэма и готовился спрыгнуть на карту Европы. Под плакатом надпись: «Поддержите наших ребят!». Старший брат взглянул на Дженни, изучавшую плакат.
– И никогда не связывайся с солдатами, – добавил он, не подозревая, что через несколько месяцев сам станет солдатом, одним из тех, кому не суждено будет вернуться с войны. И он разобьет сердце матери, он, а не Дженни, как казалось всем в их семье.
Второй брат погибнет много позже после войны, утонет на яхте в нескольких милях от их семейного гнезда, в бухте Догз-хед. О его безутешной вдове мать Дженни скажет: «Она еще молода и привлекательна, и дети вполне сносные – пока, во всяком случае. Кончится положенный срок траура, и она найдет себе спутника жизни. Я в этом совершенно уверена». Кстати, по прошествии года после этого прискорбного события вдова брата обратилась к Дженни за советом, не знает ли она, кончился ли положенный срок и не пора ли уже подумать о новом спутнике жизни. Она боялась обидеть мать Дженни, боялась осуждения окружающих: вдруг полагается дольше оплакивать смерть мужа?
– Если ты больше не чувствуешь скорби, зачем тебе траур? – спросила ее Дженни. А в своем жизнеописании заметила: «Этой бедняжке надо было подсказывать, что когда чувствовать».
«По словам матери, – писал Гарп, – глупее женщины она не встречала. Между прочим, вдова младшего брата была выпускницей Уэлсли».
Но тогда, простившись с братьями уже в своей комнатке, которую она снимала в двух шагах от больницы, Дженни была в таком смятении, что не могла рассердиться по-настоящему. К тому же у нее все болело – и ухо, по которому съездил солдат, и спина, не дававшая ей уснуть. Скорее всего, она потянула какую-то мышцу, когда эти наглецы в кинотеатре набросились на нее в фойе и заломили руки за спину. Дженни вспомнила, что при мышечных болях рекомендуется грелка; она поднялась с кровати, подошла к шкафу и взяла один из пакетов с материнским подарком.
Это была не грелка. Мать употребляла эвфемизм, потому что не решалась говорить с дочерью на такие щекотливые темы. В пакете оказалась спринцовка. И мать и дочь знали ее назначение. Дженни часто приходилось учить пациенток, как ею пользоваться. Правда, в больнице их применяли не для предохранения от беременности сразу же после полового акта, а для соблюдения личной гигиены и при венерических заболеваниях. В представлении Дженни Филдз спринцовка являлась более удобным и менее грубым аналогом «ирригатора Валентина».
Дженни вскрыла все пакеты один за другим. Везде были спринцовки. «Ради Бога, пользуйся ею!» – смысл этих настойчивых просьб сразу стал ясен: мать руководствовалась благими намерениями и не сомневалась, что дочь ведет беспорядочную половую жизнь «после ухода из Уэлсли». После Уэлсли, по ее мнению, Дженни гуляла «не зная удержу».
В тот вечер Дженни Филдз легла в постель, положив спринцовку с горячей водой под спину между лопатками. Она надеялась, что зажимы на резиновой трубке не протекут, но на всякий случай сжала трубку в руках, сунув наконечник с мелкими дырочками в стакан. Всю ночь Дженни пролежала без сна, слушая, как капает вода, вытекающая из спринцовки.
«В этом грязном мире, – думала она, – ты или чья-то жена или чья-то шлюха; а если нет, то скоро станешь тем или этим. Если же ты не жена и не шлюха, все наперебой уверяют тебя, что с тобой не все в порядке». Но она-то была уверена, что с ней все в порядке.
В эти часы, несомненно, и родился замысел книги, которая спустя много лет принесла Дженни Филдз славу. По справедливому, но не очень изящному выражению, жизнеописание уничтожило пропасть между литературными достоинствами произведения и его популярностью, хотя, по утверждению Гарпа, труд его матери обладал не большими литературными достоинствами, чем каталог Сиерса[2]2
Сиерса – Знаменитый каталог «Товары почтой» фирмы «Сиерс», открывший в начале века новую эру в американской торговле.
[Закрыть].
Что же толкнуло Дженни Филдз на шаг, не укладывающийся ни в какие рамки, шаг, о котором пойдет речь немного ниже? Ни ее высокоученые братья, ни тип, заливший ей униформу своей кровью в зале кинотеатра. Ни даже материнские спринцовки, из-за которых Дженни в конце концов выставили из квартиры. Квартирная хозяйка (скандальная дама, которая по какой-то загадочной причине видела в каждой женщине потенциальную шлюху) обнаружила в крохотной комнатке Дженни сразу девять спринцовок. В воспаленном воображении хозяйки это могло означать только панический страх заразиться – разумеется, вполне обоснованный – и, конечно, свидетельствовало об их применении в фантастических масштабах, что подтверждало самые худшие ее подозрения.
Что она подумала о дюжине новых пар туфель для медсестер, так и осталось тайной. Но Дженни вся ситуация показалась просто абсурдной. К тому же предусмотрительность матери возбуждала в ней самой однозначные эмоции, и она, не вдаваясь ни в какие объяснения, съехала.
Но все это не имеет никакого отношения к ее, ошеломившему всех, шагу. Как ни парадоксально, братьям, родителям и хозяйке – всем им казалось, что она чуть ли не одержима сексом. Дженни решила никому ничего не доказывать: еще подумают, что оправдывается, и сняла небольшую квартиру. Это вызвало новую лавину спринцовок от матери и коробок с туфлями от отца. Ее поражал самый ход их мыслей: если уж дочери суждено быть шлюхой, пусть она будет шлюхой чистоплотной и хорошо экипированной.
Война в какой-то мере отвлекала Дженни от горьких мыслей о непонимании со стороны родных, от ожесточения и чрезмерной жалости к себе; впрочем, у Дженни никогда не было склонности к самокопанию. Она была хорошей медсестрой, и работы у нее все прибавлялось. Многие сестры шли служить в армию, но у Дженни не было желания менять униформу и плыть за море; она трудно сходилась с людьми, и ей не хотелось терять привычное окружение. Кроме того, соблюдение субординации раздражало ее даже в «Бостонской Милосердия», и она не без основания полагала, что в военно-полевом госпитале с этим будет еще хуже.
Ну и, конечно, там ей не хватало бы детей. В общем-то из-за этого она и осталась в больнице, несмотря на то что многие сестры ушли. Ей очень нравилось помогать матерям с новорожденными младенцами, тем более что вдруг появилось слишком много детей, чьи отцы были или далеко, или погибли, или пропали без вести. Дженни изо всех сил старалась утешить одиноких матерей. В глубине души она завидовала им. Для нее ситуация была бы идеальной: одна с новорожденным, муж убит где-то во Франции. Молодая женщина со своим собственным малышом, впереди вся жизнь, и им никто больше не нужен. Почти непорочное зачатие. Во всяком случае, ни о каких «питерах» можно больше не думать.
Конечно, эти женщины отнюдь не всегда были довольны своей участью. Многие оплакивали погибших мужей, многих мужья бросили; были и такие, кто не очень радовался младенцу. Но большинство мечтали о муже и отце для своего маленького. Дженни Филдз, утешая их, выступала в роли страстного проповедника одиночества, внушала, что им очень повезло.
– Ты ведь хорошая мать! – говорила она. Женщины соглашались.
– А твой малыш разве не прелесть? – Опять-таки многие не возражали.
– Ну а отец? Что он собой представлял?
– Бездельник, каких мало, – отвечали почти все.
– Обманщик, грубиян, никуда не годный, мерзкий, пропащий тип. Но ведь его больше нет! – всхлипывали иные.
– Видите, как вам повезло, – подытоживала Дженни.
Ей удалось обратить некоторых в свою веру, но за это она лишилась места в родильном отделении. В больнице безотцовщина не поощрялась.
– У старушки Дженни комплекс Девы Марии, – говорили медсестры. – Обычный способ заполучить ребенка ее не устраивает. Придется звать на помощь Господа Бога.
В своем романе-автобиографии Дженни писала: «Я хотела работать и жить одна. Меня сочли одержимой сексом. Еще я хотела ребенка, но не собиралась ради него дарить кому-то свое тело и свою жизнь. И в результате это мнение обо мне утвердилось».
Именно это и толкнуло ее на шокировавший всех шаг. Отсюда и взялось знаменитое название автобиографии Дженни Филдз «Одержимая сексом».
Она обнаружила, что, шокируя окружающих, добиваешься большего уважения, чем пытаясь жить тихо, но по-своему. И Дженни во всеуслышание заявила, что ей нужен партнер, от которого она забеременеет с первого раза, после чего они навсегда расстанутся. Ситуация, при которой одного захода не хватит, исключена, пояснила она медсестрам. Те, разумеется, растрезвонили столь ценную информацию всем знакомым. Очень скоро Дженни имела десяток предложений и оказалась перед выбором: либо немедленно пойти на попятный под тем предлогом, что все это сплетни, либо пренебречь моральными устоями и исполнить задуманное.
Один студент-медик предложил ей свои услуги при условии, что ему будет дано, по крайней мере, шесть попыток на протяжении трех уик-эндов. Дженни отказала ему по той причине, что не может доверить столь ответственное дело – зачатие ребенка – человеку, не уверенному в своих силах.
Другой кандидат – анестезиолог – предложил даже оплатить образование своего отпрыска, включая колледж, но в ответ услышал, что у него слишком близко посажены глаза и зубы оставляют желать лучшего: она не хочет своему ребенку подобных «украшений».
Приятель одной из медсестер решил взять быка за рога, вручив ей в больничном кафетерии стакан, почти до краев наполненный мутной жидкостью.
– Сперма, – заявил он, кивнув на стакан. – Все с одного раза – по мелочам не размениваюсь. Если хочешь с одной попытки, лучше меня не найдешь.
Дженни взяла в руки ужасный стакан и хладнокровно изучила его. Одному Богу известно, что в нем было на самом деле. Приятель медсестры продолжал агитацию:
– Высокое качество моей спермы налицо. Видишь, она кишмя кишит семенем.
Дженни вылила содержимое стакана в цветочный горшок.
– Мне нужен всего один ребенок, – сказала она. – Племенной завод мне ни к чему.
Дженни знала, что обрекает себя на нелегкую жизнь. Мало-помалу она привыкла к подобным шуткам и научилась давать отпор.
По мнению окружающих, Дженни Филдз зашла слишком далеко. Шутка шуткой, но она явно перебарщивала. Либо это игра, которую она не хотела бросать из чистого упрямства, либо, что еще хуже, таково действительно ее намерение. Коллегам по работе не удавалось ни посмеяться вместе с ней над ее затеей, ни затащить в постель. Гарп писал: «Беда матери заключалась в том, что она мнила себя выше сослуживцев, и те это чувствовали. Как и следовало ожидать, им это не нравилось».
В конце концов все решили: Дженни Филдз пора поставить на место. Для этого применили административные меры, разумеется «для ее же пользы», и разлучили Дженни с новорожденными младенцами. По общему мнению, она помешалась на детях. Отныне – никакого акушерства. К родильному отделению ее и близко нельзя подпускать – слишком у нее мягкое сердце, а возможно, и мозги.
И Дженни пришлось расстаться со своими подопечными. Начальство объяснило свое решение тем, что ее высокая квалификация нужна в отделении для самых тяжелых. Ему было хорошо известно, что работающие там сестры быстро излечиваются от всякой дури. Конечно, Дженни прекрасно понимала подоплеку перевода, ей только было досадно, что окружающие столь низкого о ней мнения. Пусть ее желание кажется странным, это не значит, что ей вообще нельзя доверять. Воистину, думала Дженни, люди напрочь лишены всякой логики. Но ничего, она не перестарок, забеременеть еще успеет. Так что, в общем, ничего страшного не произошло.