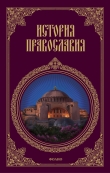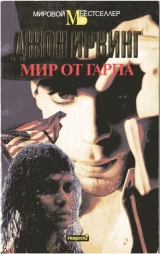
Текст книги "Мир от Гарпа"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
В таком настроении Гарп шел домой по Кёрнтнерштрассе и вдруг столкнулся с пресловутой Тиной. Ее глубокая оспина, поглощая неоновый свет города, была иссиня-зеленая.
– Гутен абенд, герр Гарп, – сказала она. – Знаете, что…
И Тина сказала, что Шарлотта перед смертью купила для Гарпа услугу. Гарп мог иметь Тину и Вангу «за так»; по очереди или обеих сразу. А про себя думала: вместе лучше – интереснее и быстрее. Но, может, Гарпу они не нравятся? Гарп признался, что Ванга ему не нравится; они почти одногодки, и ему абсолютно все равно, откуда у нее на губе шрам, может, майонезная банка и ни при чем. Конечно, он ей этого никогда не скажет, зачем обижать.
– Тогда можешь трахнуть два раза меня, – весело сказала Тина. – Один раз сейчас, а один раз, – добавила она, – после того, как переведешь дух. Забудь о Шарлотте, – продолжала Тина. – Смерть случается с каждым.
Но Гарп вежливо отклонил неожиданное предложение.
– Не хочешь – не надо, но сделка остается в силе, – сказала Тина, – я готова всегда.
Она протянула вниз руку и без церемоний взяла его плоть в свою большую горячую ладонь. И Гарп вдруг ощутил глубокий покой. Но он только улыбнулся, поклонился – как кланяются венцы – и пошел домой, к матери.
Он наслаждался своей легкой болью. Получал удовольствие от наложенного на себя глупого воздержания, а больше всего наслаждался Тиной, как рисовало ему воображение, предвкушая все, что когда-нибудь получит от ее туманно-большой плоти. Серебристая выемка у нее на лбу была величиной с ее рот; она казалась Гарпу маленькой разверстой могилой.
Происходящее сейчас в душе Гарпа и было началом транса, которого так ждут писатели и который подчиняет мир одной общей тональности. «Все, что есть плоть, подобно текущим водам, – вспоминал Гарп. – Душа же подобна снам и испарениям». В июле Гарп продолжил писать «Пансион. Грильпарцер». А мать заканчивала рукопись, которая вскоре решительно изменит жизнь их обоих.
В августе Дженни завершила книгу и объявила, что готова путешествовать. Хорошо бы посмотреть наконец что-нибудь в Европе – может, Грецию?
– Давай поедем куда-нибудь на поезде, – сказала она. – Я давно хотела прокатиться на Восточном экспрессе. Куда он идет?
– Из Парижа в Стамбул, полагаю, – сказал Гарп. – Но ты поезжай одна, мам… У меня самый разгар работы.
Счет 1:1, должна была признать Дженни. Она так устала от своей книги, что не могла даже вычитать ее. И вообще не знала, что делать с рукописью; может, надо ехать в Нью-Йорк и отдать историю своей жизни в какое-нибудь издательство? Хорошо бы Гарп прочитал ее книгу, но сын наконец-то погрузился в свою собственную работу, и Дженни не хотела его отвлекать. К тому же ее терзали сомнения: ведь большая часть ее жизненной истории была историей и его жизни, и она боялась, вдруг написанное будет для него шоком.
Гарп весь август работал над завершением своей повести «Пансион Грильпарцер». Хелен, отчаявшись получить от Гарпа хоть какую-то весточку, вопрошала в письме к Дженни: «Что с Гарпом, уж не умер ли он? Очень прошу, сообщите подробности». Эта Хелен Холм – остроумная девушка, подумала Дженни. И Хелен получила в ответ нечто большее, чем ожидала. Дженни отправила ей копию «Одержимой сексом» с припиской, что это труд целого года, что Гарп сейчас строчит с утра до вечера и что она будет признательна, если Хелен напишет ей, что она думает о ее рукописи. Может, кто-нибудь из преподавателей колледжа, где учится Хелен, знает, что делают с завершенной книгой?
В свободные минуты, чтобы отвлечься, Гарп уходил в зоопарк, находившийся среди скверов и садов, окружающих Шёнбрунн. Гарп обратил внимание, что многие строения зоопарка – оставленные войной руины и животных в них нет. Странно, что зоопарк все еще живет жизнью военных лет. Гарпа это время весьма интересовало. Он читал на ночь исторические исследования о Вене времен нацистской и русской оккупаций. Они были связаны с темой смерти, часто звучавшей у него в воображении, когда он писал «Пансион Грильпарцер». Гарп обнаружил – когда что-то пишешь, в мире вдруг вырисовывается цепочка неожиданных связей. Вена умирала, жилища людей хотя и восстановлены, но зоопарк в руинах; история города подобна истории семьи, в нем существуют привязанности и даже любовь; но смерть в конце концов разъединяет всех. Только память хранит ушедших живыми. Работа писателя заключается в том, чтобы пережить вымысел как личное воспоминание и сделать его для читателя явью. Гарп осязал щербины от пулеметного огня на каменных стенах холла в квартире на Швиндгассе.
Он написал Хелен, что молодому писателю немыслимо быть одному, а он уже давно решил, что хочет жить с ней, даже – жениться, потому что без секса не обойтись. На поиски временной связи, писал он, тратится столько времени, что приходишь к выводу – секс должен быть у тебя под боком.
Хелен написала в ответ несколько писем, перечитала их и выбрала одно коротенькое, в котором говорилось: напрасно Гарп думает, что она в колледже вела пуританскую жизнь и теперь готова накинуться на секс, который будет всегда под боком. Гарпу следует зарубить себе на носу: с подобными предложениями пусть обращается к кому-нибудь другому.
Он даже не принес извинений в следующем письме: он не отрывается от письменного стола и у него нет времени на объяснения; вот прочитает она, что он пишет, и поймет, что все это очень серьезно.
«Не сомневаюсь, что серьезно, – отвечала Хелен, – но сейчас у меня есть что читать, и, пожалуй, куда в большем объеме, чем мне хотелось бы».
Она не стала писать, что чтение это – рукопись его матери в 1158 страниц. Позже Хелен согласится с Гарпом, что «Одержимая сексом» – не литературный перл, но все-таки должна была признать, что читается книга с захватывающим интересом.
Когда Гарп наносил последние штрихи на свое куда более короткое сочинение, Дженни Филдз воплощала в жизнь очередной замысел. Она все чего-то искала, сама не зная чего, и как-то на прилавке большого киоска ей попался американский журнал, в котором она наткнулась на весьма любопытный факт. Один смелый нью-йоркский редактор преуспевающего издательства только что отверг рукопись, представленную скандально известным, теперь уже бывшим, членом правительства, который обвинялся в присвоении государственных денег. Книга была тонко замаскированной под беллетристику историей его преступных политических сделок. «Это непотребный роман, – цитировал журнал слова редактора. – Его автор не умеет писать. Какое бесстыдство делать деньги из своей преступной жизни!» Книга, конечно, будет опубликована и принесет автору, этому ничтожеству, и его издателю капитал. «Иногда я чувствую, что обязан сказать «нет», – писал редактор, – даже если знаю, что люди с удовольствием проглотят эти помои». «Помои», возможно, даже получат серьезную рецензию, как настоящее литературное произведение, но не это поразило Дженни. Ее поразил редактор, сказавший «нет». Она вырезала из журнала эту статью, обвела кружочком имя редактора, простое, как имя актера или волка из детской книжки: Джон Вулф. В журнале была фотография Джона Вулфа; он был прекрасно одет и выглядел как человек, придающий большое значение здоровью и внешнему виду, – типичный нью-йоркец, которому здравый смысл подсказывает, что дельцу нельзя пренебрегать ни тем ни другим; но Дженни Филдз он показался ангелом. Он издаст ее книгу, она уверена. В ее жизни нет ничего криминального, и Джон Вулф поймет: у нее есть право делать деньги из своего жизнеописания.
У Гарпа было иное отношение к своему «Пансиону Грильпарцер». Он знал, его повесть больших денег не принесет. Сначала появится в солидном журнале, где ее мало кто прочитает. Через годы, когда имя его станет известно, выйдет более заметным изданием; критики скажут о ней свое слово, но денег, полученных за «Пансион», не хватит на покупку хорошего автомобиля. Гарп знал, что его детище не принесет ему денег, но он прежде всего надеялся, что этой повестью завоюет Хелен Холм и она согласится жить с ним, даже выйти за него замуж.
Закончив «Пансион Грильпарцер», он объявил матери, что хотел бы вернуться домой и увидеть Хелен; он пошлет ей повесть, может, она выкроит время прочитать ее к его возвращению. «Бедная Хелен, – подумала Дженни, – не слишком ли много ей придется прочесть». Дженни встревожило то, что Гарп назвал Стиринг «домом»; но и ей хотелось увидеть Хелен, да и Эрни Холм с удовольствием проведет несколько дней в их обществе. К тому же в бухте Догз-хед был родительский особняк, так что Гарпу и Дженни будет где остановиться и обдумать дальнейшие планы.
Гарп и Дженни были странные, одержимые люди, им и в голову не пришло задуматься, почему они, так в общем и не повидав Европы, вдруг засобирались домой. Дженни упаковала форменные платья. Гарпа держало одно – «услуги», за которые Шарлотта перед смертью заплатила Тине и ее подруге.
Предвкушение этих «услуг» волновало его все время работы над «Пансионом Грильпарцер», но впоследствии Гарп поймет – веление писательства и жизни не всегда совпадают. Пока он писал, ему требовалось лишь предвкушение, кончил писать – захотелось Тину. И он пошел искать ее на Кёрнтнерштрассе, но «майонезная» шлюха, говорящая по-английски, сообщила ему, что Тине пришлось расстаться с престижным районом.
– Все меняется, – сказала Ванга. – Забудь Тину.
И Гарп забыл – похоть способна на такие штуки. Время смягчило антипатию к «майонезному» шраму Ванги; он ему даже понравился. И Гарп переспал с ней дважды, но – сколько раз ему предстоит в этом убедиться, – когда окончен труд, все остальное не в радость. Почти все.
Гарп и Дженни прожили в Вене год и три месяца. Был сентябрь. Гарпу и Хелен всего лишь девятнадцать, и Хелен предстоит вскоре вернуться в колледж. Самолет летит из Вены во Франкфурт. Легкое возбуждение (Ванга) тихо покинуло Гарпа. Он вспомнил Шарлотту, все-таки она была счастлива. Ведь она рассталась с престижным районом, только когда рассталась с жизнью.
В самолете, летящем из Франкфурта в Лондон, Гарп перечитал «Пансион Грильпарцер» и подумал, что Хелен его не отвергнет. От Лондона до Нью-Йорка повесть прочитала Дженни. И поразилась причудливой фантазии сына в сравнении с ее трезвым, жизненным повествованием. Воображение Гарпа восхитило ее. Ведь ее литературный вкус никогда не был особенно изощренным. Позднее она скажет, что «Пансион Грильпарцер» мог написать только мальчик, выросший в неполноценной семье.
Что ж, возможно. А Хелен потом скажет: прочитав «Пансион Грильпарцер», можно уже мельком увидеть, каков «мир от Гарпа».
«ПАНСИОН ГРИЛЬПАРЦЕР» (продолжение)
«…Наутро, отправившись завтракать в кафе «Пансиона Грильпарцер», мы встретились там с герром Теобальдом и всей шумной компанией его постояльцев, так испортивших нам предыдущий вечер. Я знал, что папе в этот раз, как никогда, хотелось рассекретить себя как инспектора Австрийского Туристического бюро.
– Повсюду разгуливают какие-то люди на руках, – сказал папа.
– Подсматривают под дверь туалета, – добавила бабушка.
– Вон тот, – указал я на угрюмого, небольшого роста мужчину за угловым столиком, который завтракал вместе со своими приятелями – рассказчиком снов и певцом-венгром.
– Он зарабатывает себе этим на жизнь, – сказал герр Теобальд, и мужчина, ходивший на руках, словно желая подтвердить его слова, тут же встал на руки.
– Скажите ему, пусть немедленно прекратит, – потребовал папа.
– А знаете ли вы, что он по-другому не умеет? – неожиданно спросил рассказчик снов. – Знаете ли вы, что он не может сделать ни шагу ногами? У него нет берцовых костей. Это замечательно, что он научился ходить на руках! Иначе он вообще бы не смог передвигаться. – Человек на руках кивнул, хотя в его положении сделать это было весьма непросто.
– Пожалуйста, сядьте, – попросила мама.
– Калекой быть не зазорно, – решительным голосом сказала бабушка. – А вот вы, – повернулась она к рассказчику снов, – вы вредный, злой человек! Вы знаете то, что не имеете права знать. Он знает мой сон! – пожаловалась она герру Теобальду таким тоном, будто сообщала ему о краже из ее номера.
– Да, он иногда вредничает, согласен, – признал Теобальд. – Но это с ним нечасто случается, и потом он понемногу стал исправляться. Он не виноват, что знает чужие сны.
– Я хотел помочь вам избавиться от всяких мыслей, – сказал бабушке рассказчик снов. – Думал сделать как лучше. Ведь уже прошло немало времени, как умер ваш муж, пора бы уж забыть этих рыцарей. Не вам одной снятся такие сны.
– Перестаньте, прошу вас, – взмолилась бабушка.
– Но я ведь хотел вам помочь, – продолжал рассказчик снов.
– Ну пожалуйста, перестаньте, – попросил герр Теобальд.
– Я из Туристического бюро, – объявил папа, наверное, потому, что ничего другого придумать не мог.
– О, черт подери! – воскликнул герр Теобальд.
– Теобальд не виноват, – сказал певец. – Это мы во всем виноваты. Он вынужден всех нас терпеть, хотя от этого и страдает его репутация.
– Они женились на моей сестре, – сообщил нам Теобальд. – Это семья, понимаете? Что я могу поделать?
– «Они» женились на вашей сестре?! – изумилась мама.
– Ну, вообще-то, сначала она вышла за меня, – сказал рассказчик снов.
– А потом услышала, как я пою! – добавил певец.
– Но вот за ним она замужем не была, – произнес Теобальд, и все виновато посмотрели на человека, который мог ходить только на руках.
– У них когда-то был маленький цирк, – продолжал Теобальд. – Их погубила политика.
– Лучший цирк во всей Венгрии, – сказал певец. – Вы слыхали что-нибудь о цирке Сольнок?
– Нет, к сожалению, не слыхал, – серьезно ответил папа.
– Мы играли в Мишкольце, Сегеде, Дебрецене, – сказал рассказчик снов.
– В Сегеде дважды, – уточнил певец.
– Мы бы добрались и до Будапешта, если бы не русские, – сказал человек, ходивший на руках.
– Это русские лишили его берцовых костей! – воскликнул рассказчик снов.
– Не ври, – сказал певец. – У него с рождения их не было. Но мы действительно не поладили с русскими.
– Они хотели арестовать медведя, – снова вставил рассказчик снов.
– Не ври! – сказал Теобальд.
– Мы спасли от них его сестру, – добавил человек, ходивший на руках.
– Поэтому я и приютил их, – сказал герр Теобальд, – и потом они вкалывают изо всех сил. Но здесь это никому не нужно. Это чисто венгерский цирк. Медведи на велосипедах – здесь это просто не принято. И эти вещие сны нас, венцев, ни капельки не волнуют.
– Не ври, – сказал рассказчик снов. – Просто тогда я рассказал не тот сон. Мы работали в ночном клубе на Кёрнтнерштрассе, но нас запретили.
– Ни в коем случае нельзя было рассказывать тот сон, – мрачно произнес певец.
– Да, но тут поспособствовала твоя жена! – вскричал рассказчик снов.
– Она тогда была твоей женой! – выпалил в ответ певец.
– Ради Бога, перестаньте! – умолял Теобальд.
– Мы готовим представления для больных детей, – сказал рассказчик снов. – Выступим и в больницах для взрослых, особенно на Рождество.
– Вы бы побольше выступали с медведем, – посоветовал им герр Теобальд.
– Ты это скажи своей сестре, – сказал певец. – Это ее медведь, она его дрессировала. Ее вина, что он такой ленивый и неряшливый. У него столько дурных привычек!
– Он единственный, кто никогда надо мной не смеется, – сказал человек, ходивший только на руках.
– Я больше не могу все это слушать, – прошептала бабушка. – Просто ужас какой-то.
– Ради Бога, дорогая леди, – умоляюще произнес герр Теобальд, – мы хотели вам объяснить, что у нас и в мыслях не было вас обидеть. Страна переживает тяжелые времена. Мне необходима категория «В» для привлечения туристов, но я не могу выкинуть на улицу цирк Сольнок! Совесть не позволяет.
– Совесть не позволяет, черта с два! – воскликнул рассказчик снов. – Выкинуть нас на улицу! Да ему и во сне такое не может присниться.
– Если бы приснилось, ты бы об этом сразу узнал, – добавил человек на руках.
– Я боюсь ее медведя, – признался герр Теобальд. – Это страшное животное, оно сделает все, что она ему прикажет.
– «Он», а не «оно», – сказал человек на руках. – Это славный медведь, он никого еще ни разу не тронул. У него нет когтей, ты это прекрасно знаешь. И кстати, почти нет зубов.
– Да, бедняжка ест с большим трудом, – подтвердил герр Теобальд. – Он ведь уже очень старый.
Через папино плечо я увидел, как он пишет в своем громадном блокноте: «Дряхлый медведь, безработный цирк. Ключевую роль в семье играет сестра».
И тут мы увидели ее – она стояла на тротуаре у выхода из кафе и занималась с медведем. В столь ранний час на улице было немноголюдно. Как и положено, она держала медведя на поводке – чисто символическая предосторожность. Женщина в необычном красном тюрбане ходила взад-вперед по тротуару рядом с медведем, лениво крутившим педали на своем одноколесном велосипеде. Медведь непринужденно разъезжал от одного счетчика парковки к другому, держась за них лапой при повороте. Слов нет, он искусно сидел на велосипеде, но вместе с тем было ясно, что это для него предел. Медведь, казалось, и сам понимал, что из велосипеда больше ничего не выжмешь.
– Не надо выпускать его на улицу, – взволнованно заговорил герр Теобальд, – хозяин кондитерской жалуется, что он отпугивает покупателей.
– Наоборот, он привлекает покупателей! – воскликнул человек на руках.
– Кого-то привлекает, а кого-то и отпугивает, – произнес рассказчик снов. Он вдруг помрачнел.
Мы между тем так увлеклись представлением, что совсем позабыли о старой Джоанне. Взглянув на бабушку, мама увидела, что та тихонько плачет, и сказала мне, чтобы я отправился за машиной.
– Ей все это слишком тяжело, – сказал шепотом папа герру Теобальду, и артисты цирка Сольнок виновато потупили глаза.
На тротуаре ко мне подкатил медведь и вручил ключи от машины – она стояла на обочине мостовой.
– Не каждому понравится, чтобы ему таким манером подавали ключи, – сказал сестре герр Теобальд.
– Не сомневаюсь, ему это понравилось, – сказала сестра и взъерошила мне волосы. Чем-то похожая на официантку из бара, она, вероятно, вечером выглядела бы привлекательнее. Утром же было заметно, что она старше брата и обоих мужей. В один прекрасный день, подумал я, она перестанет быть сестрой и женой и будет для всех заботливой матерью – она ведь стала мамой своему медведю.
– Иди ко мне, – сказала она зверю. Он вяло крутил педали на одном месте, опираясь лапой на счетчик. Скуки ради лизнул языком маленькое стекло на циферблате. Женщина дернула за поводок. Медведь посмотрел на нее. Она дернула снова, и медведь в ответ с вызывающим видом стал кататься на велосипеде – то в одну сторону, то в другую… Он словно почуял, что на него смотрят, и давай стараться изо всех сил, как на арене во время представления.
– Стой, хватит, – приказала ему сестра Теобальда, но он крутил педали все быстрее, срезая утлы и лавируя между счетчиками. Сестре пришлось отпустить поводок. «Дюна, стой», – пыталась она остановить медведя, но он был неуправляем. На одном из виражей колесо слишком близко подкатилось к бортику тротуара, и велосипед с силой ударился о крыло припаркованной рядом машины. Велосипед упал, медведь сел рядом на обочине. Скорее всего, он не сильно ушибся, но был явно удручен случившимся. Никто не засмеялся. «Ох, Дюна!» – сердито воскликнула сестра, но затем подошла к нему и присела на тротуар. «Дюна, Дюна», – мягко журила она медведя, а он лишь качал в ответ своей большой головой и не поднимал глаз. Она вытерла рукой слюну у него на шерсти возле пасти, но он отвел ее руку лапой.
– Приезжайте еще! – жалобно крикнул герр Теобальд, когда мы садились в машину.
Мама сидела в машине, закрыв глаза, и растирала пальцами виски, чтобы не слышать наших разговоров. Она утверждала, что это ее единственное спасение от столь буйной семьи, как наша.
Мне в этот раз как-то не хотелось докладывать об уходе за машиной, но я заметил, что папа старается сохранить беспристрастность; мы должны помнить, что дело превыше всего. На коленях он держал огромный блокнот, как будто мы только что завершили обычную инспекционную поездку.
– А что на счетчике? – спросил он.
– Прибавилось тридцать пять километров, – ответил я.
– Этот ужасный медведь был здесь! – заявила бабушка. – На заднем сиденье его шерсть и я чувствую его запах!
– А я ничего не чувствую, – сказал папа.
– И еще запах духов этой цыганки в тюрбане, – продолжала бабушка, – витает под потолком машины!
Мы с папой принюхались. Мама продолжала растирать виски.
На полу, между тормозом и педалью сцепления, валялись зеленые зубочистки. Такие зубочистки вечно торчали сбоку изо рта певца-венгра, издали напоминая шрам. Но я не стал о них говорить. Представил себе, как вся компания разъезжает по городу в нашей машине. За рулем певец, рядом человек на руках машет в окно ступнями, на заднем сиденье, между рассказчиком снов и его бывшей женой, сгорбился старый медведь, задевая огромной головой обивку на потолке машины, а его изувеченные лапы покоятся на массивных коленях. Ни дать ни взять добродушный, подвыпивший горожанин.
– Бедные, бедные, – вздохнула мама, не открывая глаз.
– Лгуны они и преступники! – бушевала бабушка. – Колдуны, беженцы, да еще впридачу выживший из ума медведь.
– Они так много работали, – сказал папа, – им просто не везет с призами.
– Им бы больше повезло в зоопарке, – сказала бабушка.
– А мне они понравились, – сообщил Робо.
– Не так-то просто расстаться с классом «С», – сказал я.
– Они уже расстались, класс «Z» – вот они кто! – сердилась Джоанна. – Нет, они вообще выскочили за пределы алфавита!
– Мне кажется, надо бы ввести еще одну букву… – сказала мама.
Но тут отец поднял руку, словно хотел благословить нас, и все замолчали. Он начал уже писать в своем огромном блокноте, и ему нельзя было мешать. Вид у него был суровый. У бабушки не было сомнений насчет приговора. Мама понимала, что спорить с ним бесполезно, а Робо все уже порядком наскучило. Я тем временем вел машину по крохотными венским улочкам. Свернув на Шпигельгассе, мы выехали на Лобковицплац. Переулок Шпигельгассе такой узкий, что в витринах магазинчиков видно отражение машины, и мне показалось, будто наше путешествие по Вене не более чем монтаж, трюк кинооператора, что-то вроде сказочного путешествия по игрушечному городу.
Бабушка мирно дремала в машине.
– Ты знаешь, – нарушила молчание мама, – вряд ли изменение категории будет иметь в этом случае большое значение.
– Да, конечно, – согласился папа. И он оказался прав. Так случилось, что много лет спустя я вновь попал в «Пансион Грильпарцер».
Когда умерла бабушка – это случилось неожиданно, во сне, – мама объявила, что ей надоело путешествовать. Дело, однако, было в другом. Маме начал сниться тот же сон, что так мучил бабушку.
– Лошади все такие тощие, – сказала она как-то мне, – то есть я всегда знала, что они должны быть тощими, но не в такой же мере! И рыцари – я знала, что у них жалкий вид, но не настолько же…
Папа уволился из Туристического бюро и устроился в местную детективную контору, специализируясь на гостиницах и универсальных магазинах. Новая работа его вполне устраивала, только он отказывался работать на Рождество. Во время рождественских праздников, говорил он, немножко можно украсть.
С годами родители становились все мягче, и, думаю, на закате дней они были вполне счастливы. Воздействие бабушкина сна притупляли реальные события, и прежде всего то, что случилось с Робо. Он учился в частной школе, и его все там любили, но на первом курсе университета его убило взрывом самодельной бомбы. В последнем письме родителям он писал: «Серьезность радикальных группировок среди студентов сильно преувеличивают. А кормят нас просто отвратительно». Опустив письмо, Робо пошел слушать лекцию по истории, и его аудитория взлетела на воздух.
После смерти родителей я бросил курить и снова стал путешествовать. Отправляясь в «Пансион Грильпарцер», я взял с собой вторую жену – с первой мне никак не удавалось выбраться в Вену.
В папиной категории «В» «Пансион Грильпарцер» задержался ненадолго, а к моменту моего возвращения он вообще потерял разрядность. Хозяйкой пансиона была теперь сестра Теобальда. В ней больше не было грубоватой привлекательности – ее сменила циничная холодность незамужней тетки. Она давно утратила талию, а волосы приобрели бронзовый оттенок, отчего голова ее была похожа на медную мочалку для чистки кастрюль. Она не помнила меня, и мои вопросы ее насторожили. Поскольку я так много знал о ее давнишних приятелях, она, вероятно, вообразила, что я из полиции.
Певец-венгр куда-то уехал – еще одна женщина не устояла перед его голосом. Человек, который рассказывал сны, доживал свои дни в больнице для умалишенных. Его собственные сновидения превратились в кошмары, и он каждую ночь оглашал пансион душераздирающими воплями. Его прощание с обветшавшим зданием, рассказывала сестра Теобальда, совпало с утратой «Пансионом Грильпарцер» класса «В».
Герр Теобальд умер. Однажды ночью он вышел тихонько в коридор, привлеченный каким-то шорохом; ему показалось, что залезли воры. Но это был Дюна, одетый в полосатый костюм рассказчика снов. Почему сестра Теобальда вырядила так медведя, она не смогла объяснить, но вид насупленного зверя, едущего на велосипеде в костюме несчастного безумца, произвел на Теобальда такое сильное впечатление, что он схватился за сердце и упал бездыханный.
Человека, ходившего на руках, постигла не менее горькая участь. Его наручные часы застряли между движущимися ступеньками эскалатора, и он не успел вовремя с них спрыгнуть. Он редко носил галстук, чтобы не подметать им пол, но в этот раз, как на грех, надел; галстук запутался в верхних зубьях эскалатора и задушил его. Образовалась пробка – люди отступали на миг, а эскалатор выносил их вперед, и они снова отступали. Прошло довольно много времени, пока кто-то первым решился переступить через тело бедного циркача. На свете, как выясняется, много механизмов, смертельно опасных для людей, которые могут ходить только на руках.
После этого, сказала сестра Теобальда, «Пансион Грильпарцер» лишился и класса «С». Чем больше она занималась хозяйственными делами, тем меньше могла уделять внимания Дюне. Медведь совсем одряхлел и одичал. Однажды он напугал почтальона, тот на бешеной скорости помчался по мраморной лестнице вниз, упал и сломал ногу. Об инциденте сообщили в полицию, и к Дюне применили старинный городской указ, запрещающий пускать непослушных животных в места, посещаемые публикой. И Дюне было запрещено жить в пансионе.
Какое-то время хозяйка держала его в клетке, стоявшей во дворе, но там его постоянно дразнили дети и облаивали собаки, а из окон номеров, выходящих во двор, бросали еду (и кое-что похуже). Повадки Дюны становились все менее похожими на медвежьи. В нем обнаружилась хитрость, он притворился однажды, что спит, и почти сожрал кошку, причем не бродячую. Пару раз его пытались отравить, и он вообще перестал есть в этих невыносимых условиях. Оставалось одно – подарить его Шёнбруннскому зоопарку, но даже там засомневались, можно ли его взять. Он был беззубый, больной, возможно, заразный; к тому же он столько лет жил рядом с людьми, что ему трудно было бы привыкать к условиям зоопарка.
Прозябание в открытых всем ветрам «апартаментах» во дворе «Грильпарцера» не прошло для него даром; у него начался жесточайший ревматизм; в зоопарке погиб и его единственный талант – крутить педали велосипеда. Попробовав первый раз прокатиться на велосипеде, Дюна упал, и кто-то из посетителей засмеялся. А Дюна был обидчив, объяснила мне сестра Теобальда. Стоило кому-нибудь во время представления рассмеяться, он никогда больше этого номера не делал. Словом, его держали в Шёнбрунне исключительно из сострадания. Умер он очень скоро, через два месяца после вселения. От душевного и физического потрясения, объяснила сестра Теобальда, у него на груди высыпала какая-то гадость. И ему сбрили шерсть. А обритый наголо медведь, сказал один работник зоопарка, впадает в депрессию, которая очень скоро кончается смертью.
Я вышел в холодный двор пансиона и заглянул в пустую клетку. Птицы склевали в ней все до последнего яблочного семечка, и лишь в углу едва виднелся высохший холмик медвежьего помета, лишенного всяких признаков органического вещества, даже запаха. Он вызвал в моей памяти раскопанные останки жителей Помпеи, погибших под вулканическим пеплом. И я невольно подумал о Робо – от медведя осталось и то больше…
Сев в машину, я совсем затосковал: ни одного лишнего километра на счетчике, никто украдкой не покатался на нашей машине. Таких нарушений совершать было некому…
– Ну вот, слава Богу, наконец-то твой драгоценный «Пансион Грильпарцер» позади, – сказала моя вторая жена. – Надеюсь, ты мне все-таки объяснишь, зачем ты возил меня в эту дыру?
– Это длинная история, – сказал я.
У меня из головы не выходил грустный рассказ сестры Теобальда. Больше всего меня поразила в нем ее бесчувственность. Манера, свойственная писателям, любящим плохие концы. Точно ее жизнь и жизнь ее приятелей-циркачей не была фантасмагорией; точно она была всего-навсего безуспешной попыткой подняться хотя бы одной ступенькой выше».