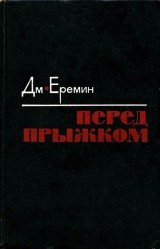
Текст книги "Перед прыжком (Роман)"
Автор книги: Дмитрий Еремин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Отец не выдержал. Охваченный гневом, он тихо, но очень твердо сказал:
– Тебе наш большевистский дух, я вижу, и верно не по нутру. А нам не по нутру твой, отдающий тухлятиной. Чужой ты. Давно я слежу: чужой. А раз так, то тебе здесь не место. Уходи куда хочешь. Сейчас же…
5
– Так ему и надо, – шепотом сказал Антошка, когда Константин, сильно хлопнув дверью, вышел из дома, теперь уже навсегда. – А то ишь какой прыткий.
Легко приподнявшись на локте, он заглянул из-за подушки в окно. На тихой улице было светлее, чем в тесной каморке, где они спали теперь вместе с Савелием. Озаренное круглой луной, усыпанное крупными звездами мартовское небо не давало ночной темноте густеть на земле. Оно посылало вниз волны света, миллионы лучей от бесчисленных звезд, и все это за окном туманно светилось и колыхалось, возбуждая в душе ощущение тайны и красоты.
Впрочем, Антошку сейчас занимало больше другое: не раздумает ли братец уйти совсем? Возьмет да усядется на крыльце, чтобы выкурить папиросу. Успокоится и вернется домой. Костька – такой: ему на всех наплевать, лишь бы не прогадать самому. А мамка сразу обрадуется, уговорит отца, и тот размягчится… тогда как быть?
К счастью, братец не сел на ступеньку, не задержался возле крыльца, не закурил, а прямиком направился к двухэтажному дому напротив – к главному дому бывшего колбасника и торговца Филатыча, отобранному вол– советом и теперь заселенному разным людом.
– Так-с! – весело протянул Антошка. – Значит, к мамошке своей пошел, к Шурке Лисевич. Вот и добро, пускай у нее поживет…
Откинувшись на подушку, он с удовольствием сообщил Савелию:
– Ушел! Видать, насовсем…
Савелий вздохнул, промолчал.
Ему жалко было Платона. Хороший мужик. И умный, и справедливый. А вот, гляди ты, и у него со старшим сыном добра не вышло. Эх-ма! Кому худо без сыновей, без родни, кому с ними. Время такое: везде на разлом пошло…
– Что, дядя Савелий, вздыхаешь? Аль тебе плохо? Воды подать? – перебил его мысли парень.
– Не-е… ты спи. Не плохо мне. Просто так.
– Чего уж не плохо! – зевнув, посочувствовал Антошка. – Весь еле живой. Крепко отделал тебя «парикмахер»!
– Да уж…
– Так, может, подать?
– Не надо.
– Ну, если не надо, тогда будем спать, – снова, сладко зевнув, заключил Антошка и повернулся лицом к стене.
Минуту спустя он уже тихо посапывал. А Савелию не спалось.
«Что верно, то верно, крепко отделал меня варнак паликмахер! – устало раздумывал он, невольно прислушиваясь к тому, как расстроенный ссорой с сыном Платон кашляет и ворочается на скрипучей кровати в комнате возле кухни. – Москва, и верно, что бьет с носка, тетка Дарья предупреждала не зря. Не послушал ее, теперь вот лежи. Чалдон ты, чалдон и есть: первый же мазурик чуть в гроб не вогнал. Надо было мне послушаться Дарью и погодить. Ан приспичило: „Еду, и все!“ Вот и лежи теперь, подыхай…»
Ему в эти дни было худо. Ныли руки и ноги. Сосала тупая боль «внутрях» – в легких и в животе. Вся кровь, казалось, была больна, с трудом бежала по жилам. И так вот едва ли не две недели. С того самого несчастливого дня, когда он впервые решил отправиться, наконец, из поселка в Москву, за правдой, хотя, пока ехал сюда на крышах, простыл, пришлось после дороги с неделю отлеживаться в доброй семье Головиных. Дарья Васильевна тоже, как и Платона, отпаивала его земляничным горячим чаем, не давала вставать с топчана:
– Лежи и лежи! Иначе живым не встанешь!
Но когда он чуть-чуть отлежался, когда показалось, что больше лежать нельзя, не за этим ехал сюда из Мануйлова, худо не худо, а ехать надо, – он снова заторопился в Москву.
– Теперь мне все нипочем, – говорил он Дарье Васильевне в ответ на ее советы чуток еще подождать, оклематься, а уж коли и ехать, то быть в Москве начеку, случайным лицам не доверяться: «Москва, она бьет с носка!» – Мужик я давно ко всему привычный. Да и что с меня взять в той Москве? – отговаривался Савелий: уж очень в Москву тянуло.
– Нет, батюшка, не скажи! Теперь и это в цене, – Дарья Васильевна указывала на старенький полушубок Савелия. – А бывает, что оберут ни за что, а так, по дикости нашей. Так что уж погодил бы. Может, Антошка зачем поедет, проводит…
– Не в силах я боле ждать, – серьезно сказал, наконец, Савелий, решив в тот злосчастный день обязательно ехать к Ленину в Кремль.
После езды на крыше «сороконожки» пригородный поезд показался ему игрушкой. Ну тесно. Ну – тоже не топлено… а однако же как хорошо: меньше часа – и ты в Москве!
На деревянную платформу Казанского вокзала он вместе с толпой пассажиров вывалился из вагона распаренный, мятый, но хорошо взволнованный и довольный: вот и Москва. Доехал…
Вместе с толпой спешащих куда-то людей он вышел на небольшую площадь перед вокзалом. Здесь тоже сновали разные люди. Налево тянулась улица, и по ней пробежал трамвай. Бегунок уже знал, что этот поезд из двух вагончиков без всякого паровоза и есть трамвай. Сверху донизу обвешанный людьми, он скрипел, но бежал, и было удивительно, что бежит он сам по себе, неизвестно от чего: ни дыму, ни пару, а вот – бежит же!
Прямо перед выходом из вокзала высилась насыпь. В ней был проделан большой прогал, вроде ворот без воротин, туда как раз и ушел трамвай. Туда и люди идут толпой. Значит, и мне туда…
Опасливо озираясь, ловя заросшими седым волосом ушами каждый необычный звук, – а все эти звуки просто распирали уши, звенели в мозгу, – Савелий некоторое время зябко осматривался. А когда уже решил, что надо идти, кто-то сбоку негромко спросил:
– Чего, борода, стоишь?
Мужик от неожиданности вздрогнул. Но сразу нашелся и даже обрадовался: похоже, хотят помочь.
– Да вот… гляжу.
– Вижу, что не поешь и не пляшешь, – пошутил человек. – Видать, нездешний?
Человек был одет по понятиям Савелия совсем хорошо: в синюю сборчатую поддевку. Точь-в-точь как Мартемьян Износков. На голове – еще не старая каракулевая шапка. Какой-то не то мешок, не то короб в руках. И лицо веселое: стоит добрый человек с ухмылочкой, не гонит и не торопит. Надежный, видать, господин…
– Нездешний я, – доверчиво подтвердил Савелий. – Как мне теперь, господин хороший, до энтого Кремля дойти?
– Ха… ишь какой ты ходкий: сразу и в Кремль! Комиссаром, что ли, собрался стать?
Человек все шутил, ободряюще оглядывая Бегунка. Когда он говорил, из-под небольших светловатых усов поблескивал металлический желтый зуб.
– Ты бы вначале вымылся, что ли… да космы обстриг. А то ишь разлохматился. Такого в Кремль и не пустят.
Савелий смущенно помял жесткую, свалявшуюся бороду, давно не мытые, седоватые космы на голове. И в самом деле как зверь оброс. В поселке заняться этим забыл, да и не смог бы. А тут, видишь ты, надо…
– Скажи спасибо доброму случаю, – между тем совсем уже по-домашнему, как хороший знакомый, говорил человек, укоризненно покачав головой. – Я как раз парикмахтер. И живу отсель рядом. Выручу, так и быть…
Савелий невольно пощупал пустой карман полушубка и виновато развел руками.
– В одном кармане вошь на аркане, в другом блоха на цепи? – пошутил парикмахер. – Понятно, брат. Скажи спасибо, что я тебе встретился. Раз ты приезжий, ладно уж, остригу и за так. Откуда приехал-то?
– Из Мануйлова, из Сибири.
– Тем больше. Надо помочь. Айда, отец, вон туда. Это мы мигом. А то ишь что надумал: с такими космами – да и в Кремль…
Шарахаясь от сердитых извозчиков, санки которых неожиданно появлялись то слева, то справа, скользя на сверкающих под солнцем трамвайных рельсах, боясь отстать от молча шагавшего впереди парикмахера, Савелий трусил вначале по длинной улице, потом попал в засыпанный снегом кривой переулок, из переулка вслед за парикмахером пролез через какую-то дыру, проделанную в заборе, в узенький тихий двор, из него – еще в один двор. Он уже стал задыхаться от быстрого шага (после порки шомполом и двух ранений он теперь берегся, грудь захватывала одышка), когда человек, наконец, сказал:
– Вот и пришли. Минутку постой, я сейчас, – и шагнул не то в дверь под лестницей на второй этаж, не то в большую дыру.
Бегунок еще не успел отдышаться, когда человек появился из этой дыры уже без мешка.
– Айда. Что темно, не смущайся. С электричеством ноне, знаешь? Давай…
Он пропустил мужика вперед. Тот, пригнувшись, чтобы не стукнуться о бревенчатую притолоку, шагнул… а очнулся уже, как показалось ему, поздней ночью: вокруг тяжело стояла ночная тьма. Только где-то, не то за домом, не то в какой-то его глубине тонко пиликала гармоника да еле слышно плакал ребенок.
Савелий лежал на холодном полу, у голой дощатой стены, раздетый. Голова разламывалась от боли, руки и ноги закоченели, спина была деревянной.
С трудом, все время постанывая, он сел. И сразу счастливо дрогнул: впереди, в квадратной узкой дыре, через которую они с «парикмахером» вошли сюда, по-дневному светилась дощатая стена сарая.
Свет был рассеянным, тусклым, но это был явно дневной, а может быть, даже и утренний свет. «Значит, – подумал мужик, – я пролежал недолго. Просто парикмахер дал мне по башке… а много ли надо старому человеку? Еще хорошо – не поздно очнулся, только охолодило, а мог бы и окочуриться в одночасье…»
Держась за стенку, он кое-как добрался на непослушных ногах до дыры. В дворике было по-прежнему тихо, пустынно. Шумы города долетали сюда невнятно, издалека. Единственная тропа, протоптанная в снегу, вела из дворика мимо сарая куда-то вбок, отсюда не видно было куда. Снег здесь не таял, лежал еще крепко, веяло от него нелюдимым холодом, и Савелий невольно всхлипнул от приступа сильной дрожи.
Надо было спасаться. А где и как? Ни валенок, ни шапки, ни полушубка. Все унес «парикмахер».
«Верно сказал варнак, что острижет меня мигом. Вот и остриг…»
Над головой, на втором этаже деревянного, дряхлого дома слышались уже знакомые звуки: то затихала, то снова пиликала в неумелых руках гармошка, и вместе с ней то затихал, то плакал ребенок.
Решившись, Савелий рывком шагнул из дыры на тропу, упал, ползком добрался до лестницы на второй этаж и торопливо начал взбираться по ней туда, где слышались живые людские звуки.
На небольшой площадке, куда он вполз, было две двери. Третья, открытая настежь, вела в сортир. Он стал царапаться в первую. И когда она распахнулась, на него пахнуло душным, прокисшим, но все же людским теплом.
– Тебе чего? – с угрозой спросил невысокий, но крепкий парень, отпихнув Бегунка от двери ногой. – Отколь ты?
– Ради Христа, – с трудом выговорил мужик. – Погреться.
– Ишь ты… Погреться! – все еще сердито и недовольно отозвался парень. – Кто ты такой?
– Приезжий я… из Сибири…
– Раздел кто, что ли?
– Раздел…
– Хм. Вижу я, чья работа. Лезь, коли… ходют тут!
Не очень охотно, но парень все же пустил мужика в квартиру и даже помог Савелию встать и дойти до лавки возле стола в крохотной, тускло освещенной комнате.
После подробных, явно заинтересованных расспросов, парень не то со злостью, не то удовлетворенно хмыкнул, повернулся к еще совсем молодой, болезненной и худой, кое-как одетой жене, качавшей ребенка в люльке:
– Это он. Шмурый. Нарочно этого раздел, чтобы на меня подозрение навести. Ну шкура, ну стервь! Третий уж раз. Злобится, сволочь, что я от их отошел. «Стенку» влепить мне хочет. Вот ведь бандит, вот шкура! Ну, я ему тоже вверну. Он у меня узнает…
До вечера Савелий пролежал у Ивана Махрова (так звали парня) за теплой печкой в углу, приходил в себя, согревался. Иван куда-то вскоре ушел, Малаша весь день занималась ребенком и по хозяйству, а к ночи парень вернулся с довольно большим узлом.
– У приятеля выпросил, – сказал он, разворачивая узел на полу возле мужика. – Не воровано, ты не думай. Я, чай, не Шмурый. Взял в мастерских у Егорки Швальнова. Так что, отец, говори спасибо ему. А вообще дернуло же тебя! – не удержался и упрекнул он сердито. – Таких, как Шмурый, тут не один. Враз оберут. Надо, дядя, соображать! Идешь как овца за волком! Ан тут, брат, держись!.. Конечно, в театр или в Кремль, как хотел, в таком не пойдешь, – шутливо добавил он, оглядывая мужика, торопливо натянувшего на себя дырявое, старое пальтецо и теперь приматывающего веревкой стоптанные кожаные коты к сохранившимся, к счастью, хотя и полусопревшим от долгой носки, но все же греющим ноги портянкам. – Тут уж не до театра. Абы назад, до дому добраться в тот ваш заводской поселок. И надо, как я уже объяснил, идти тебе так: от нас как выйдешь, сразу же от сарая поверни в проулок налево. Потом пойдешь в проулок направо. И еще раз налево. Тут тебе будет Рязанская улица. А уж по ней до вокзала рукой подать. Только вот будет ли поезд – того сказать не могу…
Когда Савелий вышел из квартиры Ивана Махрова, было совсем темно. Над крохотным, узким двориком дружно мерцали звезды, а здесь, на земле, все было темным и страшным. Казалось, что из-за каждого угла следят за тобой невидимые варнаки-грабители, вроде Шмурого. Ждут, когда подойдешь поближе, и тюкнут тебя палчиной по голове.
Ночь, город должен бы спать, но все вокруг не спало. Все, казалось Савелию, двигалось, шевелилось, шуршало, скрипело, настороженно шло и ползло или стояло, прислушиваясь: «Нет ли кого, чтобы можно было ударить, схватить, потом уволочь, раздеть, а раздетое бросить в канаву, как Шмурый бросил в темную дыру того сибирского мужика?»
Нащупывая разношенными опорками твердую наледь тропы, то и дело поскальзываясь от слабости и едва не падая после каждого шага, Савелий осторожно побрел от дворика прочь – к тому переулку слева, о котором толковал ему Иван.
А переулка все не было. Да и тропа незаметно скрестилась с другими тропами. Все они перепутались, и вскоре Савелий уже не знал, где он, куда идет.
Решив идти напролом, он через чей-то захламленный двор пролез еще в один двор. Из того – еще в один. Потом попал на пустырь, остро пахнувший гарью. В свете звезд перед Савелием встал впереди, как покойник в саване, силуэт одинокой печки с длинной трубой, а вокруг нее – грудой валялись бревна.
Здесь он со Шмурым не проходил. Похоже, слишком забрал налево. Куда же теперь? Запутался, пропаду…
И вдруг совсем, показалось, недалеко донесся надрывный гудок паровоза.
«Чугунка-то, значит, близко? Надо идти: зовет…»
Не разбирая дороги, Савелий побрел туда, куда звал его паровозный гудок. Пролезал сквозь дыры в заборах. Стукался в темноте об острые углы домов, равнодушно прислушивался к тому, как в этих домах пьяно, бессмысленно веселятся, истошно ругаются или плачут. И наконец – через узкий коротенький переулок все же вышел на улицу. На довольно широкую, непонятную улицу.
Кое-где в окнах неразличимых домов мелькал тусклый свет. А внизу, в темноте, сзади, спереди и с боков, кто-то незримый двигался, хриплым шепотом говорил на невнятном людском языке, будто на улицу вышли призраки, души людей умерших, и мечутся, ищут, все ищут кого-то, спрашивают друг друга: «А где он?», бегут, возвращаются, не находят себе покоя.
Савелию стало по-настоящему страшно. Бит был, расстреливали, но страшно так не было, как теперь. «Бежать! Скорее! Ох, смертушка ты моя…» Почти на карачках он перебрался на другую сторону улицы, с ходу ткнулся в кого-то лбом, тот взвизгнул по-бабьи, выругался, спросил: «Чего, кавалер, дуришь? Постой, говорю! Ты где?», но мужик уже сунулся между темными сундуками домов и так добрел наконец до железнодорожных путей.
Что это была спасительная «чугунка», сомневаться не приходилось: над разводными стрелками мерцали сигнальные огоньки, повсюду темнели квадраты вагонов, высились груды пакгаузов в стороне.
На душе стало легче: вот и пришел. Теперь подамся налево – там и вокзал…
Но не успел он пройти и полсотни шагов, как от пакгаузов вырвалась вдруг и понеслась как пуля тревожная трель свистка. Вслед за ней послышались крики, топот нескольких ног. Потом за вспышкой огня тишину разорвал оглушительный выстрел.
Еще один.
И опять тревожная трель свистка…
Мимо Савелия, тяжело дыша и чертыхаясь на бегу, проскочили вначале трое. Они один за другим воровато нырнули под вагон – к остаткам пристанционной ограды, через которую только что пролез сюда и мужик. Вслед за ними, не переставая свистеть и выкрикивать: «Стой! Стрелять буду… стой!» – появилось еще двое запыхавшихся вооруженных людей. Один из них нырнул за бегущими под вагон, другой – задержался.
– Ага, бандюга, попался? – крикнул он, ухватив Савелия за рукав и пытаясь вывернуть руку за спину. – Егоров, давай… одного держу!
Подталкивая прикладами, его повели в комендатуру на вокзал. А когда разобрались, расспросили – откуда и почему оказался возле пакгаузов на путях, – наступила глухая полночь. Пришлось ночевать на вокзале. В заводской поселок Савелий вернулся лишь поздним утром, совсем больной, и сразу же слег: простуда пошла «по второму кругу».
Около двух недель Дарья Васильевна не позволяла ему выходить на улицу:
– Хватит, сват, нагулялся! Пока совсем не пройдет, о Москве и не думай. Лежи тут с моим стариком, поправляйся. А то, чего доброго, не загнулся бы. Нынче, батюшка, это скоро бывает. Ты лучше скажи спасибо, что жив остался. Когда-никогда, а встанешь, свет божий увидишь. А то в коридоре, где тебя хлопнули, так бы и лег…
И вот теперь, после ухода Константина из дома, он лежал в темной каморке рядом со спящим Антошкой – и думал. Заново как бы перебирал в памяти свою жизнь.
Вспоминал о наказах, какие давали ему мужики на сходе, когда решили, что надо ехать Савелу в Москву. До каждой мелочи вспоминал и ту страшную ночь, когда шел от Ивана Махрова, и все, о чем думалось в эти длинные две недели. А рядом, повернувшись лицом к стенке, сладко и мирно дышал Антошка. С другой стороны, за стеной, где кухня, ворочался Платон. Оттуда глухо, но все же слышался плач Дарьи Васильевны.
«Видно, тяжко им, старикам. Да и то сказать: какой– никакой Константин, а сын. Теперь ушел насовсем, как отрезался. Самому-то, может, и ничего, молодой. А матери да отцу? Да-а, пошло на разрыв. И в малом пошло, и в большом, – не в первый раз огорченно думал Савелий. – Хотя бы теперь вот, после ихнего съезда, настало бы для России-матушки облегченье. А то какой год все худо да худо. Похоже, что облегченье-то будет? В газетах про все прописано: про налог для крестьянства и про заводы. Он, главный, думает обо всем. Думает, как не думать? Вот чуть оклемаюсь – опять подамся в Москву. К нему. А пока давай-ка, Савелий, спать…»
6
После избиения уполномоченных исполкома настоятель Николо-Угрешского монастыря поспешил беспрекословно выполнить гужевой наряд уездных властей и в назначенное утро прислал в поселок десять хорошо откормленных лошадей, запряженных в сани-розвальни.
Угрюмые бородатые возчики три полных дня молча возили с лесных делянок распиленные на полуторааршинные плашки дрова для заводов и учреждений Рогожско-Симоновского и Басманного районов Москвы. А поздним вечером в субботу, перед тем как вернуться в свое подворье, сбросили во дворе исполкома дополнительно еще пять возов – для местной пекарни и школы.
Убрать драгоценную по тем временам груду березовых и сосновых плах, сваленных кое-как, в тот же вечер не удалось, а когда Миша Востриков и его комсомольский актив явились утром на трудовой воскресник, то во дворе, вкусно пропахшем лесом, усыпанном сосновым и березовым сором, сиротливо лежало лишь несколько сучкастых, ни на что не пригодных корявых лесин. Остальные сгинули неведомо куда.
Взбешенный подлостью земляков, Миша сердито распорядился:
– Это мы так не оставим! Пойдем, ребята, по дворам! За ночь дрова не могли распилить и спрятать. Начнем поголовный обыск. Особенно тут, в переулке, и в ближних домах по улице. Явно, что орудовал кто-то здешний, кто знал про дрова. По двое, по трое… пошли!
Часа два комсомольцы ходили от дома к дому. Таскали к волисполкому на своих плечах тяжелые плашки. Составили список злоумышленников, переругивались с ними, потные, но довольные: все-таки будут дрова у пекарни и школы. А когда в конце улицы остались необследованными лишь несколько домов, не считая надежных «своих» домов Фильки Тимохина и Антошки Головина, уставший, мучимый жаждой, потный Антошка отпросился у бригадира на десять минут домой:
– Пить хочу – страсть! Только напьюсь да оправлюсь…
Но едва он, усталый и злой, забежал домой и вначале поспешил во двор, где в дальнем углу еще Филатычем был поставлен добротный нужник, как с удивлением, почти со страхом, остановился: в другом углу крытого двора, в его сумеречном свете белела небольшая, но ясно видимая кучка березовых поленьев.
Подойдя ближе и вглядевшись, парень поразился:
«Так и есть… они! Уже распилены и расколоты. А кто приволок? Не мать же? Она не пойдет на такое дело. Да и куда ей, старой. Значит, чертова Зинка…»
Забыв, зачем шел, он бегом направился в дом.
Сестра что-то шила, склонившись к зеленому лоскуту. Она это делала всегда самозабвенно: найти хороший лоскут, сшить из него что-нибудь вроде платочка, фартука или косынки для нее, бедной пятнадцатилетней девчонки, было редкостным счастьем.
– Ты что же это наделала?
Не став расспрашивать, она или не она украла дрова, Антошка вырвал лоскут из цепких Зинкиных рук:
– Соображаешь?
Изогнувшись по-кошачьи и даже царапнув Антона ногтями, Зина рванула лоскут назад и вскочила:
– Очумел?
– Не я очумел, а ты! Воззвание о борьбе с воровством читала?
Зная строптивый нрав сестры, он сказал это уже гораздо тише.
– На железных дорогах-то? – удивилась Зинка такому неожиданному вопросу. – Читала. А ты про что?
– Про дрова, которые лежат во дворе, в углу! Ты где их взяла?
Зинка пренебрежительно сморщила остренький, бойкий носик.
– Взяла, где и все.
– Во дворе исполкома?
– А где же еще!
Зина произнесла это с вызовом, без тени смущения. И только теперь Антошка увидел, что сестренка стоит перед ним вся розовая, потная, как после бани. Русые волосы еще не просохли, на руках ссадины, под ногтями черно. Наверное, только что распилила те плашки, вспотела…
– А ну-ка, давай во двор! – сердито прикрикнул он. – Показывай, что взяла!
– А что такого, что я взяла? – без тени раскаяния ответила Зинка. – Все брали, и я взяла. Кланька Тимохина больше взяла. Не мне чета…
– Об ней другой разговор. А ты иди, истукан, показывай…
Почти силком он вывел ее во двор, настойчивыми толчками в спину заставил пройти в угол, белевший свежей поленницей колотых дров.
Там она оттолкнулась.
– Отстань, дурак! Чего пристал с кулаками? Дрова и дрова. Мамке на топку… ишь разорался!
Было видно, что она не только не раскаивается, но очень довольна тем, что не отстала от других, успела схватить хоть немного, а все же хороших березовых дров. Теперь недели на две мамане хватит. Хоть готовить почти и нечего, но все равно есть-то надо? Мать ежедневно, скорее по привычке, чем по нужде, топит большую печь, старается что-то сготовить из еды на обед и ужин, а топить печку нечем. Но и без топки нельзя. Неужто Антошка не понимает? И мало ли что в воззваниях пишут: жить тоже надо…
– Мамке на топку! – передразнил ее Антошка. – А то, что за это тебя могут в тюрьму, ты знаешь? – со злостью выкрикнул он, растерянно прикидывая в уме, что же теперь делать с расколотыми дровами?
Нести обратно охапками? Картина! На глазах у всех тащить украденные и переколотые Зинкой дрова… Ух, дикость! Но и оставить без спроса такое дело нельзя. Вот задала задачу! Стоит, обирает с застиранного платьишка сор, пот с лица рукавом смахнула…
– Сейчас вон мы по всем дворам в поселке прошли, дрова назад забирали, – попробовал было он уговорить упрямую Зинку. – Пекарня и баня стоят без дров…
– Для них найдут! – отмахнулась та.
– Где их найдут? У нас и найдут! Эти самые, которые ты уперла!
– А я их спрячу…
– Куда ты их спрячешь?
– Найду куда…
– Я тебе спрячу! Давай, чертенок, неси обратно! – совсем разозлившись, крикнул Антошка. – Сейчас же неси!
Уже уходя, он тоном решительного приказа сердито повторил:
– Немедленно отнеси назад!
И сквозь зубы добавил:
– Иначе ответишь… да еще как!
После ухода брата Зинка некоторое время растерянно топталась возле своей добычи: как быть? Неужто и в самом деле нести дрова обратно? Белый день на дворе. Пойдешь на глазах у всех… срамота! И прямо в лапы милиции. Или таких комсомольцев, как строгий братец Антошка. Схватят, потащат в исполком и засудят…
Как бы не так! Дрова тащили все кому не лень, а засудят ее одну? Да и пойди докажи, что те самые плашки? Тут колотые, свои! Это уж фигушки, не пойду!..
В злом, упрямом раздумье она покусала грязные ногти, заторопилась:
«А если и верно сюда придут? Тоже картина: поведут по улице на глазах у всех… особенно, ежели это увидит Родик Цветков. Тут уж совсем сгоришь со стыда! Взглянет Родя своими честными глазками, аж покраснеет от удивления, вмиг и сгоришь!
А еще хуже, если Родю сюда и пошлют с обыском. Он – комсомолец. Тот же противный Антошка пришлет его сюда назло ей, Зине. Это он может. Ох, срамота! Похоже, что надо куда-никуда, а дрова упрятать…»
Она огляделась. В крытом дворе стоял полумрак. Только сквозь щели в тесовых воротах да в подгнивших пазах между бревнами, где выпала конопатка, пробивался дневной яркий свет. Светлее было и на высоком «помосте», отделявшем дом от двора: дверь на «парадное» крыльцо там была открыта, строгий братец как вышел наружу, так и забыл закрыть, и оттуда теперь во двор лилась полдневная светлота.
«Может, сунуть дрова под помост! Или в полуподвал за чаны, где Филатыч варил колбасу? Нет, там сразу найдут: где и искать, как не там? Вернее всего – зарыть. Вот здесь, в самом темном углу двора. Ничего не брала, ничего не знаю. Я и из дома не выходила!.. Зарыть в том углу – и вся недолга!»
Разыскав лопату, Зина торопливо стала разбрасывать в углу сухую податливую землю, перемешанную с давно сопревшим навозом.
Когда-то Филатыч, хозяин дома, держал в этом крытом дворе овец, корову и лошадь. Здесь же хранил он телеги, сани, хозяйственный инвентарь. Не удивительно, что вначале из-под лопаты летели полусгнившие щепки, давно засохшие коровьи «лепешки» и разный дворовый сор.
Потом вдруг пошел хороший чистый песок. Такой ровно чистый, будто его насыпали тут нарочно совсем недавно.
Не успела Зина понять, что к чему, как лопата ударилась обо что-то тяжелое, зазвенела, скользнула вбок. Девчонка поддела находку глубже. Несколько раз окопала железину с разных сторон. Потом с маху ткнулась острыми коленками в холодную песчаную кучу на краю ямы и стала выгребать землю руками. «Небось бросил Филатыч чего-нибудь за ненадобностью, – раздумывала она. – Вроде большой чугун. Он и есть: ведерный чугун. А на нем тяжелая крышка. Похоже, сковорода. Чего он так-то чугун свой в землю зарыл?»
С трудом подняв тяжелую крышку вместе с налипшей на нее землей, Зина сунула руку в чугун и опять удивилась:
«Доверху чего-то наложено… В тряпочке… нет, в клеенке. А в клеенке бумаги? Батюшки-светы: деньги! И сколько! Таких и видеть не приходилось: тут не рубли, а больше с царем… А эти с красивой седой царицей. А дальше… Ой, мама! Внизу-то чего? Деньги насыпаны… золотые! В нашем дворе – вдруг клад! Филатычев, что ли? А может, и он об этом не знал? Может, кто-то еще до него чугун тут запрятал? Вот ведь удача! Вот тебе, братец Антошечка, и дрова! Не надумала бы их зарыть и клада бы не нашла…»
Кое-как она выволокла тяжелый чугун из ямы. И в ту минуту, когда наконец поставила его перед собой, перевела дух, осиливая усталость, ей явственно показалось, что в одной из щелей в стене, за которой была усадьба и дом Тимохиных, мелькнула Кланькина тень.
Тень закрыла просвет, и сразу в этом просвете блеснул знакомый настырный глаз. Не иначе как Кланька.
– Ты там чего? – со злостью спросила Зина.
Никто не ответил. Но глаз не пропал: он всматривался, выискивал. И в иное время Зина была бы рада тому, что подруга-соседка пришла к ней поговорить о своих сердечных делах: в Антошку влюбилась, дура. В его золотые волосики…
А может быть, вызывает на бой?
Были у них такие странные, – правда, редкие, но непреоборимо острые минуты, когда ни с того ни с сего, встретившись на задах, за дворами, они вдруг молча вцеплялись друг в друга, царапались и щипались, таскали друг друга за косы и носы, вывертывали когтистыми пальцами уши, сопели и охали – кто кого? Устав, исцарапанные, встрепанные, потные, они вдруг отталкивали друг друга и так же молча, как начали драку, воровато шмыгали каждая в свой двор…
Что это было, они не смогли бы ответить. Просто скапливалось в душе какое-то беззлобное раздражение, требующая выхода неподвластная им сила. И в такие минуты они искали друг друга, чтобы сцепиться и так вот как бы очиститься, разрядиться от этой томительной, странной силы. И самое удивительное было в том, что злые молчаливые схватки ничуть не мешали дружбе.
Похоже, что и сейчас Кланька искала подругу для этой злой минуты.
«Нашла, дура, время! – не без интереса подумала Зина. – Тут клад, а она…»
И сердито крикнула:
– Я те дам… уходи! Занята я. Отзынь! Кланька, тебе говорят? Все зенки выцарапаю, если не отстанешь, – добавила она уже совсем свирепо и кинула в сторону щели полную горсть песка.
Стало слышно, как Кланька, крадучись, отошла от стены.
– Вот так-то лучше! – теперь уже про себя одобрила Зина. – А то ишь, нашла время. Я те, смотри!
Прижав чугун к тощему животу и едва удерживая его, она отнесла и сунула находку под внутреннее крыльцо. Потом взялась за дрова.
С трудом ей удалось кое-как забросать их песком и мусором в темном углу. Вышло не очень складно, и Зина приволокла туда еще старые сани, опрокинула их на кучу полозьями кверху. Потом подкатила рассохшееся тележное колесо, швырнула остатки какого-то армяка из коричневой домотканой ряднины и только после этого облегченно вздохнула: ну, кажется, все в порядке– Не очень красиво, да ладно и так. Мало ли, как у кого во дворе убирают мусор. Кому до этого дело? Вон только Кланька виляла. Может, следит и сейчас?
«Ну погоди, рыжий чудик, я тебе исцарапаю конопатую харю вдоль и поперек! Ты у меня узнаешь, как за людьми подглядывать, погоди…»
Неслышно ступая сунутыми в старые валенки босыми ногами, она осторожно приоткрыла ворота, скользнула наружу, прокралась по хорошо утоптанной ими с Кланькой тропе вдоль стены двора на огород, завернула за угол, к дому Тимохиных – и сразу столкнулась с Кланькой.
Той давно уже не терпелось во всех подробностях рассказать своей лучшей подруге о том, как ловко она упрятала свою часть украденных дров. Даже Антошка, если придет, нипочем и полешка не увидит!.. Однако, по особому выражению потного, сердитого лица Зинки, она поняла, что сейчас соседке не до душевного разговора: сейчас у них тот, непонятный и сладкий час…








