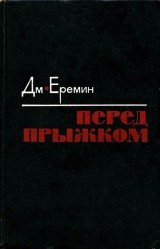
Текст книги "Перед прыжком (Роман)"
Автор книги: Дмитрий Еремин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Однако Платону Головину поехать в Кремль не пришлось: простуда вначале уложила его дома в постель, потом обернулась воспалением, легких. День спустя его по разрешению Круминга увезли в заводскую больницу.
14
Все хлопоты по устройству приема делегатов в Кремле Веритеев взял на себя.
Это было неприятно ему, потому что казалось как бы потворством обывательским настроениям «бузотеров». Уступкой той самой мелкобуржуазной стихии, о которой за последнее время Владимир Ильич не устает говорить на партконференциях и рабочих митингах в Москве.
Тем не менее, согласившись, он созвонился со знакомым еще по прежней партийной работе управляющим делами Совнаркома Николаем Петровичем Горбуновым. Раза два или три он даже бывал в гостях у Горбуновых, в здании бывшей гостиницы «Метрополь», где тот жил с женой в огромной, украшенной золотой купеческой лепниной комнате, с окнами на Воскресенскую площадь, к Большому фонтану, возле которого постоянно переругивались водовозы, набиравшие из бассейна воду в бочки, чтобы затем развезти ее по учреждениям и домам.
Сюда, в «Метрополь», Веритеев зашел и на этот раз.
Вскипятив на примусе чай из сушеной, моркови, расспросив о всех обстоятельствах дела, Николай Петрович некоторое время раздумчиво щипал темную окладистую бородку, отпущенную, видимо, ради придания солидности совсем еще молодому лицу двадцативосьмилетнего человека. Потом полистал записную книжку в поискал свободного «оконца» в перенасыщенной делами, очередной неделе Владимира Ильича. И наконец обещал помочь.
В назначенный день, впятером, без Платона Головина, заметно смущенные непривычной задачей, делегаты нестройно шагали по кремлевской мостовой к подъезду здания, где в помещении бывшего департамента судебных установлений теперь располагался Совнарком.
В коридоре третьего этажа, возле дверей в приемную и кабинет Ленина, было безлюдно, тихо. Хотелось задержаться здесь и, внутренне подтянувшись, молча постоять, подумать. Даже настырный, нигде нетушующийся Игнат Сухорукий в первые минуты слегка оробел и почти шепотом предложил:
– Давайте, мужики, отсель туда не пойдем. – Он кивнул на дверь приемной. – Тут будем ждать… вольготней!
Но деловитая, строгая барышня, ведавшая приемом, решительно воспротивилась:
– Нет, товарищи, здесь нельзя. Пожалуйте в приемную. У Владимира Ильича внеочередные посетители, он просил подождать. В приемной вам будет удобнее…
– Ну-к что же, подождем! – с подчеркнутой развязностью, только для того, чтобы барышня не подумала, будто он кого-нибудь здесь стесняется или боится, громко заметил Сухорукий и первый прошел в большую, уставленную красивыми стульями комнату, бочком присел на крайний стул у окна. – Ждать нам не привыкать. Много ждали, немного уж подождем. Лишь бы толк от этого вышел…
– Хоть тут помолчал бы, черт! – сердито оборвал его Иван Амелин. – Не на митинге в цеху…
– А что мне митинг? Что тут, что где! – задиристо, но уже потише огрызнулся Игнат. – Сами вы, коммунисты, твердите про «власть народа». А раз так, то нечего и…
Дверь из кабинета Ленина вдруг распахнулась. Оттуда вышли двое незнакомых делегатам мужчин. У обоих – порозовевшие лица. На губах – смущенные и вместе с тем неудержимо радостные улыбки. Похоже, что-то доброе, важное для них свершилось сейчас в кабинете. И это доброе, подобно волне, пахнуло вдруг на делегатов. Даже Игнат с неожиданно дрогнувшим сердцем невольно встал с облюбованного им стула и, не отводя любопытствующего взгляда от прошедших к выходной двери мужчин, не то завистливо, не то сочувственно подумал вслух:
– Ишь ты… довольны. Видать, добились чего-то!
Строгая барышня озабоченно прошла в кабинет. Когда дверь за ней закрылась, Сухорукий, дивясь непривычному для себя волнению, тихо сказал:
– Ну, теперь вроде мы…
Но пришлось подождать еще: вернувшись, барышня обратилась к Веритееву:
– Владимир Ильич просит вас в кабинет. Пока только вас одного, – добавила она, заметив нетерпеливое движение Игната.
– А почему не всех? – обиделся тот.
– Потому, что товарищ Ленин хочет вначале ознакомиться с сутью дела. Потом пригласит и вас…
– Та-ак… мы, значит, опять потом?
Нетерпение становилось невыносимым, но Сухорукий все-таки заставил себя насмешливо добавить:
– Кому почет, кому нет…
– Перестань трепаться, в конце концов! – тоже едва справляясь с волнением, совсем уже грубо одернул его и Малкин. – Чего, дурила, бормочешь? Хоть тут-то… совесть имей!
Когда Веритеев вошел в кабинет, Ленин что-то сосредоточенно писал, слегка склонившись влево.
Солнце еще только заглядывало в окна, лучи лишь краешком падали на паркет. Но их по-весеннему яркий свет легко отражался от пола на белую стенку кафельной печки за спиной Владимира Ильича, оттуда мягко рассеивался на зеленом сукне стола. И все это ясно, но и не броско высвечивало сосредоточенно занятого работой Ленина.
Веритеев не раз видел и слышал Владимира Ильича на рабочих собраниях и конференциях московских большевиков, в дни праздников на Красной площади. Но одно дело, когда ты в толпе, где-нибудь на галерке или даже в партере тесно набитого людьми Большого театра или Дома Союзов, другое – вот так, один на один, когда он молчит, сидит в кабинете и пишет, склонившись к столу. Совсем не как вождь, не трибун и учитель, а как любой другой человек, почти по-домашнему.
Так увидеть его довелось впервые. И все равно почему-то робость берет: великий ум, великая воля его известны. Невольно хочется замереть на минуту возле дверей, потом тихо кашлянуть и сказать:
– Здравствуйте, товарищ Ленин!
– А-а… здравствуйте! Я сейчас, одну секундочку… допишу. Садитесь, пожалуйста!
Ленин указал длинной тоненькой ручкой с чернильно поблескивающим пером на ближнее кресло и вновь склонился к столу.
Вчера и сегодня с утра он был занят конспектом очередного доклада о положении страны и необходимости перевода ее на рельсы новой политики, а одновременно и рядом других неотложных дел. Среди них – состоянием переговоров о нефтяных и лесных концессиях, закупкой в Европе машин и деталей для Гидроторфа и электростанций, положением в Закавказье и на Востоке, разбором конфликтов между руководителями некоторых ведомств.
За те три-четыре минуты, которые только что выкроились после ухода товарищей из Главтекстиля и появлением в кабинете Веритеева, он успел написать еще срочное распоряжение управляющему делами Совнаркома, а теперь заканчивал сердитую записку одному из тех, кто вместо живого дела занимается на ответственном посту пустословием, где «не видно думающей головы», все «потоплено в бюрократическом соре…».
– Ну-с, так с чем ко мне пожаловали ваши ходоки? – закончив писать, спросил Владимир Ильич, кивнув в сторону двери, ведущей из кабинета в приемную. – Вы, если не ошибаюсь, до работы в аппарате тоже были одним из рабочих этого завода?
– С самого основания, когда еще немец Вейхельд…
– Ага! Значит, завод вам известен не понаслышке. А с какого года в партии? Гм… хорошо. Теперь секретарь Московского укома? Так-так. Расскажите, пожалуйста, что происходит там на заводе? Что там за…
Он усмехнулся:
– Как это теперь говорят? «Буза»?
Веритеев уже был предупрежден Горбуновым о том, что Ленин не терпит велеречивости, этого «пустейшего производства тезисов». Даже докладчикам на заседании Совнаркома дает для сообщения, иногда по важнейшим вопросам, всего пять – десять минут. Того же требует от наркомов и от себя. Значит, во время приема нужно доложить предельно кратко, лишь самое главное.
– Остальное, – добавил Горбунов, – Владимир Ильич додумает сам. Схватывает он все мгновенно!..
И теперь, заранее подготовившись к тому, что должен сообщить в Кремле, Веритеев стал коротко рассказывать о положении дел на заводе и о «бузе» в связи с решением о поездке рабочего эшелона в Сибирь.
Ленин слушал внимательно, подавшись всем корпусом в сторону Веритеева. Только однажды он искоса, как бы мельком взглянул на лежавший перед ним конспект доклада, где похожие на чертеж архитектора в строгом порядке выстраивались то длинные, то короткие строки из цифр и незнакомых Веритееву, не по-русски написанных знаков. Этот быстрый взгляд Владимира Ильича был так красноречив, написанное на листе так живо притягивало внимание Ленина и, судя по всему, требовало уточнений и дополнений, что Веритеев вдруг сбился: рассказ о «бузе» на заводе показался слишком подробным, не к месту, и он замолчал.
– Ну-ну, – откинувшись к спинке стула, подбодрил Владимир Ильич. – Продолжайте, пожалуйста. Кто же они, эти главные, как вы выряжаетесь, бузотеры? Значит, и председатель завкома Драченов здесь? – Ленин указал глазами на дверь приемной. – Тоже делегат?
– Тоже! – мрачно подтвердил Веритеев. – А лучше бы взять его со всей компанией да и…
– Да и… что? Взять без разбора всех несогласных с нами да и отовсюду вон? Исключить? Выразить политическое недоверие? Выгнать из профсоюза? Гм, да… решительно. Главное, одним махом: раз-раз… А что же потом? Вы полагаете, что после этого «бузы» не будет?..
Ленин недовольно хмыкнул, опять искоса взглянул на листок с конспектом завтрашнего доклада.
В последние месяцы, особенно в связи с предстоящим съездом партии, выступать ему приходилось часто. Поворот в политике предстоял крутой. (Об этом он мельком подумал и сейчас). Не каждый даже из старых партийцев вполне поймет и примет не только неотложную необходимость, но и тактическую тонкость этого поворота от «военного коммунизма» к нэпу. Что же говорить о простых рабочих, а тем более о полупролетариях с мак-кормиковского завода?
– Скажите, пожалуйста, вам это виднее: действительно ли так уж из рук вон плохо со снабжением на заводе? – спросил он Веритеева.
– Не хуже, чем у других, – сердито ответил тот.
– Может быть, рабочие действительно оказались как бы «ничьими»… вроде сирот?
– Выдумывают! – снова не выдержал Веритеев, из головы которого все эти дни не выходила драченовская провокация на заводском митинге. – Этим «сиротам» уисполком выделил шесть десятин земли под личные огороды. У многих, вроде того же Драченова, есть земля в деревне… чего им еще? Просто мутят. Настоящих рабочих осталось мало, закалки нынешним не хватает…
– Гм… это, конечно, верно, – согласно кивнул Владимир Ильич. – И что же, по-вашему, из этого следует? – суховато добавил он. – Прежде всего то, что вам лично и партячейке завода нужно энергичнее и чаще разъяснять суть момента, вести работу с «бузящей» массой. Я, собственно говоря, для этого и попросил вначале вас одного. Судя по всему, Московский уком и партийцы завода недостаточно энергично и вдумчиво ведут там работу среди беспартийных. А завод ведь особенный, можно сказать, чужой. Тем более там необходимы настойчивость, инициатива. Доклады на митингах, затеянных не бузотерами, а подготовленные вами. Хорошо продуманные агитационные «суды» над Советской властью для разъяснения сути нашей политики. В Москве такие «суды» проходят очень успешно. Кроме того… да-да, это сделать тоже необходимо! – подчеркнул он, имея в виду скорее себя, чем Веритеева. – Хорошо бы поехать на завод кому-нибудь из Московского комитета… или из наших цековских и вциковских товарищей, чтобы прямо и откровенно объяснить рабочим, в каком отчаянном положении мы находимся, почему необходимы сейчас всем сплоченность и терпение. Рассказать и о том, почему так важно в этом году всемерно помочь крестьянам в уборке урожая, а тем самым помочь и самим себе. Гм… что, если мы попросим товарища Калинина?
Он полувопросительно взглянул на Веритеева и тут же твердо добавил:
– Это было бы лучше всего! Именно Михаил Иванович сможет объяснить доходчивее и лучше любого. Я поговорю с ним сегодня же! – и сделал пометку в лежавшем на столе блокноте. – Что же касается того, что вы называете «бузой», – Ленин положил украшенную чернью тонкую серебряную ручку между пружинистыми колечками специальной подставки и вновь повернулся к Веритееву, – то здесь не все так просто, как некоторым кажется. Путающихся и колеблющихся действительно много. В том числе и в рабочем классе. Удивляться нечему: разруха. Множество фабрик и заводов стоит. А что такое промышленность для рабочего человека? Когда он видит работающие фабрики, сам работает каждый день в большом производственном коллективе – это одно. А когда этой главной материальной базы жизни рабочего класса нет или она находится в полуразрушенном состоянии – это другое. Тогда людьми овладевает состояние неопределенности, колебаний. А то и отчаяния. В таких условиях провокационные выпады всякого рода враждебных нам говорунов тоже не могут не оказывать определенного воздействия.
Он помолчал. Убежденно добавил:
– И все-таки мы с вами сильнее. Колеблющиеся – разъединены. Нас меньше, но мы – объединены. Колеблющиеся не знают, чего хотят. Мы знаем, чего хотим. Вот почему в конечном итоге мы можем не сомневаться.
Он опять помолчал, улыбнулся про себя.
Веритееву показалось, что так Владимир Ильич снисходительно посмеялся в душе над горячностью, с какой были произнесены последние фразы. Но улыбка тут же пропала, и Ленин почти буднично добавил:
– Ну-с, а теперь приглашайте своих делегатов…
15
Невольно робея в непривычной для них обстановке, но и не в силах сдержать любопытства, они украдкой поглядывали то на Владимира Ильича, сидевшего перед ними на рабочем стуле – полукресле с плетеной камышовой спинкой, то на письменный стол с двумя стеклянными чернильницами, с двумя телефонными аппаратами справа, с пухлой стопкой бумаг посредине стола. Там же стоял пузырек с клеем, лежало несколько свежих газет, видно только недавно прочитанных и положенных слева, на край стола.
Все здесь как бы хранило на себе отпечаток каждодневного упорного труда – истыканная булавками карта российского Запада на простенке между окнами, на которой Ленин три года подряд отмечал флажками положение на фронтах, другая карта на белом кафеле печки за спиной рабочего стула, книги в шкафу, некоторые из них, видно, только что побывали в работе, лежали теперь одна на другой, белея закладками, или косо стояли рядком, как бы вот-вот готовые вновь очутиться в нетерпеливых руках хозяина.
Делегаты оглядывали его, а Ленин оглядывал их, привычно прищуриваясь, отчего казалось, что он хитровато улыбается про себя в ожидании разговора.
По кое-как выбритым лицам, по скромной старой одежке, по всему неброскому виду вдоволь натрудившихся за жизнь и теперь уже стареющих людей, Владимир Ильич почти безошибочно определял, кто и чем из них «дышит», что сказать им, о чем спросить.
Впрочем, пусть оглядятся, пусть успокоятся: разумней пойдет беседа…
– Ну-с, – подавшись всем корпусом в сторону Игната Сухорукого, угадав по какому-то взъерошенному, напряженному виду, что это и есть тот самый «крикун и бузотер», о котором только что сердито говорил Веритеев, и что именно с этого крикуна надо начинать разговор. – Ну-с, – наконец негромко произнес Владимир Ильич. – Что же вас привело ко мне?
Делегаты переглянулись. Потом все вместе повернулись к Веритееву. Тот промолчал.
– Товарищ Веритеев сообщил мне о главных претензиях ваших рабочих, – помогая им собраться с мыслями, доверительно заметил Ленин. – В частности, о недовольстве отменой усиленного пайка и вообще снабжением завода.
– А как же! – Это сказал Игнат Сухорукий. Знакомая по митингам и цеховым разговорам тема вернула ему утраченную было уверенность в себе. – Об этом теперь, чай, главная речь…
– Гм… так. Значит, вы хотите, чтобы усиленный паек выдавался всегда, а не только в период усиленного труда? Работа идет, как говорится, ни шатко ни валко… вот как теперь на заводе Мак-Кормиков, а паек чтобы шел усиленный… как в бою?
Немного помолчав, но так и не дождавшись ответа, он отодвинул бумаги, лежавшие перед ним, вернее – не отодвинул, а только легонько тронул их, как бы проверив, удобно ли, так ли они лежат, чтобы потом, когда он вернется к ним, к записанным на них мыслям, можно сразу же, без разгона, продолжить прерванную работу.
– К сожалению, в силу просто невыносимых, катастрофически скверных условий все предприятия нашей промышленности, даже и в Москве, мы полностью снабжать не можем. Удается как-то обеспечивать только те, которые крайне необходимы в данный момент. Я понимаю: вам голодно. Всем голодно. Архитрудное время. Но у многих из вас, насколько я знаю, есть все же свои огороды, даже наделы. А каково рабочим с их семьями в Москве? Они могут буквально погибнуть от голода, А в силу известных причин именно в Москве сейчас сосредоточено около сорока процентов всех продолжающих трудиться рабочих России. Значит, спасти рабочих Москвы – это спасти от гибели революцию, уцелеть и всей Советской России. Для этого мы вынуждены вводить жесточайшую экономию. Перестал завод производить необходимую продукцию – приходится просить рабочих потерпеть, ничего не попишешь. Вы как на этот счет полагаете, товарищ? – обратился он к Сухорукому.
Тот растерянно промолчал.
– Да, приходится потерпеть! – повторил Владимир Ильич, потом мельком взглянул на лежавшую перед ним бумажку с пометками, сделанными во время беседы с Веритеевым, положил на нее сжатую в кулак ладонь. – Некоторые у вас поднимают вопрос и о том, будто партия и правительство своей новой экономической политикой, дающей известные льготы крестьянству и частному капиталу, тем самым как бы обделяют… даже предают интересы рабочего класса.
– Болтают об этом, верно! – не выдержал нетерпеливый Иван Амелин, красноречиво покосившись на сидевшего в стороне Драченова.
– Но это чистейший вздор! Все, что мы делали и будем делать, направлено именно на то, чтобы спасти, сохранить, укрепить диктатуру пролетариата, благодаря которой только и можно двигаться вперед, к социализму. Двигаться, как выяснилось, не прямиком, а обходными путями. Даже иногда возвращаться назад. Помните, каким было лето прошлого года? Небывалая засуха буквально сожгла урожай. Не позволила она запасти и корм скоту. Несмотря на все усилия заготовительных органов, мы едва смогли, да и то благодаря жесточайшей разверстке, получить двести восемьдесят пять миллионов пудов зерна при минимальной потребности в четыреста миллионов. Чуть больше половины общих потребностей. А что такое разверстка, вы знаете? Это закон военного времени, по которому у крестьян безвозмездно изымались излишки хлеба. Иного выхода у нас не было. Отсюда их недовольство, их колебания в сторону наших врагов, поддержка многими из них контрреволюционных восстаний и мятежей. Разгул… иного слова я не подберу: именно разгул анархической, контрреволюционной, по сути, стихии, которая, кстати сказать, затронула и известную часть рабочего класса. Деклассированную часть, – уточнил он жестче. – Ту, которая корнями еще связана с мелкой буржуазией, и ту, которую смогли своими псевдореволюционными лозунгами сбить с толку эсеры и меньшевики.
Сухорукому показалось, что Ленин при этом особенно пристально взглянул на него. Сразу стало жарко и неудобно сидеть в широком кожаном кресле, в которое он до этого уселся довольно крепко. «А все черт Драченов! Теперь хоть встань да беги…»
Ленин между тем сам легко поднялся со стула и, по давнишней привычке устающего от многочасовых сидений за рабочим столом человека, прошелся возле стола. И вдруг опять обратился к Игнату:
– Как бы вы поступили в таких условиях по отношению к крестьянам, товарищ?
Тот вздрогнул от неожиданности, заерзал на мягком сиденье кресла и, чувствуя, как все больше томит и сковывает его смущение, не очень внятно буркнул:
– Крестьянство мне ни к чему…
– Так… Крестьянство вам ни к чему? Возможно, что лично вам оно действительно ни к чему, – в голосе Ленина прозвучала досада. – Однако для пролетариата, как класса, вовсе не безразлично, с кем и куда пойдет основная крестьянская масса: с нами или с буржуями? Более того: это в наших условиях – коренной вопрос. Без его решения нечего и думать о построении социализма в России. Братский союз рабочего класса с деревенской беднотой и деловая дружба со средним крестьянством – это альфа и омега Советской власти. Что же касается лично вас, – добавил он с иронией, – то, по– видимому, вы вполне городской, законченный пролетарий?
Игнату показалось, что Ленин своим вопросом одобряет и поддерживает его, поэтому он с облегчением подтвердил:
– Угу, пролетарий…
– Сознательный? То есть активно работающий на революцию?
– Он, может, и пролетарий, – неожиданно для себя вступил в разговор все еще сердитый на Сухорукого за его развязные выходки в приемной Иван Амелин. – А только на днях не кого другого, а его поймали в проходной с ворованным колуном…
Сказал и сразу же ужаснулся: к чему с этим влез в серьезный, большой разговор? «Вот чертова натура! – зло укорил он себя. – Ляпнул ни с того ни с сего!»
Но поправить уже было нельзя, да и Ленин вдруг не то серьезно, не то юмористически переспросил:
– Что, что? С каким колуном?
Сухорукий побагровел, глухо выдавил из себя:
– Ну, директор наш, Круминг… сделал и нес я, значит, после работы колун домой…
– А он заметил и пристыдил? Отобрал колун?
– Угу. А что? – обиделся Сухорукий. – Что будешь делать дома без колуна? И дров не наколешь…
– Сколько же весит такой колун?
– Не меньше чем фунта три, а то и четыре! – посмелее сказал Игнат. – Пока его откуешь да пока вынесешь… морока!
– Гм, да. А сколько у вас рабочих? Тысяча с лишним?
– Около полутора тысяч, – уточнил Веритеев.
– Теперь представьте, если даже не все, а, скажем, триста человек, подобно вам, унесут домой… Ну, раз в неделю… кто колун, кто еще что-нибудь? Это, если помножить четыре фунта на триста, будет тридцать пудов необходимого заводу металла…
– Чай, завод не наш, американский!
– Работает он на нас. Не хватит металла – не хватит машин для крестьян. Останутся незасеянными многие поля. Не будет необходимого стране урожая…
– У нас на заводе не все такие, – опять вмешался в разговор Амелин, кляня в душе Сухорукого, который испортил всю обедню. – Много сознательных…
– Сознательных! – обиделся Сухорукий. – Ты вон спроси у своего партейного Сереги Малкина, откуда у него чуть не фунтовая медная зажигалка?
Сидевший до этого молча Малкин пунцово вспыхнул, тоже, как и Игнат, заерзал на своем стуле, впился испуганным взглядом в лицо Ивана Амелина, как бы моля его промолчать, не спрашивать, но вместе с тем понимая, что теперь нельзя промолчать, что и ему все равно отвечать придется. А Сухорукий, как назло, добавил:
– Чисто снаряд от пушки! Выточил ее да и носит теперь в кармане, форсит своей зажигалкой…
Некоторое время все напряженно молчали.
Потом Владимир Ильич негромко и, как показалось делегатам, почти стеснительно, как бы печалясь и стыдясь, раздумчиво произнес:
– Гм, да… много каждому человеку нужно. Но важнее всего пролетарская гордость. Честность. Уважение к себе. Не говоря уже об интересах своего государства…
Он нахмурился, помолчал. Потом, как бы с трудом стряхнув внезапно наплывшее огорчение, мимоходом заглянул на полку одной из квадратных, вертящихся этажерок, стоявших с книгами и бумагами возле стола, устало и неохотно присел на стул.
«Пожалел! – с благодарностью и стыдом подумал Сергей Малкин, невольно вцепившись пальцами в карман пиджака, в котором лежала проклятая зажигалка. – И чего мы, верно, с этими зажигалками? А то вон и с колуном? Тьфу ты, бес меня раздери!»
Зажигалку он сделал и в самом деле фасонистую, в форме снаряда, с остроконечной крышечкой, надраил ее до блеска, честь по чести. Теперь, ее солидная тяжесть, величина и конусок завинчивающейся крышки показались вдруг постыдными для него, рабочего человека, партийца, одного из тех, о ком товарищ Ленин говорит здесь с такой надеждой, с таким уважением.
«Чего-ничего, а спереть… У-у, хапало чертово! – со злостью подумал он о себе. – Да пропади она пропадом, злая сила! Еще хорошо, что так обошлось, а то хоть башкой об стену…»
16
Ленин между тем, откинувшись к плетеной спинке стула и как бы отстраняя постыдное и случайное, что прервало их серьезный разговор, с поразившей делегатов проникновенностью произнес:
– Быть настоящим рабочим, тем более коммунистом, совсем не легко. Особенно если не принудишь себя день за днем становиться им. Груз старых понятий сам с плеч не свалится, мертвый будет хватать живого. Куда как легче просто существовать. Но это, по-моему, небольшая радость. Мелкая радость. Украсть с завода колун, выточить зажигалку… гм… Впрочем, давайте вернемся к главному разговору! – и быстрым брезгливым движением плеч как бы отбросил прочь постыдные и случайные мелочи. – Сейчас, в наших трудных условиях, каждому рабочему, если он рабочий не только по профессии, но и по убеждениям, надо помнить одну важнейшую заповедь: что бы мы ни делали, какие бы текущие задачи ни решали, к каким бы приемам в их решении ни прибегали – для нас неизменным принципом, священной заповедью должно быть сохранение власти пролетариата, его революционной диктатуры. А высший принцип диктатуры – это братский союз рабочих и крестьян. Благодаря ему рабочий класс только и сможет удержать сейчас руководящую роль и государственную власть в России. Рабочий – это промышленность, основа нашего развития. Крестьянство – его верный соратник. Таким образом в стране с преобладающим крестьянским населением исторической задачей пролетариата является разумное, терпеливое обеспечение перехода этих крестьян к коллективному общественному труду на базе машинной техники. Это дело нелегкое, затяжное. Оно потребует работы нескольких поколений. Наша задача – начать исторический поворот. А ведь вы – не только партийцы, но, полагаю, и беспартийные – всерьез хотите победы социализма в нашей стране? Не так ли? – спросил он и по очереди оглядел сидящих перед ним рабочих.
– А как же? – за всех ответил Иван Амелин. – Иначе зачем было и драться в семнадцатом?
– Правильно! Иначе незачем было и начинать. Жить бы при помещиках и буржуях, гнуть на них спину. Однако победы социализма нельзя достичь наскоком, путем одного лишь увлечения, даже самопожертвования. Эти качества сами по себе драгоценны. Они помогли нам победить врагов революции на фронтах. Там это, возможно, играло даже главную роль. Крестьянин-солдат был воодушевлен борьбой за землю против помещиков и кулаков, рабочие – против заводчиков и капиталистов. Но теперь положение изменилось. Теперь, чтобы восстановить и двинуть дальше социалистический фронт, необходимы терпение, деловитость, – быть может, даже скучная, будничная работа. И так вести дело куда труднее: здесь особенно необходима предельная отработанность мысли, трезвого взгляда на вещи. Именно это должно быть главным в поведении не только партийцев, но и сознательных беспартийных, ибо их интересы в конечном счете решительно совпадают…
Его прекрасное, мужественное лицо с резко выраженными чертами, в изменении которых легко читался каждый оттенок мысли, вдруг мягко дрогнуло, в прищуренных глазах мелькнула, как свет, улыбка.
– Признайтесь, что не эта разумная трезвость, а увлечение чувством, нередко мелким, владеет вами еще и теперь? Митинговые настроения захлестнули сейчас многих на заводах… не удивительно, что и у вас. Не вдумываясь в сложнейшие, неотложнейшие проблемы нового этапа в развитии страны во всей их необходимости, некоторые, – Ленин мельком, но очень красноречиво остановил проницательный взгляд на Драченове, отчужденно сидевшем за дальним концом стола, – готовы в каждой такой сложности винить ЦК нашей партии, заниматься интригами, мелкой и крупной драчкой вместо того, чтобы терпеливо, уверенными и ловкими руками развязывать каждый гордиев, узел противоречий и трудностей, стоящих на пути. А трудностей этих будет немало. Для их преодоления мы намечаем решительный переход от чисто революционных методов военного коммунизма к более гибким методам новой экономической политики. Суть этой новой политики, если говорить коротко; заключается во временном допущении частного капитала в промышленность и торговлю при полном обеспечении государственной диктатуры пролетариата. После Октябрьского переворота нам не удалось прямой штурмовой атакой осилить эту задачу. Последствия гражданской войны окончательно похоронили надежды на такую возможность. Значит, мы должны эту задачу осилить рядом медленных, постепенных, осторожных «осадных» действий, ибо нет ничего более опасного для нас, как тащиться по колдобинам послевоенной разрухи за счет предельного истощения сил в крестьянстве и рабочем классе при постоянной угрозе нападения извне со стороны более сильного противника. Сейчас у нас наиболее остро обнаружилась отсрочка восстановлении крупной промышленности, ее оборота с земледелием, невозможность удовлетворить острейшую нужду деревни в машинах, текстильных и других изделиях. Значит, надо пока налечь на более доступное: на восстановление крестьянского хозяйства и мелкой промышленности. Помочь делу с этой стороны, подпереть этот бок полуразваленного войной и блокадой строения. Такова, в частности, основная мысль замены разверстки продналогом, его экономическое значение и всего, что с этим связано. В тех невероятно трудных условиях, в каких мы оказались, только такая политика позволит нам выстоять, сделать вначале едва ли не самый главный шаг вперед в деле преодоления разрухи, а затем, окрепнув, совершить наконец решительный прыжок в сторону социализма…
Он опять внимательно оглядел делегатов.
– Главная наша задача в том, чтобы заложить экономический фундамент коммунизма, суть которого заключается в создании крупной машинной индустрии, способной по технической мощи и по своим организационным «настройкам» превратить нынешнюю мелкокрестьянскую Россию в высокоразвитое индустриальное государство с крупным, механизированным сельским хозяйством. И мы такой фундамент заложим! – с силой добавил Ленин. – Несмотря на множество трудностей в стране и на бешеное противодействие со стороны мировой буржуазии, мы взялись это сделать и сделаем!
Ленин мельком взглянул на часы, висевшие перед ним на стене, над дверью в приемную. Часы были старые, неисправные, время указывали неверно. Но он уже привык к ним. Ему надо было, чтобы они, эти старенькие часы, все время находились перед глазами, напоминали о быстротекущем времени. Поэтому и теперь, как всякий раз в таких случаях, он лишь привычно перепроверил настенные часы своими, вынутыми из кармашка жилетки, укоризненно покачал головой, недовольно хмыкнул, явно имея в виду себя: «Гм, да… заговорился, а времени уже нет, ждут другие дела!», положил ладонь правой руки на стол и легонько постучал пальцами по зеленому сукну стола. И неожиданно обратился опять к Сухорукому:








