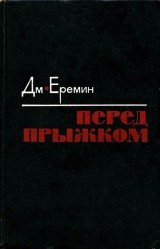
Текст книги "Перед прыжком (Роман)"
Автор книги: Дмитрий Еремин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Казалось, все рухнуло. Но тут неожиданно появился ясный просвет: по роду прежней работы Петру Петровичу приходилось сталкиваться с адвокатом «Международной компании жатвенных машин в России» господином Воскобойниковым, и тот помог педантично честному в финансовых вопросах Клетскому устроиться на завод американской компании под Москвой – на вполне приличную должность. А главное, с хорошей благоустроенной квартирой здесь же, на территории завода.
Девочки выросли. Старшая, Сонечка, успевшая окончить девять классов одной из московских гимназий, стала работать в заводской конторе секретаршей директора Круминга. Младшая, Катенька, бойкая деловитая девочка, училась в последнем классе советской школы второй ступени. Не посоветовавшись с отцом, она вступила в комсомол и целыми вечерами хороводилась, как не без упрека говорил Петр Петрович, со своими одноклассниками.
Именно Катенька чаще всего и снабжала костры отца нехитрым горючим. Правда, не без помощи ее товарища по комсомолу Антошки Головина.
Наблюдая за ними, Петр Петрович пока помалкивал. Да и что он мог сказать своей Катеньке? Отваживай, дескать, этого беловолосого молодца, метко прозванного Подсолнухом? Своевольная девчонка спросит: «А почему?» Действительно, почему? К тому же парень вовсе и не плохой. У них… как это там говорится? Да, комсомольская дружба. Ну, может быть, увлечение: юное сердце влюбчиво. Ну и что? Все это – полудетское, неизбежное. Невинные взлеты чувств. А жизнь – велика. Сто раз пройдешь через ее порожки, пока найдешь свой истинный дом…
Поездку в Сибирь Клетский воспринял как исполненную надежд перемену в бедном однообразии еле-еле тлеющей заводской жизни, а волхование у костра – как милое, почти счастливое развлечение. Сидя на складном деревянном стульчике, предусмотрительно взятом из дома, он аккуратно и вовремя подкладывал в костерок палочку или сучок, помешивал в закопченном ведре ароматное варево и от удовольствия мурлыкал что-нибудь под нос. В особо благодушные минуты позволял себе даже некоторую игривость. Чаще всего, хитровато поглядывая на нетерпеливо дожидающихся обеда дочерей и соседей, напевал на бойкий шантанный мотивчик патриотическую сатиру – «Мальбрук в поход собрался», и в тех местах, где должны были звучать не совсем пристойные слова о провале завоевательского похода Мальбрука, он с хитроватым и поэтому с не менее непристойным видом подчеркнуто бубнил:
Трим-трам он целый день…
В походе обтрум-трался…
Трам-тром из них трясли…
Трум-трусланный мундир…
– Ну, папа! Как тебе не стыдно! – пунцово краснея, укоряла его пышненькая, синеглазая Сонечка. А бойкая, смешливая Катенька просила:
– Ох, папка… давай еще! И я тебе подпою!
Катенька и в самом деле давно уже нравилась Антошке. Нравилась ее стройная небольшая фигурка, обрамленное темными волосами умненькое лицо с карими, бойко поблескивающими глазами. А главное – никакого форса образованной барышни в отношениях с такими рабочими парнями, как он. Девушка не пропускала ни одного танцевального вечера, не отказывалась от предложений любого парня, если он был вежлив и трезв. А особенно охотно соглашалась, как ему казалось, когда стал ее приглашать на танцы он, Антошка Головин.
В танцах ему нравилось не столько то, что танцуешь с девчонкой, сколько ритм самого слаженного движения, гибкая легкость тела, мгновение за мгновением как бы плавно взлетающего и плывущего над исшарканным ногами полом вместе с другими девчатами и парнями. А рядом с тобою – Катенька. И ты тайно любуешься тем, как легко и воздушно, лучше всех, это делает она, порозовевшая от удовольствия.
Он даже думал иногда, что не только он ею, но и она тоже тайно любуется им, легким и ловким парнем. Это возбуждало в душе странную сладкую радость. Домой с таких вечеров он уходил всякий раз взбудораженный и счастливый. А потом с нетерпением ждал новой субботы, с удивительной ясностью представляя, как вновь пригласит Катеньку на какой-нибудь падекатр, чтобы затем целый вечер двигаться с нею по кругу среди других ребят и девчат…
О том, что он «втюрился в Клетскую девку», Антошка неожиданно для себя узнал от Фильки еще в поселке. Как-то поздно вечером, когда они вместе возвращались из клуба домой, тот с ухмылкой сказал:
– А ты ничего… мастак!
– В чем? – не понял Антошка.
– Да в этом, с Катькой. Втюрился, вижу, в Клетскую девку? Как два голубка: гули-гули-гули…
– Ты что, обалдел? Это я-то? В Катюшу? – удивился и даже попробовал возмутиться Антошка, до этого искренно считавший любовь выдумкой, вроде религии.
И вдруг его будто ударило: а ведь, похоже, и верно! Он даже остановился: Катенька? С Катенькой – хорошо. Она лучше всех заводских девчат. О ней он думает всякий раз накануне субботы.
Так, значит, верно? Любовь?
В тот вечер, ворочаясь до полночи на своем сенном тюфячке, он окончательно решил, что влюбился, раз Катенька – лучшая из девчат. Вспоминал, как впервые пригласил ее на танец, и она в ответ улыбнулась: «Пожалуйста!» И как затем, когда они вышли в круг, он начисто забыл все, что нужно было делать, чтобы не сбиться, хотя до этого заучил про себя главные танцы назубок. Оказывается, под падеспань надо мысленно напевать: «Жена мужа в Рязань провожала, говорила ему – „не скучай“, а сама с казачком танцевала падеспань, падеспань, падеспань»; под падепатинер: «Поедемте кататься, я вас люблю, вам нечего бояться: за все я заплачу»; а под падекатр – другую тайную песенку.
После этих танцев он чувствовал себя легко, как бы парящим на крыльях. Что же это, как не любовь?
С этим чувством он целый месяц ехал и в эшелоне. И вот зашел в разнесчастный день в вагон к Константину, увидел впервые так близко девицу из «бывших», дочь всем известной в поселке старой барыни на вате Пламенецкой… Увидел… поразился ее сияющей красоте… и – что же за наваждение? Не может быть! Но есть же…
Страдая от стыда и почти ненавидя себя за это, вообще за все, что так неожиданно и ужасно стало терзать его с того дня и что казалось ему недостойной слабостью, даже изменой всему, к чему он привык в своей комсомольской жизни и что считал самым главным в ней, Антошка как-то смущенно спросил Фильку, когда на одной из остановок они вместе шли к торговому ряду – промышлять еду:
– А стихи про любовь ты знаешь?
– А как же! – легко отозвался Филька. – Чего-чего, а уж это…
– Ну да?
– А чего тут особого? – в свою очередь удивился парень. – Взял «Чтец-декламатор», выбрал… Главное тут – влюбиться.
– Значит, влюблялся?
– Я влюбчивый, страсть. Влюбляюсь бесперечь. Чуть не каждый день. Как увижу девчонку, какая красивше, так и готов. Один раз даже сам стихи сочинил.
– Не может быть!
Филька остановился и, сморщив кожу на лбу, некоторое время напряженно думал. Потом громко продекламировал:
В Анюту я влюбился,
Какую ночь не сплю;
Все снится мне Анюта,
Которую люблю…
– Это кто же такая? Не Панюшкина? – с живым интересом спросил Антон.
– Не. Не она, а эта…
Некоторое время, сосредоточенно уставившись взглядом в землю, Филька молчал. Было видно, что он силится и не может вспомнить, кто же такая Анюта? Это сердит его, ввергает в недоумение: как же так – влюбленным был и забыл? Но ничего определенного на ум не приходит, и парень решительно отметает все в сторону: забыто – и ладно.
– Была одна такая, – ответил он наконец, зацепившись за то, что сохранила память яснее всего. – Артистка. Ух и красива, стерва! Приезжала в заводской клуб из Москвы с концертом. Да ты ее, может, видел? Был в клубе в то воскресенье?
– Не был, наверно.
– И зря. Пела как бог!
– А стишки? – нетерпеливо ввернул Антон.
– Мои-то? Ну, как нагляделся я на нее, как прослушал эти… – Филька попробовал напеть: – «А-а-а – шаль с каймою…. ми-и-илый мо-ой!», – но из этого ничего не вышло, и он досказал со вздохом: – Так и влюбился. А уж потом и стишки…
– А теперь ты в кого? – нетерпеливо спросил Антошка.
– Теперь-то?
Филька вздохнул. Это было для него необычным.
– Теперь, брат, в кого же еще? В нее…
– В Пламенецкую? – догадался Антошка, и кровь так сильно ударила в голову, что он едва не качнулся.
– Ага. Хотел опять сочинить стишки, да на этот раз ничего не вышло. То есть опять получилось вроде: «К тебе душой стремлюся, но встретиться боюся». Да разве это стихи? Пришлось в нынешний раз купить стишок за горбушку ситного у этого… как его… ну, который в том же вагоне едет, не заводской, а родственник этого… вспомнил: Эрик Воскобойников. У него… в самом-то деле он Пашка, а придумал для своих стишков фамилию покрасивше: «Эрик Сияльный». Так, мол, делают все…
– Он разве поэт?
– Ага. Говорит, что где-то даже его стишки помещали. Но мне не понравились: мои про Анюту лучше…
– Прочти.
– Пашкины? Покупные?
– Ага…
– А я их забыл. Бред сивой кобылы, а не стишки!
– Ну все-таки, – не отставал Антошка.
Филька хотел было решительно отказаться, но взглянул на пунцовое от волнения лицо приятеля, усмехнулся, вздохнул:
– Уж больно они, понимаешь ли, заковыристы. Сгоряча я их тогда заучил, а потом, когда хотел записать для этой… для Вероники, чтобы потом отдать… Ну, в общем, как стал писать, так и плюнул. Хотя – стой! Вроде… чего-то зашевелилось!
С минуту Филька натужливо выдавливал из глубин памяти не понравившийся ему «бред сивой кобылы» «Эрика Сияльного». Потом с трудом, чуть не после каждого слова плюясь и запинаясь, прочитал:
Любовь? Чего здесь ахать и охать?
Вздыхать под луной под визг соловья?
Любовь – это тел взаимная похоть,
Когда мы вместе, она и я.
Любовь – губастое сладострастье,
Любовь…
Да ну ее знаешь куда? – вдруг рассердился Филька. – Говорю тебе – бред! И вспоминать не хочу! Отдал ему за них, понимаешь ли, кроме хлеба еще и ножик… до сих пор себя кляну! А он мне насчет любви как о «зуде чесоточной сыпи…». Об этом дальше написано в его стишках. Вот пусть сам и чешется, черт паршивый…
Антошке такая любовь тоже была противна. Но от одного обостренного сознания, что любовь может даже такого нахального парня, как Воскобойников, довести до того, что начнешь сочинять стихи, от одного этого он все равно после разговора с Филькой несколько дней продолжал ходить как в тумане: внезапный напор чувства влюбленности в Веронику сделался лишь сильнее. Кончилось тем, что Антошка начал было и сам сочинять стихи о любви. Незадолго до отъезда эшелона из поселка он прочитал «Три мушкетера» Дюма, и теперь в голове все вертелось вокруг королевы и бравых вояк, одинаково готовых в любую минуту для поединка и для любви. В конце концов, с превеликим трудом, он осилил несколько строк:
Королева, я твой!
От любви я больной
И не знаю, что делать теперь?
Как увижу тебя…
Но дальше дело не пошло. Пришлось довольствоваться невнятным бормотанием: «Как увижу тебя, тра-та-та– та». И опять: «тра-та-та-тра-та-та!»
В этот последний перед распределением день, уже в Славгороде, желание как-то обратиться к новой возлюбленной (и лучше всего, конечно, стихами) сделалось просто неотвратимым: завтра, когда произойдет жеребьевка и все разъедутся по своим местам, будет поздно. Те, кто останется в городе, известны без жеребьевки: Петр Петрович с Катенькой и Соней, а также некоторые мастера и инженеры, в том числе иностранцы, – эти будут налаживать производство на местном заводе и на двух-трех фабричках. Остаются в городе музыканты Свибульского и драмкружковцы Оржанова: они будут колесить из села в село с «Судом над Советской властью», с постановкой «Кровные враги» и с музыкой.
А куда определят его? Куда попадет Вероника? Если в разные волости, до самой осени? Разлука на несколько месяцев… этого выдержать невозможно! Сегодня же, вот сейчас необходимо передать ей, скажем, с Зинкой, стихи про свою любовь…
И Антошка решился.
Вначале он попросил сочинить ему стихи о любви Ро– дика Цветкова, прозванного в поселке «рифмоплетом». Но тот, оказалось, был занят по поручению Оржанова переделкой какой-то пьесы для драмкружка, поэтому начисто отказался:
– Сейчас у меня не стиховой период. Как-нибудь потом…
Волей-неволей пришлось обратиться к «Эрику Сияльному». Страдая от стыда, Антошка разыскал в толпе высокомерного Пашку Воскобойникова, отвел его за угол сарайчика недалеко от вокзала и, запинаясь, попросил по– товарищески выручить насчет стихов.
Выслушав его робкую, еле произнесенную вслух просьбу, «Эрик» презрительно фыркнул:
– Тебе… и о любви?! Тоже влюбился, что ли?
– Ага…
– Ну и ну! – поразился пижон Воскобойников. – Комсомолец, да еще железный, и вдруг – о любви! Докатился! – протянул он с видом умудренного высокими материями человека, заставшего железного Антона за пустяковым, просто неприличным делом. – Не ожидал от тебя.
И назидательно добавил:
– Любовь – это для чувствительных барышень вроде Сонечки.
– А для Фильки написал?
– Ну, те были сделаны давно. С тех пор я вырос. Советую и тебе: плюнь. Все эти ахи да вздохи, мармелады и прочее – не для нас. Особенно таких, как ты; докатился!..
Антошке стало совсем уж не по себе: верно, что докатился! Кто же, выходит, оказался на поверку пижоном и недорезанным буржуйчиком? Вовсе не Пашка, над которым они с Филькой всегда открыто посмеивались, поглядывали на него свысока, как на зазнавшегося, гнилого барчука. Теперь получилось, что сам ты не только не лучше, но хуже этого «Эрика Сияльного»!
Чтобы хоть как-то выбраться из постыдного положения, он с фальшивой и глупой в таких обстоятельствах ухмылкой на круглом, обожженном огнем стыда лице торопливо спросил:
– А теперь чего сочиняешь? О чем?
– Во всяком случае, не об этих пустяках. Любовь… хм!
Воскобойников усмехнулся:
– Ты-то в кого влюбился? Может, в эту вон Веронику? Девка она что надо. Я сам бы с удовольствием, – и произнес похабное слово.
Вначале Антошка похолодел от страха:
«Угадал, черт Сияльный! Главное теперь, не показать вида, а то засмеет». А когда услышал грязное слово, его охватила неудержимая злость:
«Вот поганый, что говорит! Да я тебе, стихоплет…» И неожиданно для себя изо всех сил ударил Воскобойникова в левую скулу.
Ударил – и испугался: вот тебе раз! А когда тот, не удержавшись и взвизгнув от боли, закачался и стал валиться набок, Антошка с чувством отчаяния и вины успел подхватить его на руки.
Так вместе они и свалились на тропку возле сарая.
5
К удивлению и радости Антошки, ему помог подняться с земли, а потом и. загородил спиной от лезущего с кулаками Воскобойникова не кто иной, как Филька Тимохин. При этом весело, не без насмешливости, пошучивал:
– Спрячь, стихоплет, кувалды свои в карман, скоро пригодятся косить-молотить у крестьян в деревне. Отзынь, говорю! Давай отсель в свой вагончик…
И когда тот, ругаясь, ушел, на вопрос Антошки: «Откуда ты? Жив?!» – беспечно ответил:
– Не одолела холера! Говорил, что ничто меня не берет? Я от болезней заговоренный!
…В тот день, когда санитары свалили его в бараке на землю, он дотемна пролежал среди мертвых – от слабости в полусне, в забытьи. А ночью не то проснулся, не то очнулся: холодно стало. Глянул в раскрытую дверь – на небе сверкают звезды, краешком посветила луна…
– И так помирать мне, Подсолнух, не захотелось, – рассказывал Филька, по обыкновению то размахивая перед собой длинными, нескладными руками, то прихватывая Антошку цепкими пальцами за рукав, за пуговицу или склоняясь к самому уху. – Так я перепугался могилы, что взял да выполз оттуда на волю. Выполз – гляжу и слушаю: ночь. На железке – стуки да бряки. В жилухе – собаки лают. В пузе – урчит, тянет ослободиться. Сделал что надо – и пополз на карачках дальше. И только выполз с этого двора наружу, привалился к чьему-то забору, как сразу наткнулся прямо на бабу. На Ефросинью Антипьевну. Как после узнал, старушка. Спасительница моя. Сердце у ней оказалось – чистое золото. «Ползешь? – говорит. – Живой? Значит, не время…» Ну я и пробыл у ней цельных семь ден. Травой какой-то поила, пузо мне укрепляла. За это ей десять крестиков дал… уж так-то рада была! А я, как пришел в себя, взял ноги в руки и – догонять. В Омске спросил, где наши? «Дальше, велят, езжай». Я и догнал. Вон с тем поездом, который дует в Семипалатинск. Первым делом глянул на свои нары. И что же?
Филька ожесточенно сплюнул:
– Раздел меня кладовщик Теплов! Взял я, понимаешь, один богатый материал, называется плюш…
Он запнулся и прилгнул:
– У бабки в сундуке нашел. Думал, срублю за него мешков пять муки. А что вышло? Теплов этот, черт, молчал всю дорогу, чего-то прятался ото всех, слова не скажет зря. Я думал – какое горе. А вот чего оказалось!
Крестики, слава те господи, не нашел, а плюш этот… ух, Подсолнух, какой был плюшик! В узорах весь и блестит! – не сдержался Филька от запоздалого восхищения. – А тот кладовщик… ну, не гад ли, скажи? «Рыжики» говорили, что в Омском сбежал. Боялся, видно, что я его там настигну. И я бы настиг! Я бы ему, бандюге…
Парень огорченно почмокал толстыми губами, вздохнул:
– Вот ведь как вышло. Да-а-а… что ни возьми, а не везет мне во всем. Правильно дразнят, что Епиходыч…
Вокруг ходили и гомонили разные люди. Топтались лошади, томясь у возов без дела. За вокзалом не столько ботал, сколько уже просто устало вздыхал истерзанный барабан и без отдыха подвывали медные трубы оркестрантов инженера Свибульского.
Ярмарка продолжалась, хотя уже явно все шло к концу – и азарт обмена, и взаимные расспросы да споры рабочих и мужиков, а в упродкоме переговоры Веритеева с уездным начальством о том, кто и куда направляется на работу. Вот-вот и машинист даст гудок, призывающий всех к вагонам – на последний перед работами митинг…
– Дядьку Сухорукого не видал? – вдруг опасливо спросил Филька.
– А что? – удивился его беспокойству Антошка.
– Да я, понимаешь ли, ус у него остриг…
– Слыхали! – Антошка хлопнул приятеля по плечу. – Но ты не горюй! Во-первых, так им и надо. А во– вторых, усы у них опять почти отросли.
– Мало ли! Сухорукий – все помнит. Половинщиков – ладно, сильно драться не будет. Сейчас вон хотел было мне наддать… да куда ему! А дядька Игнат – тот мужик в силе. С ним дело другое. Ладно бы только дал мне разок по роже. А то возьмет и попрет из ихней теплушки. А мне терять ее неохота, поскольку она с секретом: муки в ней больше домой привезу…
С минуту он раздумывал, внимательно оглядывая толпу. Потом решительно предложил:
– Пойдем вместе поищем Игната. При народе он зря драться не станет. А там, глядишь, и простит: в тот день, когда я остриг, больной все же был. Значит, был не в себе. Оттого и усы отрезал. Верно, Подсолнух? Так что давай поищем дядьку Игната…
Сухорукого они нашли на выходе с площади в город. Взъерошенный и сердитый, тот упрямо твердил Веритееву и Большакову, только что закончившим последнее совещание и направлявшимся теперь со списками в руках к вагонам:
– И не уговаривай, не поеду! Плевал я на вашу жеребьевку! Раз твой партейный Сережка Малкин обозвал меня врагом, то пусть так и будет: к мужикам в работники не пойду. Мне ихней муки не надо. Нам с бабой хватит и того, что сам наменяю. Так что, брат, отправляй и меня, и моих мужиков, которых вы обозвали «рыжиками», на прессовку сена. Есть тут, по жеребьевке кто едет на сено? Ну вот. На сено и отправляй. Туда мы поедем всем скопом в своей теплушке. А Малкин Серега пускай комиссарит в Мануйлове. Пускай возглавляет и хоть обсыплется той сибирской мукой! Я ему «врага» не прощу. Нипочем. Отправляй, говорю, на сено!
– Черт с тобой, – не выдержал наконец Веритеев. – Поедешь на сено, только отстань. Видишь, куда иду! – и взмахнул перед красным от злости лицом Сухорукого пачкой бумаг со списками отправляемых на места рабочих. – Митинг будет. Нынче же после него и уедешь…
Час спустя отряд Фомы Копылова из двенадцати вагонов, включая вагон «рыжиков», и в самом деле первый двинулся к разъезду Скупино. В трех-четырех теплушках ехали квалифицированные рабочие для ремонта и налаживания машин к предстоящей уборке в ближних к разъезду селах. В остальных были те, кто направлялся для разных подсобных работ, в том числе Зина с Клавой, Вероника, Филька и Костя Шустин.
В тот же день отряд Ивана Амелина спустился на юг, ближе к Семипалатинску.
Третья группа во главе с председателем завкома Игнатьевым растеклась живыми ручейками «шестерок» по селам и деревням иртышского побережья. С четвертой поехал в урочище Коянсу, включая Мануйлово, Сергей Малкин, назначенный также и временным уполномоченным ревкома по уезду. А большая часть эшелона осталась в Славгороде во главе с Веритеевым: здесь специально подобранные бригады рабочих разных специальностей, инженеры, плановики, счетоводы и организаторы производства должны были «поставить на ноги» механический завод и еще два-три небольших предприятия. Кроме того, на особую группу Петра Петровича Клетского, принявшего должность главного финансиста и плановика отряда, была также возложена задача вести и общий учет работы всех дружин эшелона.
В группе Клетского оказался и Константин Головин.
Из всех «адъютантов» Веритеева только Родика Цветкова оставили в Славгороде – в составе драматического кружка.
– Понимаете, Иван Николаевич, паренек оказался очень способным, – убеждал начальство озабоченный предстоящими гастролями своего драмкружка по деревням и селам уезда артист Оржанов. – Что мы везем с собой? «Суд над Советской властью». Вернее – за Советскую власть, против ее противников. Но текст его был рассчитан на подмосковного зрителя! Значит, в прежнем виде уже не годится. Я попробовал переделать его сам – не вышло. Попросил Цветкова, и парень справился! Оказалось, с нами ехал какой-то мужик из Сибири по прозвищу Бегунок. Родик поговорил с ним и вот, представьте себе, сумел переделать «Суд» на местного зрителя. А наши спектакли? Не будем же мы играть московский старый репертуар? Тут тоже произошла любопытнейшая история…
Еще в Москве, задолго до отъезда в Сибирь, в Московский Малый театр однажды пришел одетый в затрепанную шинель молодой («явно, что прямо с фронта», – заметил Оржанов, рассказывая историю Веритееву), немногословный человек с пьесой, написанной от руки на разных листках бумаги. Назвался Тарасовым Николаем, работником какого-то губземотдела. Адреса не оставил. Сказал, что зайдет за ответом сам, да так и не зашел. Видимо, судьба опять забросила куда-нибудь далеко и надолго. Пьесу для постановки не взяли: агитка.
– Но чем-то она меня тронула, – говорил Оржанов, – я захватил ее с собой в эшелон. Называется «Смертельные враги». Действие происходит, правда, на Украине, а не в Сибири, в последний год гражданской войны. У отца-кулака два сына: Кронид – весь в отца, стал белогвардейцем, младший – Василь, полюбивший дочь бедняка Ксану, оказался свидетелем кровавых зверств белых, алчности и волчьей злобы отца и брата. В довершение всего, Кронид надругался над Ксаной. Кулаки во главе с отцом после прихода красных из-за угла убивают активистов, готовят восстание. Но партийцы и рабочие города помогают крестьянам справиться со всем этим, и все кончается открытым судом над смертельными врагами Советской власти…
Для полной убедительности Оржанов показал Beритееву пухлую стопку бумаги:
– Мы и роли в дороге распределили, не одну репетицию провели. Мне, к сожалению, придется играть кулака, а Василь хорошо получается у Цветкова. Так что прошу оставить Родю со мной… Кстати, знаете, чем он занимается все время в пути? – с улыбкой заметил Оржанов. – Сочиняет трактат!
– Что, – что?
– Трактат под названием ПУОМИР. Как-то на остановке зашел я к нему в вагон, сидит на нарах один, пишет. Спрашиваю: «Стихи сочиняешь?» – «Нет», – говорит. А на нарах, вместо бумаги, обрывки старых обоев, школьных тетрадей, неиспользованных бухгалтерских счетов – все, что смог наскрести в поселке. Родик стеснительный, покраснел, однако признался, что вот уже целый год сочиняет свой ПУОМИР – Проект Устройства Общества После Мировой Революции…
– Хм… ну и что? – с интересом спросил Веритеев.
– Прочитать мне не дал. Только сказал, что первая часть – вступление по Марксу, а дальше идет изложение технического и социального расцвета при коммунизме. Сказать по правде, я в этих делах не очень. Однако же любопытно!..
Этот разговор и решил вопрос об оставлении Родика в Славгороде.
Антошку Веритеев тоже оставил было в Славгороде своим порученцем. Но тут вмешался Бегунок.
– Я у них, у Головиных, сколько в поселке прожил? – горячился Савелий, уговаривая Веритеева вначале отпустить Антошку с отрядом Сергея Малкина в Мануйлово, а уж потом сделать своим порученцем. – Сколь одних щей у Платона выхлебал! Сколь картошки у Дарьи Васильевны съел? И чтобы теперь Антон у меня не пожил? Нельзя, Иван Николаич, никак нельзя! – укорял он озабоченного начальника эшелона. – Говоришь, он тебе в городе надобен для посылок? Ладно. Сколь поживет у меня в Мануйлове, столь и будет После – к тебе вернется. А пока давай его вместе со мной туды…
Антошке ехать в Мануйлово не хотелось. Что он там будет делать один? Другие ребята направляются в Скупино. Петр Петрович с Катенькой и Соней остаются в Славгороде. Не будет и Вероники… В таких обстоятельствах самое лучшее – остаться у Веритеева в «адъютантах»: по надобностям штаба удастся съездить и в Скупино, повидать ребят и эту… ну, Веронику… А у дядьки Савелия? Что у него?
Однако Савелий так настойчиво уговаривал Веритеева, так искренно радовался возможности отплатить Головиным за гостеприимство в заводском поселке, что отказать ему не хватило духу. И после того, как распределение состоялось и все побежали к своим вагонам – кто за вещами, чтобы двинуться в степь, кто – чтобы ехать дальше на юг к другим станциям и разъездам, а кто и затем, чтобы помочь собраться другим, а потом самим повольготнее разместиться в опустевших теплушках на весь срок работы здесь, на запасном станционном пути, – когда все это произошло, отряд Сергея Малкина тоже двинулся в степь – за озеро Коянсу.
В отличие от Бегунка, Антошка покинул городок со стесненным сердцем: из головы не выходил нечаянно подслушанный вчера разговор между Константином и Вероникой.
До этого брат всю дорогу от поселка до Славгорода откровенно обхаживал красивую, лучше других одетую, бойкую на язык барышню по всем правилам ловкого ухажера. А вчера, когда выяснилось, что его оставляют в городе с «группой слежения и учета» Петра Петровича, где он должен будет заниматься сбором и обобщением сведений о работе всех дружин эшелона, а Вероника тем временем уедет в Скупино – на сено, – Константин решился на прямое любовное объяснение.
Произошло это после обеда, в разгар суматошного дня. В поисках Катеньки, расстроенный предстоящей разлукой Антошка решил заглянуть в вагон интеллигенции: не там ли Катенька отдыхает от ярмарочной кутерьмы?
Но там никого не оказалось. Зато по другую сторону вагона, где простирался пустырь, слышались знакомые голоса: брат объяснялся Веронике в любви. Он говорил приглушенно и нервно, а она, видимо не принимая его объяснение всерьез, либо молчала, либо отвечала так спокойно и громко, что Антошка слышал каждое слово.
Уйти у него не хватило сил. И когда Константин предложил Веронике тоже остаться в городе в качестве его законной супруги да еще при этом, судя по всему, дал волю рукам, она резко сказала:
– Уберите руки! Прошу вас…
Потом вдруг весело засмеялась:
– Значит, вы делаете мне предложение? Предлагаете стать законной супругой? Забавно!
И пренебрежительно, как показалось Антошке, добавила:
– Но вы опоздали. Я уже дала согласие Казимиру Адольфовичу Свибульскому.
Дальше Антошка слушать не стал. Бесцельно шатаясь между телегами и людьми, он уныло казнил себя:
«Ну вот… значит, дала согласие инженеру Свибульскому. Будет его законной супругой. А Костька – утерся. Так ему и надо: ишь ты, чего надумал! А я?»
Сам он, конечно, совсем и не связывал свою полумальчишескую влюбленность с мыслями о женитьбе. Влюбился – и все. При чем тут женитьба? Тем не менее услышанное у вагона поразило его: оказывается, Вероника выходит замуж.
И это как-то вдруг стало стремительно отстранять ее от него. Делало ее посторонней и недоступной. Почти чужой: какая может быть любовь, если там Свибульский?
Чувствуя себя обманутым и обиженным и сам как бы обманывая кого-то (себя? Веронику? Брата?), он со вздохом решил:
– Ну и пусть! Пусть женятся, кто и на ком желает!
И это принесло ему утешение. Завернув к вокзалу и еще издали увидев Петра Петровича с Катенькой и Соней в группе полузнакомых ему инженеров, он уже почти совсем обыденно подумал: «Без любви обойдемся!»
С этими мыслями он и отправился в группе Сергея Малкина к озеру Коянсу.
После недавних дождей степь зеленела, дышала свежестью, благодатью. Босым ногам, соскучившимся за зиму о ласковой земной прохладе, было так хорошо ступать на мягкое и душистое, что пышным половичком покрывало эту нелегкую для земледельца, но легкую для пешехода землю. И час за часом Антошка с улыбкой оглядывал степь – с острыми гребешками камышовых зарослей по берегам озер, с яркой зеленью жимолости, шиповника, боярки, кустарниковой калины, клевера, ситника, вьюнков, аржаника на добротных местах, сайгачьей травы, полынников, ковыля на сухих буграх, кудрявых колков из березок, осин, осокоря, а изредка и дубков, то тут, то там возвышающихся над степью.
– Когда-то здесь тоже были леса, – рассказывал Бегунок. – Стояла тайга. Потом пришли люди, начали строиться, обживать эту степь, изводить леса на избы, на топку печей. Лучшую хвойную часть извели до самого корня. Не оставили даже и материнских стволов. Теперь разве только редкая птица донесет сюда в своем чреве сосновое семя, да и тому укорениться тут уже негде. Вот и остались одни колки, рощицы из осин и берез. Семена у них легкие, ветер разносит всюду…
Антошка стал было уговаривать Савелия добежать до Мануйлова на своих на двоих:
– Уж больно степь хороша! Так и хочется по ней пробежаться!
Но тот отказался:
– Не дойдем. Верней, что я не дойду. Вишь, как в грудях все еще значимо хурлычит? Раньше-то я, бывало, – откашлявшись, похвастался Бегунок, – туды да обратно в единый день лётывал. А теперь…
Вез их на своей телеге Агафон Грачев – новый председатель Мануйловского волсовета. Он по дороге и рассказал, как явился к ним в Мануйлово полномочный Суконцев, как Белашова девчонка Устинья подслушала разговор Суконцева с Мартемьяном.
– Тут Тимоха Макаров и замыслил сделать засаду, – весело говорил Агафон. – И так пощелкал чуть ли не всех бандюг, что теперь у нас стало вольготно. Правда, самому Сточному опять удалось уйти, а Суконцева взяли. Оказался лютым вражиной. Отправили прямо в Омск. Туда же и Мартемьяна с его племяшом, который вовсе и не племяш. А с ними и кривоглазого Кузьку…








