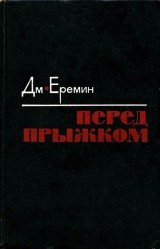
Текст книги "Перед прыжком (Роман)"
Автор книги: Дмитрий Еремин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
– А что? Ничуть не хуже, чем ты говоришь про коммунию!
– Но чем же эта твоя «спекулягия» отличалась бы от того, что было при царе, если наша пролетарская коммуния тебе не по душе?
– Как так не по душе? С чего же? Этого нет. Просто – зачем зря ждать, когда еще она будет, твоя коммуния, если нынче же вместе с налогом на деревенских можно сделать, как я говорю, и рабочему человеку? Государству – совсем не в убыток, само по себе, но и нам – само по себе…
Малкин сердито хмыкнул, помолчал, внимательно пригляделся к Игнату, с огорченным видом сказал:
– Да-а… мути в тебе полно, как в луже. Вон покаялся ты на митинге, что пошел за Драченовым по дурости, но вижу, что нет. Опять к нему завернул. Сидит он в тебе – торгаш-наживала, сидит! Ну, ладно. Теперь мне скажи: а что же такое, по-твоему, государство? Отколь оно? Для чего оно? Из кого составляется? Кем? Слыхал небось, да и сам выбирал, что у нас Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов?
– Ну… это да.
– Значит, да? А как оно будет править, рабоче-крестьянское государство, если крестьяне с рабочими окажутся как бы совсем посторонние, мимо него? Заводы-то будут чьи?
– Наши, рабочие…
– А с чего это государство тебе их подарит? Ему, брат, ведь надо не только молотилки да косилки делать, а и оружие для защиты. И армию поить да кормить, чтобы буржуи Россию не слопали. И питание для тебя. И народ весь обуть да одеть. Ребят в деревне и в городе – грамоте научить. А то и в инженеры вывести для тех заводов. И чтобы железные дороги. И правильная торговля, а не толкучий базар, где каждый тянет себе. Ну, в общем, чтобы вся жизнь в государстве шла ровно, своим чередом, – не назад, а вперед. И все это надо сделать, обмозговать, спланировать во всеобщем масштабе. Ты сам-то заниматься этим не будешь?
– С чего же я? Мозги у меня не те…
– Вот-вот. Значит, мозги у тебя не те, а давай в твой карман жирный пай за машины сполна, да еще на какие-то шиши корми тебя и пои, квартиру давай, обувай, одевай, об защите России думай? Неплохо придумал. Еще ловчее, чем те буржуи…
9
Слушать такие споры для непоседливого Фильки было еще тяжелее, чем унылые песни да вздохи «рыжиков». И он, безнадежно махнув рукой, пересаживался с нар, где гудели спорщики, на нары, где обособленно от всех сидел, а чаще всего, забравшись к себе на верхнее место, молча лежал недавно перебравшийся сюда из вагона интеллигенции кладовщик Теплов.
Когда формировался эшелон и каждый выбирал себе вагон по вкусу, ближе к знакомым людям, доверенный мистера Гартхена Верхайло попросил Константина Головина взять «моего лучшего кладовщика Теплова, человека в высшей степени порядочного», в свой вагон.
– Вы назначены старостой… можно сказать, хозяином самого достойного из вагонов в этом скотском эшелоне, – польстил он самолюбивому Константину. – При вас моему одинокому товарищу будет лучше. Очень прошу…
Константина назначили старостой «вагона интеллигенции» после долгого спора.
– Путаник он! – сердито возражал Платон против кандидатуры сына. – Путаник… если не хуже!
Но Веритеев не согласился:
– Выходит, мы так и будем отшибать его от себя к чужакам? Так, друг, не гоже! Ну, оступился… ну, залез не туда… теперь без передыху и будем его тюкать? И будем отшибать? Все-таки парень свой, одумается. Для того и включим его в дело: оно само заставит подумать…
Константин об этом споре не знал, назначение старостой счел уступкой «ортодоксов» его принципиальности. Это лишь укрепило его в своей правоте, польстило маленькому тщеславию, а лесть Верхайло добавила каплю меда. Поэтому он охотно пошел навстречу пустяковой просьбе:
– Конечно, возьму его в свой вагон! Тем более что ваш кладовщик мне нравится…
Так Терехов оказался вначале в вагоне интеллигенции. Такой вариант проникновения в Сибирь показался ему наилучшим, тем более что до этого его прямо-таки мутило от мысли, что недели две, если не больше, ему, сыну дворянина, одной из чистейших крупинок «соли земли русской», придется ехать в вагоне с грязными, некультурными мужиками… Бр-р, просто невыносимо! Не удивительно, что предложение Константина он принял с радостью, скромно устроился на верхних нарах, в дальнем углу, держался со всеми почтительно, как и подобает простому кладовщику в избранном обществе.
Здесь ехали два инженера – бельгиец и итальянец, финансист-плановик Клетский с миловидными, вполне благовоспитанными дочками Соней и Катей, пестро одетый, похожий на иностранца юнец, оказавшийся не то родственником, не то хорошим знакомым генерального юриста Мак-Кормиков в России Воскобойникова, главный врач заводской больницы Коршунов, немец Лангер, два уже немолодых русских цеховых мастера, экспедитор Сысоев и еще несколько человек, не заинтересовавших Терехова.
Но самой интересной, даже броской личностью, возле которой все как бы меркло (так казалось соскучившемуся по красивым женщинам Терехову), была Вероника Урусова, по матери – Пламенецкая, девушка лет двадцати трех, в меру крупная, статная, пышноволосая, с ярко поблескивающими на мраморно-белом лице озорными глазами.
Самое удивительное в ней было то, что она не жеманничала, как белокурая Сонечка Клетская, не дичилась, как младшая сестра Сонечки Катя, похожая на отца. Вероника была со всеми ровна, улыбчива, даже смешлива. Все в дороге казалось ей интересным, все вызывало живейшее любопытство. Ни высокомерия, ни рисовки. Держится так, будто совсем и не думает о себе, просто не замечает себя.
«И это аристократка? – прикидывал Терехов, не то злясь на нее за слишком уж простонародную открытость, не то восхищаясь ею именно за эту простоту: такое может позволить себе лишь подлинная аристократка! – А может быть, притворяется? Если так, игра превосходна!»
От вьющегося вокруг Вероники мелким бесом Константина он узнал, что та – последняя дочь мадам Пламенецкой, некогда состоявшей в свите императрицы Марии Федоровны. У мадам до Вероники было уже две дочери от первого мужа, итальянского дипломата Поджио («Обе теперь живут за границей», – уточнил Константин), еще две дочери – от второго мужа, французского военного атташе при царском дворе Блютера («Эти остались и живут в Москве»). Вероника – пятая дочь мадам от третьего мужа, дальнего родственника князей Урусовых, полковника царской армии, раненного на германской войне, а теперь ведающего транспортом на заводе. Девице двадцать три года. Знает несколько иностранных языков, работает машинисткой-стенографисткой по внешним связям.
– Американцы молодцы, – рассказывал Константин. – В заводском клубе каждую субботу либо новая фильма, либо вечер танцев, и Вероника не пропускает ни одной субботы. Пригласишь ее на танец – охотно соглашается! Не брезгует нашим братом «мужиком-демократом», – добавлял он с усмешкой, не скрывая своего увлечения Вероникой. – Совсем не похожа на дочь графини аристократки. А когда говоришь ей об этом, отшучивается. При этом довольно рискованно: «Наверное, мою маму в свое время соблазнил наш кучер Иван. Выходит, и во мне течет пролетарская кровь…»
– Нашла, дура, чем хвастаться! – сквозь зубы заметил Терехов.
Но это была единственная фраза, сказанная им от души за все время короткой жизни в вагоне интеллигенции.
С первого же появления здесь он старался держаться особняком. Еще когда ему удалось устроиться к Верхайло кладовщиком, он решил отпустить для конспирации бороду и усы, теперь они отросли, опростили его лицо: мужик мужиком. Но таким вот простеньким мужичком ему и хотелось казаться.
Для большей безопасности он и с Константином стал общаться все реже, держался все отчужденнее: этот самолюбивый «местный оппозиционер», как про себя стал называть Терехов старшего сына Головиных, оказался личностью мелкой. Фиглярничает, острит, из кожи лезет вон, чтобы понравиться эшелонным дамам, особенно Веронике.
Ну, барышня – хороша, ничего не скажешь. Иногда так и тянет обратиться к ней по-французски или по– немецки. И обратился бы, оказавшись во время продолжительной стоянки с глазу на глаз где-нибудь за составом. Может быть, даже и рассказал о себе. Немного, намеком. Но нет уверенности, что девица, сама того не желая, не выдаст каким-нибудь необдуманным словом. Забудется, при всех подойдет к нему и тоже по-немецки или французски спросит: «Господин штабс-капитан, скажите, пожалуйста…» – и все рухнет в одно мгновение…
– Нет-нет, – твердил он себе. – Ото всех подальше! И прежде всего от этого головинского отпрыска. Вон как он выкобенивается, старается рассмешить Веронику: «Жена, шипя от злости, ушедши к зятю в гости, а ейный муж, в отместку, увлек ее невестку, их сын повел в беседку смазливую соседку. А что потом произошло, до нас, к несчастью, не дошло». И это считается у него верхом остроумия… бр-р-р! А теперь с видом заправского Дон Жуана читает Веронике стишки какого-то из современных поэтических мэтров:
Вы в заливе налима лениво ловили
И меняли налима вы мне на линя.
Не меня ль о любви вы так мило молили
И не вы ли в малину манили меня?..
К чертям! Подальше от этого местного оппозиционера. Нет ничего ненадежнее перебежчика. А этот хочет перебежать от своих пролетариев к господам. Однако самое большее, на что он способен, это на какой-нибудь вздорный, в сущности, пустой выпад во время очередного митинга. На иное, а тем паче на то, ради чего он, штабс-капитан царской армии Ипполит Петрович Терехов, заклятый враг большевиков, сражался в добровольческой армии, потом полгода скрывался под видом послушника в монастыре и теперь, чудом выскользнув из рук Чека, едет в Сибирь для организации нового, и на этот раз, надо надеяться, самого боевого, всесторонне подготовленного для победы подполья, – на такое Константин Головин не способен. Решительно не годится: такие после победы над большевиками будут использованы лишь в качестве служилой мелкоты…
В дорогу Терехов оделся как можно скромнее, по– рабочему. За едой на остановках не гонялся – в надежде сладко поесть потом, когда приедет в Сибирь, в добрый час покинет опостылевший эшелон с этими грязными, ненавистными ему обовшивевшими людьми, осмотрится, уйдет в подполье, к своим, и начнет наконец святую, как он считал, освободительную борьбу за возвращение многострадальной России в семью цивилизованных государств.
Ехать в вагоне интеллигенции было удобно. А главное – безопасно: все-таки вокруг, считал Терехов, относительно порядочные люди, а не то быдло, которое горланит в других теплушках.
Он уже стал было совсем привыкать к своему новому положению интеллигентного пролетария, как вдруг это мирное житье нарушило появление младшего Головина.
В первый раз тот пришел к брату как к старосте вагона с каким-то поручением от начальника штаба Веритеева.
«И у этих штаб… начальники штаба! – презрительно подумал Терехов, стараясь при этом не показываться на глаза знакомому парню, хотя тот больше глазеет не на него и не на Константина, а на Веронику, весело болтавшую о чем-то с Сонечкой Клетской. – Придет час, и мы с такими „штабными“ поговорим на языке свинца!»
Уже тогда этот первый приход Антошки напугал Терехова, показался ему опасным: а если парень узнал? Узнал – и приведет с собой начальника штаба?
Однако никто в тот тревожный час сюда не явился. Зато некоторое время спустя Антошка появился снова – пришел с младшей дочерью Клетского Катенькой «просто так». Терехов едва успел залезть на верхние нары и сделать вид, что занят в своем углу пересмотром вещей.
Парень пробыл в вагоне чуть ли не полчаса, весело болтая с девчонками Клетского, но явно интересуясь и Вероникой, которая время от времени прогуливалась мимо дверей вагона в сопровождении инженера Свибульского и Константина Головина – этот с пафосом читал какие-то стишки невнимательно слушавшим его спутникам, явно занятым больше друг другом. Терехову стало уже казаться, что веселой болтовне на нижних нарах не будет конца. От напряженной позы тело задеревенело, невыносимо хотелось спрыгнуть вниз и размяться, когда наконец-то вдоль всего состава, как это делалось каждый раз перед отправкой, понеслось:
– По ваго-о-о-нам! – и младшему Головину пришлось сматываться, как он выразился, к своим…
Поняв, что это не последнее появление опасного парня в вагоне, где царствует Вероника, что парень не столько из-за Катеньки, сколько, похоже, из-за эффектной Пламенецкой будет ходить теперь сюда постоянно, да еще как-нибудь останется здесь на большой перегон, и тогда хочешь не хочешь, но покажешься ему на глаза, а глаза у этого комсорыльца остры, как шильца: взглянет и узнает.
И штабс-капитан решил: судьбу испытывать не только глупо, но и опасно. На следующей же остановке он перешел в вагон «рыжиков»…
Но и здесь оказался один из тех, кого били бабы возле монастыря. В первую минуту, увидев Фильку в дверях, Терехов трусливо заколебался: не нырнуть ли сразу под вагон и, плюнув на все, не попробовать ли добраться в Сибирь в любом попутном составе?
Но не успел он додумать тревожную мысль, как парень решил все за него сам:
– К нам? Новенький? Слава богу! А то тут с этими, – Филька кивнул в глубину вагона, где что-то гундели «рыжики», – и до Сибири не доедешь, сдохнешь с тоски!..
В тот час, когда старухи били его вместе с другими ребятами возле Николо-Угрешского монастыря, Филька так был занят собственной обороной, что даже и не заметил Терехова-«послушника», с усмешкой наблюдавшего за их избиением от монастырских ворот. Поэтому у него не появилось даже тени подозрения, когда Константин Головин, по согласию с Малкиным, привел в их вагон этого молчаливого, казалось, отрешенного от всего, что творится вокруг, обросшего небольшой, но окладистой бородкой, нового человека. Наоборот, Филька даже одобрил, как он выразился, этот вполне классовый шаг.
– Чего с той интеллигенцией коптиться? – говорил он, помогая Терехову устроиться на верхних нарах возле себя. – Я бы, к примеру, и часу у них не пробыл: скукота! То ли дело у нас: народ рабочий, свой. Если бы только не эти, – он кивал в сторону «рыжиков». – Да черт с ними, пусть гундят. Главное, брат, живи – не теряйся! Согласен со мной? Конечно, если бы вот побольше насчет жратвы…
Филька красноречиво тискал пустое брюхо, качал головой:
– Оно бы, конечно, лучше. Однако же как-нибудь. В Сибири наверстаем…
Поддавшись охватившему всех азарту – первым выскочить из вагона на очередной остановке, первым же обменять что-нибудь из взятого с собой барахла на еду и здесь же, возле бабьих торговых рядов, съесть обмененное, да так, чтобы «за ушами трещало», Филька в первые две недели «профукал» все, на что рассчитывал прожить до самой Сибири. Куски драгоценного плюша не в счет: эти заветные. Они – на муку. На сибирскую крупчатку для дома. А в пузе – с каждым днем все алее «кишка кишке кукиш кажет». При этом – не просто просит еды, а воет о ней: «Давай… доставай… скорее!»
Легко им, кишкам, вопить – достань! Бабы на полустанках, а особенно на крупных станциях, поумнели, видали и не таких: у этих не украдешь. Следят за каждым голодным во все глаза. Свои горшки да ведра с капустой, картошкой, с мясом да пирожками – только что не обнимают, когда начнешь притираться ближе. Ну, иногда хоть иди с протянутой рукой как нищий…
Хорошо еще, что у сестры Клавки с Зинкой Головиной, ехавших в середине состава, можно чем-нибудь разживиться: у этих то хлеб с молоком, то кусок вареного мяса. «И откуда оно у них? – дивился Филька, впрочем, не очень вдаваясь в поиски ответа на свой вопрос. – Чего-то все шепчутся, все чего-то скрывают. Обе – тощие пигалицы. Наверно, мало едят, вот еда у них и остается…»
Время от времени подкармливал едущих в эшелоне и старательный Иван Амелин. Уехав на попутном составе вперед, он организовывал на больших станциях обед из капустных щей и каши или выдачу продуктов сухим пайком. Как-то даже каждому досталось по паре яиц. Старосты с добровольными помощниками, среди которых, конечно, сразу же оказался и Филька, долго разносили по вагонам ящики и корзины с драгоценным грузом. Не скрывая довольной улыбки, Иван Амелин каждого из них напутствовал возле раздаточного вагона:
– Осторожно, ребята! Чтобы ни одного битого! Такая-то благодать…
Все в тот день предвкушали чуть ли не пирование, пока не выяснилось, что яйца порченые, есть их нельзя. В теплушке «рыжиков» Игнат Сухорукий кричал, суя к носу старосты Малкина воняющие яйца:
– Скажи своим воротилам, что за такие харчи мы в Сибири много работать не будем, предупреждаю наперед! Так-то вонять мы сами умеем…
Медлительный и спокойный Малкин терпеливо отводил длинную руку Игната:
– Я тебе не вестовой, чтобы передавать всякую дурость. Пойди да скажи сам. А не хочешь есть яйцо, возьми да выбрось. И мне ведь не лучше попалось…
Тихий, робкий Фрол Кобяков огорченно вертел в руках воняющий котелок:
– Мисочку всю испортил, вот беда! Теперь и чаю вскипятить не в чем…
А когда совсем стемнело и эшелон уже тронулся в путь, кто-то успел влепить в двери распорядительной горсть тухлых яиц. Они мокро щелкнули и разбрызнулись по стене, наполнив теплушку вонью. Вытирая измазанную зеленоватыми брызгами щеку, кладовщик равнодушно сказал своему помощнику:
– Бьют в голову Амелина, а попадают в мою! – и выглянул за дверь.
За вагоном никого уже не было. Сзади гудела в темноте станция, набитая голодными оборванными людьми из других эшелонов. Над тусклыми огнями станционных фонарей недвижно висело звездное небо. Теплый, еще не успевший остыть после дневного зноя ветер доносил запахи свежей степной травы. Из вагонов, навстречу ему, вырывались то бойкие, то протяжные и печальные песни. Состав двигался, убыстряя движение, а ночь, уже успевшая созреть на востоке, втягивала его в себя, как в огромный длинный тоннель…
Для голодного Фильки каждый такой несчастный день становился серьезным испытанием. И вдруг однажды, когда уже просто не оставалось терпения вынужденно поститься, прямо хоть налетай в открытую и хватай, – он краем уха услышал возле пристанционных торговых рядов озабоченный разговор.
– С этим просто беда! – говорила одна из баб. – Хоть сама из чего-ничего, а сделай! Давно уж девку пора крестить, а крестиков нету!
– И не скажи! – ответила ей другая. – Будто не християне!
Филька радостно дрогнул: батюшки-святы! О крестиках-то он и забыл! Как сунул их еще в день отъезда на нарах под изголовье, так ни разу не вспомнил. А тут вон, гляди ты…
Он торопливо шагнул к уставленному едой торговому ряду, и все еще не очень веря, что бабы толкуют именно о церковных крестиках, спросил:
– Каких это крестиков у вас нет?
– А тебе зачем? – подозрительно ответила крайняя баба.
– Затем, что есть у меня этих крестиков больше сотни!
– Ой… врешь!
– Истинный крест, не вру! – Филька перекрестился. – Хочешь сейчас же и принесу!
– Ой, батюшки… да неужто?
– Вот тебе и «неужто»! Раз сказано, значит – есть!
– Ой, парень… уж так ли? Давай принеси!
– Я на обмен! – он с жадностью оглядел заваленные и как бы даже отполированные снедью доски торгового ряда. – На это вот!
– Чего уж… беги скорейче!
Когда он вернулся с горстью сунутых в карман крестиков, его нетерпеливо ждали бабы всего торгового ряда. Прикрыв свои ведра, решета и крынки фартуками и тряпками, они переругивались с теми, кто тоже пришел сюда разживиться едой:
– Погоди, не лезь! Торговля пока закрыта!
– Вот парень идет… погодь, тебе говорю: вначале я с ним!
– И я!
– А я с ним первая сговорилась…
В тот день наконец-то Филька наелся «от пуза». И больше всего дивился тому, что за десять паршивых крестиков! Вот повезло! Спасибо бабке Ефимье и ее сундуку!..
– Теперь завей горе веревочкой, пролетарий, до самой Сибири! – говорил он Терехову и «рыжикам». – А если с бабами торговаться, то и в Сибири еще крестиков хватит: там небось в них и вовсе нехватка! Вот ведь как вышло: думал, что чем другим возьму, а что оказалось? Крестики…
С этого дня он стал есть, «как король». Ел все подряд, вареное и сырое: молоко, творог, яйца, картошку, мясо, капусту. После обильной еды постоянно хотелось пить. И хотя на стенах вокзалов на пристанционных столбах и заборах были наклеены плакаты с предупреждением не пить и не есть сырого, а врач Коршунов все чаще выступал на остановках с докладами о холере и тифе, многим, в том числе Фильке, лень было стоять в очереди за кипятком у своего санитарного вагона и привокзальных «кубовых». Даже дисциплинированный, пивший лишь кипяченую воду Родик Цветков, прозванный друзьями за любовь к стихам Рифмоплетом, присочинил к одному из плакатов – «Страшна в холерные года некипяченая вода» – скептическое четверостишие:
Но, значит, нужен кипятильник?
Но, значит, нужно кипятить?
Ведь с адскою такой работой
Нам не придется воду пить!
Филька лишь отмахивался от всяких предупреждений:
– Меня ничто не возьмет. Я от холеры заговоренный…
Но именно его-то первого и свалили холерные вибрионы.
Он уже чувствовал, что болен, но в тот день даже больной не смог удержаться и не подшутить над занудливыми «рыжиками».
Эшелон третий день стоял на запасном пути в Петропавловске, в двухстах восьмидесяти верстах от Омска. Был жаркий июньский полдень, в вагоне держалась томительная духота, и Половинщиков с Сухоруким, разморенные ею, сладко храпели на нижних нарах – головами наружу. В их глотках что-то все время тяжко перекатывалось и булькало, длинные рыжие усы ритмично двигались в такт прерывистому дыханию, похожие на хвостики зверушек, нырнувших мужикам в могучие ноздри. И это привлекло внимание Фильки. Мучимый жаждой, он уже взял было чайник, чтобы пойти на станцию за кипятком, когда увидел эти шевелящиеся усы, и забавное зрелище остановило его. Не поленившись слазить к себе в верхний угол, он достал ножницы, хотя ноги от слабости, казалось, вот-вот подогнутся, и аккуратно отрезал Половинщикову правый, а Сухорукому левый ус.
Дрожавшая от слабости рука в последнюю секунду дернулась, Сухорукий от боли вскрикнул, ошалело уставился на веселую рожу парня, потом ткнулся пальцами в остриженное место под левой ноздрей, дико взвизгнул – и вывалился с нар на пол, пытаясь в падении ухватить Фильку за штаны.
Тот с веселым хохотом прыгнул к дверям, соскочил на землю и, погромыхивая пустым чайником, трусцой побежал к кубовой.
Там он нашел еще в себе силы встать в очередь к крану, откуда брался кипяток, но дойти до кубовой уже не смог. Его тяжко и много вырвало, он повалился под ноги стоящих в очереди людей и впал в тяжелое забытье.
Санитары в белых балахонах уложили парня на носилки.
– Куды же теперь этого? – сердито спросил передний того, который шел сзади, равнодушно поглядывая по сторонам и на лежащего на носилках Фильку с обострившимся, как у покойника, носом. – В больницу не примут: некуда. Может, в сарай?
– Ага, – односложно сказал второй. – Все одно, как видно, помрет…
И Фильку свалили прямо на землю в темном дощатом бараке, за вокзалом, где уже лежало с десяток таких, как он.








