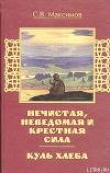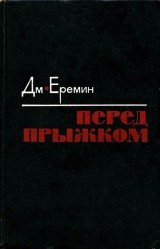
Текст книги "Перед прыжком (Роман)"
Автор книги: Дмитрий Еремин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
– А это зачем?
– Узнаю, чем дышит.
И быстро прилгнул:
– Об этом мне еще в Омске комиссар присоветовал…
– Хм… ишь ты! Ну там ты как хочешь, а главное, чтобы вовремя и полностью выполнить задание за счет таких, кто покрепче. Не с бедноты. Долг по хлебу у многих с прошлого года. А нам, брат, приказано докладывать о ходе учета и сборе каждые двое суток. Так что срок у нас невелик…
– Поднажмем!
– Вот-вот! На местную власть не надейся, увидишь сам. Привлеки бедноту, актив…
На следующее утро уполномоченные разъехались по своим волостям: матрос Кузовной – на разъезд Скупнно. Стрельцов – в Алексеевское, а Суконцев и Абдуллаев – к длинному озеру Коянсу, на южной оконечности которого раскинулись аулы и юрты казахской волости, где издавна главенствовал род Алтынбаевых, а на северной дальней излуке расположилось большое село Мануйлово, возникшее здесь всего тридцать лет назад, в страшные неурожайные годы, когда в нечерноземных губерниях центральной России вымирали целые волости и царское правительство, воспользовавшись этим, решило завершить давно уже начатую им кампанию по переселению малоземельных крестьян в Сибирь.
Абдуллаев предложил было Суконцеву ехать вместе: большая часть пути была общей. Но тот отказался: по– военному собранный, сдержанно-внимательный ко всему инородец показался ему опасным, и под предлогом дополнительного разговора с Кузьминым, которому он якобы не успел передать что-то по поручению ревкома, Суконцев сказал:
– Езжай пока один, я на часок задержусь. Лучше приеду к тебе как-нибудь в аул… поучусь, как велел Кузьмин.
– Жаксы. Тогда будь здоров.
Абдуллаев со своими спутниками – землемером Устиновым и работником местного военкомата Вазыховым – уехал. А часа через два тронулся в путь и Суконцев.
Вместе с ним ехали землемер Гладилин, уже пожилой, унылый человек, служивший до революции в губернском земельном ведомстве, и два молоденьких красноармейца, вооруженные винтовками.
4
Ашим Абдуллаев ехал в урочище Коянсу с твердым намерением положить конец все еще сильной власти рода богачей Алтынбаевых.
Сам Алтынбай, которому царь Николай Второй за поставку мяса и лошадей во время русско-японской войны присвоил звание личного дворянина, успел еще до полного разгрома Колчака бежать в Джунгарию, увести туда и свое главное богатство – элитные табуны коней, гурты скота и верблюдов, овечьи отары. А Толебай остался в степи. Живет по-прежнему как царек. Во время недавнего учета этот байский сынок показал, будто отец оставил ему всего небольшой табун лошадей да голов двадцать пять скота и овец. Но это, конечно, враки, – сердито раздумывал Абдуллаев. Прячась за спинами своих забитых, неграмотных батраков, приказав им свидетельствовать только то, что скажет сам он, главный в роде и племени, Толебай как был властителем-баем, так и продолжает быть им. И с этим нельзя мириться. Казах и партиец, Ашим Абдуллаев обязан во имя свободы своих земляков до конца и честно выполнить поручение Сибревкома. И он его выполнит…
Ашим был уроженцем одного из аулов того же урочища Коянсу. Отец его, мать и четыре сестры погибли от страшного мора в год Змеи, который прошел по многим аулам как ураган и о котором оставшиеся в живых, теперь уже старики, до сих пор говорят с трепетом, как о великом гневе аллаха.
Из всей семьи тогда уцелел лишь один Ашим, чтобы стать рабом Алтынбая. Тогда ему было двенадцать лет.
За сиротскую хилость бай Алтынбай невзлюбил его: какую выгоду можно иметь от такого слабого, вечно голодного пастушонка? А сын хозяина Толебай ради потехи не раз избивал сироту, и в последний раз – на глазах Софият, соседской девчонки, которая нравилась полупарню-полуподростку Ашиму.
Именно Толебай и выжил его из аула. Пришлось перебиваться, где как придется, на стороне, пока он вместе со своим русским другом Савелием Бегунком, который был старше его на десять лет, но тоже бездомным и нищим парнем, – не попал в дикую каменистую степь на угольные копи в Экибастузе, принадлежавшие тогда английскому богачу Уркарту. Здесь он прошел не только жестокую школу бесправного, изнуряемого бесконечным трудом инородца-чернорабочего, но благодаря Бегунку сдружился с русскими и научился яснее видеть злые и добрые силы жизни.
Это определило в дальнейшем всю его жизнь. Во время гражданской войны он стал кызыл-батыром казахское-татарского партизанского отряда, был трижды ранен, в Омске вступил в национальную секцию РКП, весной этого года закончил специальные курсы инспекторов– пропагандистов по работе в деревне и вот теперь направлен для работы в Славгородской уезд.
Линейное расстояние между Славгородом и родовым аулом Алтынбаевых Ченгараком равнялось всего сорока верстам. И едва ли не втрое короче оно было между южной излукой озера Коянсу, где в давние времена возник центральный аул Алтынбаевых, и северной излукой, где находилось переселенческое село Мануйлово. А различия в укладе их внутренней жизни пришлось бы измерять многими десятилетиями: в Ченгараке всего год назад, в сущности, все еще ханствовал аксакал Алтынбай Хизматов.
Бедняки казахи в те прежние годы привыкли, а многие не отвыкли от этого и сейчас, считать себя полной собственностью Алтынбая, главы их рода и племени, господина и хозяина, волей аллаха ниспосланного им свыше для послушания и труда. И если, как говорит ченгаракский ахун, мулла Альжапар, аллаху принадлежат и Восток, и Запад, и куда бы ни обратились вы – всюду увидите лик его, ибо аллах всеведущ и всеобъемлющ, – то поставленный во главе рода аллахом аксакал Алтынбай всеведущ и всеобъемлющ вот здесь, в степи. И не только близ озера и аула, но и далеко вокруг, где пасутся его табуны, стада и отары.
Так же с детства думал об этом и батрак Толебая Архет, с которым «тройка» Ашима Абдуллаева встретилась в степи по дороге в урочище Коянсу.
Это был загоревший до черноты, еще совсем молодой, кривоногий парень с красными трахомными веками, пасший большой табун в круглой, как блюдо, поросшей после недавних дождей сочной травой лощине, дальний край которой обрамлял как узор кудрявый лесок.
Ашим помнил Архета еще голопузым ребенком, сыном байского батрака Шакена из аула Ченгарак. Их глинобитная, покрытая дерном юрта была в ауле едва ли не самой бедной. В ней не было ничего, что могло бы доставить радость семье из семи человек, не считая Шакена и согнувшейся от непосильной тяжести жизни тетушки Басарги.
Архет был младшим сыном в семье. По обычаю, имя ребенку давала при рождении бабка, ульде. А мальчик родился у бедной, голодной матери тощеньким, еле живым. И бабка решила, что ребенок не выживет, поэтому назвала его Архетом, что означает «саван покойника». Однако он выжил. А имя Архет – осталось. Оно, как проклятье, сопровождало его всю жизнь – от голода к голоду, от побоев к побоям, от горя к беде. В самом имени было, казалось ему, несчастье.
Как и других батраков, местный мулла Альжапар учил его не только любви к аллаху и послушанию старшим в роде, но и ненависти к русским переселенцам. Особенно к тем, которые живут теперь на другом берегу Коянсу, тем самым лишив Алтынбая большого куска степи.
Архета в те годы, когда русские поселились за северной излукой Коянсу, еще не было на свете. Но по рассказам других он знал, как и когда эти русские появились в степи Алтынбая. Мулла говорил, что это произошло потому, что недовольные баями плохие джетаки – байские батраки – прогневили аллаха, и он, как тяжкую кару, послал в степь казахов толпы бездомных и нищих русских из непонятной, но сильной России. Вот почему они, подобно затянувшемуся, небывалой силы бурану, докатились сюда. И хотя землю для них царские люди отмеряли не из «казны» и не там, где паслись табуны Алтынбая и баев других родов, а либо из ничьей неудоби, либо за счет бедняков-кочевников, – Алтынбай все равно проклинал всех русских, слал вместе с муллой тяжкие кары на их бородатые и лохматые головы.
– Аллах проклял неверных и приготовил им пламя гнева своего! – убеждал мулла Альжапар. И мальчик, а потом подросток и юноша Архет вслед за ним считал, что аллах ненавидит русских.
– Близится ночь могущества, когда аллах покарает неверных и они исчезнут так же, как и возникли! – читал священный Коран мулла. – Отвернись от них и жди!
Архет повторял за муллой, что эта ночь могущества неизбежна, что власть русских будет низвергнута силами неба.
Потом оказалось, что вовсе не неба, а силами их, казахов, таких же, как сам Архет Об этом тоже не раз говорил мулла:
– Сражайтесь с ними! Пусть накажет их аллах вашими руками, и опозорит их, и поможет вам против них! Избивайте их, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засады против них во всяком скрытом месте. О, люди, бойтесь гнева аллаха! Велик аллах, – говорил мулла, и Архет верил, что это так.
Вокруг него жила степь. Над степью жарко сияло солнце, в степи паслись отары и кони. И все это принадлежало, по словам муллы, самым любимым сынам аллаха – Алтынбаю и сыну его Толебаю. Значит, только по их милости он, ничтожнейший из ничтожных, дышит воздухом, который принадлежит роду великого Алтынбая, лежит на их траве, ходит по ней, радуется жизни.
Велик Алтынбай. Все здесь принадлежит ему – степь, небо, трава и кони. Так хорошо вокруг, что хочется петь. И Архет поет:
– Как люблю я степь Алтынбая! На озере Коянсу тысячи тысяч гусей и уток. Коршун летает. Суслик выскочил из норы. Прыгнул кузнечик. Хорошо здесь всем, и ему, рабу Алтынбая, ничтожнейшему Архету!..
Отец продал мальчика Алтынбаю за половину барана в голодный год, когда бедняки вымирали от голода и болезней в степных аулах сотнями, как во время чумы. И за двадцать лет жизни раба он привык к своему положению, покорно служил Алтынбаю, а теперь – Толебаю. Пас вместе с другими батраками – полурабами хозяйские отары и табуны и просто не знал другой жизни. Привык к голоду, к побоям, к нищей одежде, к горькому, но и привольному степному одиночеству пастуха. Неграмотный, темный, суеверный и доверчивый, он верил в аллаха, боялся его, соблюдая все требования муллы.
– Хвала аллаху, господину мира! – говорил ахун Альжапар, и Архет повторял про себя:
– Хвала!
– Бойся Судного дня! Отвернись от неверных – и жди: день возмездия близок!
И Архет в это верил, ждал.
Он часами следил за тем, как по велению аллаха по небу бегут то светлые, то темные отары облаков. Как они в день дождя сбиваются в огромную тучу. Как в ней справа налево, слева направо и сверху вниз до самой земли мелькают страшные молнии, на короткий миг уносящие зрение из глаз, а потом опять возвращающие в глаза цветные круги.
Он видел, как день превращается в ночь, а за ночью приходит утро. Как восходит солнце и как поднимается над далекими озерами большая багровая луна, или острый, как лисье ухо, вылезает из-за ковылей новый месяц. Как жаворонки взлетают от земли в небо и поют славу аллаху. Или как дрофы ходят вдали, время от времени склоняя к земле толстые шеи.
К своему одиночеству он уже привык. И лишь иногда все в нем как бы вдруг начинало темнеть и томиться, подобно тому, как это бывает в степи накануне большой грозы. Степь казалась в такие дни безрадостной и чужой. Тянуло к людям в аул, а злой жеребец Шайтан, вместе с ним охранявший табун, вызывал непонятную злость. Хотелось хлестнуть камчой по его черногубой морде.
Именно такое томящее раздражение владело Архетом в тот день, когда Абдуллаев, землемер Устинов и порученец уездного военкомата Вазыхов наехали на него в степи. Он еще издали увидел их: легкую пароконную тележку с людьми и всадника, красиво гарцующего возле тележки.
Потом этот всадник дал повод коню – и тот понес его к табуну, навстречу возликовавшему от радости Архету: не словами, а как бы всем телом тот понял, что именно люди нужны ему в этот день. И когда подъехали остальные, когда начались приветствия и расспросы, он был готов ответить на что угодно, лишь бы подольше задержать проезжих у опостылевшего табуна.
Расспросив обо всем, о чем полагалось расспросить земляка в степи, Ашим наконец спросил и о главном:
– Толебай показал во время учета, что у него после ухода отца в Китай осталось всего шестьдесят лошадей, тридцать коров и одна отара овец. Но я вижу, что только в твоем табуне не меньше чем сто коней, не считая лошат. Сколько же их у тебя?
Архет удивился лжи Толебая и честно сказал – не словами, а взмахами красноречиво растопыренных пальцев. Получилось – ровно сто двадцать.
– А кто еще вот так же пасет коней, верблюдов или коров и овец Толебая в этой степи?
Архет снова честно ответил, что если ехать дальше к восходу солнца, то в урочище Якшикуль можно найти табун и верблюдов, которых пасет байгуши Сагит. Возле Ола-Текле коров и овец пасет одноглазый Махмуд. Второй глаз ему выбил носком ичига сам Алтынбай еще в юные годы. На самом дальнем и самом богатом кормами пастбище Табын-уй охраняет два табуна отборных лошадей лучший из байских табунщиков старый Бакберген. А вон в той стороне, где заходит солнце, – отец мой Шакен…
Когда Абдуллаев с Устиновым и красиво сидящим на коне Вазыховым объехали эти урочища и по резвому бегу коней измерили те длинные десятки верст, которые самовольно занял под свои табуны Толебай, а потом более или менее точно подсчитали верблюдов, коней, коров и овец в табунах, гуртах и отарах, то даже и по неполным подсчетам вышло, что у Толебая Алтынбаева сейчас одних лишь коней больше полутора тысяч.
Об этом в аульном Совете был в присутствии целой толпы аульчан составлен подробный акт. А несколько дней спустя из Омска последовало распоряжение:
1. Реквизировать излишки лошадей и скота, обнаруженные на самовольно занятых Толебаем общинных пастбищах.
2. В соответствии с картой местного и губернского землепользования определить предоставленную государством Толебаю Алтынбаеву для хозпользования землю в количестве стольких-то квадратных верст.
3. Соответственно этому количеству земли разрешается иметь лошадей, скота и овец столько-то голов.
4. Предупредить Толебая Алтынбаева, что, в случае дальнейшего незаконного использования государственных и общественных земель, он будет привлечен к судебной ответственности по всей строгости революционных законов…
Узнав о «предательстве» Архета, Толебай пришел в неистовую ярость: как посмел этот ничтожный трахомный раб сказать красному уполномоченному, бывшему рабу Алтынбаевых Абдуллаеву о скрытых в степи табунах?
Как повернулся у него змеиный язык, чтобы предать своего господина Толебая, прославленного батыра степей?
Что значит он, червь, рядом с ним, великим и сильным баем?!
Толебай и в самом деле был крупный, сильный мужчина лет тридцати пяти с черными как смоль, прямыми, жесткими волосами и такими же черными бровями, круто сходящимися к переносице. Смуглая, глянцевито лоснящаяся кожа жирно питавшегося крепыша туго обтягивала его сильные скулы. Темные, почти черные губы лишь подчеркивали звериную белизну зубов. В остро поблескивавших глазах были ум, жестокая властность и настороженное зло. Они, как черные носы двух крыс, торчали из узких, косо разрезанных век, вот-вот готовые, казалось, кинуться на любого, кто не понравится или угрожает им.
В отличие от своего младшего брата Шабнадбая, который после окончания Омской мужской гимназии уехал в Париж, учился в Сорбонне и там же во Франции накануне войны опубликовал исследование о судьбах племен «Младшего киргизского жуза», а на этом фоне – об истории своего рода Алтынбаевых, – Толебай предпочел ученью разгульную жизнь в степи. Став взрослым, он, кроме старшей жены, с которой его помолвили, еще когда она была в колыбели, купил у менее богатых соплеменников еще двух жен, несовершеннолетних девочек, которые теперь, благодаря Советской власти, ушли от него, как ушли от него и лишние земли, а вместе с землями вокруг Коянсу – и тысячи голов лошадей, скота, взятые на учет ненавистным Толебаю уполномоченным Омского ревкома Ашимом Абдуллаевым.
И вот теперь этот нищий Ашим, которого Толебай в былые годы, когда тот был мальчишкой, не раз избивал ради своего удовольствия до крови, а сейчас готов растерзать руками на части и сжечь на костре возле своей юрты, – именно этот Ашим, изменивший аллаху большой-бек, большевик, воспользовался предательской откровенностью Архета и лишил знатного и могучего Толевая силы, сделал его едва ли не нищим.
Гневен и мудр аллах, но, увы, не всегда нисходит до просьб своих правоверных. Поэтому до проклятого большой-бека сейчас Толебаю не достать: у Абдуллаева оружие, власть. Его и мануйловских большой-беков охраняет отряд красных конников комиссара Макарова, посланного сюда из Славгорода еще более высоким комиссаром Кузьминым. Но будет время, и оно уже близко, когда им всем на главной площади Славгорода сделают «секим башка». А снять одним взмахом сабли башку Абдуллаева он, Толебай, попробует сам.
Но это, увы, еще не сейчас. А пока за свое предательство должен ответить живой мертвец, доносчик Архет…
– Как ты посмел нарушить священную клятву, данную мне на Коране, что будешь предан мне до могилы, как верный раб мой? – свирепо спросил Толебай Архета, вернувшегося в аул после отгона его табуна в уезд. – Как сын моего отца, я теперь главный в нашем роду, старейшина племени. А ты? Ты пыль с моего ичига! Грязная тварь, недостойная пищи, которую я тратил на тебя столько лет! Ответь, ничтожество всех ничтожеств, ты клал свою предательскую руку на Коран и клялся в верности мне до смерти?
– Да, хозяин.
– Ты эту клятву нарушил. Почему? Молчишь? Но аллах видит все. И он тебя покарает. Твое место в геенне огненной! И я сам отправлю тебя туда по воле аллаха! Изменившим аллаху – пощады нет! Их место в геенне, где каждому будут заклеймлены лбы, бока и хребты. А тебе, по воле аллаха, – свирепо сказал Толебай, – я это сделаю сам, чтобы в геенне огненной знали, как велико твое преступление!
Суд над Архетом происходил в ясное, жаркое утро на берегу озера Коянсу, перед белой юртой Толебая. Судил его сам Толебай, а речь обвинителя произнес мулла Альжапар.
– Да поразит тебя Азраил, клятвопреступник! – сказал мулла в конце своей длинной речи. – И да поразит он за предательство каждого, кто забудет о священном долге быть вечно преданным аллаху и старшему в роде своем!
Раскаленной в пламени костра железной тамгой, родовым знаком Алтынбаевых, которым метили скот и коней, Толебай сам лично выжег тавро на груди и спине зашедшегося в крике, а затем потерявшего сознание Архета.
Возможно, что в своей необузданной ярости он здесь же и убил бы его, если бы со стороны соседнего аула Ит-Басар не появился на своем мохнатом, ленивом лошаке оленгчи, то есть рифмоплет и певец Хаким.
Появление старенького, но не сдающегося старости, бездомного и беспечного острослова было вообще едва ли не единственным развлечением не только жителей Ченгарака, но и других аулов округи. При этом Хаким всегда появлялся сидя на стареньком, как и сам, но тоже не унывающем, несмотря на холод и голод, мерине, прозванном в шутку Тшкан-аксакалом, то есть Старейшиной-мышью. Из года в год одетый в один и тот же рваный бешмет, с вытертым малахаем или войлочной шапочкой на круглой седой голове, он располагался в чьей– нибудь черной юрте, долго пил чай или араку – смотря по тому, что дадут, балагурил, рассказывал о новостях, услышанных по пути из аула в аул, потом брал в руки кобыз со смычком из конского волоса и начинал одну за другой петь озорные, похожие на притчи, шестистишия.
Но ценили его не только за эти веселые песни. Он был и великий уй-ге, то есть мастер по уям, юртам. Никто в округе красивее и лучше не мог вытесать чапыга– том, острым топориком, или орудовать пилкой и буравчиком при выделке деревянного остова юрты – боковых решеток из крепких планок, деревянного круга с дугами и рамы для двери. А для каждой юрты надо выточить и без ошибок подогнать одну к другой не меньше, чем сто пятьдесят или двести деталей. Старый уй-ге Хаким это делал почти с упоением, как поэт. Остов юрты получался красивым, как бы воздушным, но и устойчивым, крепким. Покрытая затем кусками толстой кошмы разной формы и назначения, такая юрта не только радовала глаз, но и спасала зимой от буранов, летом от сухого палящего зноя…
Не удивительно, что появление веселого и почтенного гостя нарушило придуманный Толебаем порядок суда над Архетом.
Насильно согнанные сюда для устрашения пастухи, батраки-джетаки и жители аула, только что охваченные любопытством и ужасом при виде извивавшегося, а потом упавшего наземь Архета, при появлении старого оленгчи Хакима сразу же, словно по сговору, вскочили.
Толебай выругался, а мулла, у которого с острым на язык простонародным рассказчиком и певцом тоже не было дружбы, со злым ворчанием захлопнул Коран…
Петь свои шутливые вирши Хаким в этот день не стал.
Когда Толебай и мулла ушли, он сбегал к озеру за водой, привел несчастного Архета в чувство, густо обмазал затавренные места бараньим салом, которое тайно принесла ему одна из сердобольных женщин, помог стонущему парню взобраться на своего Тшкан-аксакала и потихоньку повез его к русским, в село Мануйлово, где жил знакомый фельдшер Иван Семеныч.
5
Председателем Мануйловского волсовета на последней сходке был избран Яков Лубков, сосед Савелия Бегунка, человек нерешительный, робкий, привыкший по бедности своей больше помалкивать да вздыхать, чем руководить и требовать.
Еще в предоктябрьские годы он влез в долги к кулаку Мартемьяну Износкову. Эти долги как бы сами собой списались за годы Советской власти, – по крайней мере, Износков, хотя и поглядывал на Якова со значением, будто напоминая об этих долгах, но прямо не заговаривал, а совестливый Яков Лубков при встречах и разговорах с Износковым всякий раз внутренне съеживался, терялся. Его не отпускала тайная мысль об этих долгах. Кажется, взял бы все, что осталось в избе, да и отдал… Поэтому его особенно поразило, когда на той прошлогодней сходке на должность председателя выдвинул его не кто иной, как сам мануйловский богатей.
– Пущай послужит обществу. Ноне время такое. Постреляли друг дружку, пожгли, погуляли – хватит! Пора жить и в мире, – внушительно говорил Мартемьян. – Чай, почти все тут свои, орловские. Так что зла в башке пора не держать, кто там ни будь, сытно аль нет живет. Со зла другому кому не завидовать. Живешь, как есть, и живи. Соседа – не трожь. А Яков Лубков – он к людям с душой. Совесть имеет. Зла на людей не держит. А про добро там чье – помнит, – ввернул Износков, поглядев на вспотевшего от похвал Лубкова. – Потому я гражданина Лубкова и предлагаю: лучше – чего уж?
Износков произнес эту добрую речь тщательно выработанным за прошедший после колчаковщины год надтреснуто-постным голосом уставшего от тягот военных лет да еще безвинно пострадавшего от них человека. Говорил с придыханием, не спеша, лишь изредка бросая на мужиков острый взгляд всех видящего, все примечающего правого глаза.
Левый глаз ему выбил плетью колчаковский казачий урядник во время допроса – прямо на улице, на виду у согнанных на площадь мануйловцев, за то, что младший сын Мартемьяна, шестнадцатилетний Петр, по годам еще недоросток, а телом совсем уже крепкий, плечистый парень с кудрявым чубом над смуглым лбом, убил командира сотни, занявшей Мануйлово после неравного боя с местными партизанами, а потом застрелил и двух казаков, пытавшихся обезоружить его.
Убил их за то, что сотнику приглянулась дочь соседа Износкова Татьяна Белаш, дроля влюбленного в нее Петра. Гогочущие белоказаки затащили ее в парадную залу, где ужинал пьяный сотник, тот надругался над девушкой, после чего казаки, утащили ее к себе.
Парень узнал об этом лишь рано утром от нянечки Моти, заменявшей вдовому Мартемьяну жену, молча прошел в отгороженную от залы ситцевой занавеской спаленку и выпустил из нагана две пули в сердце сладко храпевшего, да так и не успевшего проснуться насильника.
Петра зарубили саблями на крыльце. Едва не поставили к стенке и Мартемьяна. И если бы не внезапное появление верхового с панической вестью о том, что на виду села показались большие силы красных, Износков лежал бы теперь в земле.
После гибели сына он как-то сник и замкнулся. Прежняя приверженность к белым «спасителям Расеи» в нем пошатнулась. Но и ненависть к «большакам» не угасла. И когда Колчак был казнен, а остатки колчаковцев ушли в подполье, рассеялись по Сибири, как цепкие семена ковыля, чтобы укорениться в здешней земле, – он предпочел на время совсем отстраниться от всего, что было за толстыми стенами его дома.
– Посидим, поглядим, – сказал он себе.
Зато вместо «пострадавшего от душегубов дядюшки» общественными делами в селе стал заниматься неожиданно приехавший откуда-то в Мануйлово его племянник Терентий Щеглов. Говорили, что вроде бы никакой сеструхи или брата у Износкова нет и не было.
– Отколь же племянник?
– Может, какой приблудный? Ездил Износков небось куда по торговым делам, ну и сработал «племянничка»…
– Это возможно. Такое у нас бывает…
Как бы то ни было, но Терентий сразу же поселился в доме осиротевшего Мартемьяна, был вскоре доизбран не то секретарем, не то заместителем полуграмотного, нерешительного Якова Лубкова. И как ни дивились ма– нуйловцы, как ни ворчали в разговорах между собой и на сходках, племянник Износкова с каждым днем становился в селе все незаменимее и сильнее. А после приезда губернского «полномочного» Суконцева и совсем уж «в крепость вошел»…
Просмотрев составленные Лубковым под диктовку Терентия бумаги с перечислением имеющегося у каждого из сельчан количества едоков, скота, машин, земельных угодий, а также оставленного в прошлые годы на полях необмолоченного хлеба и полностью доверившись этим бумагам, Суконцев велел собрать мужиков на общую сходку.
– Куда годится?! – с первых же слов почти с крика начал он свою речь. – И как назвать, – потрясая бумагами, продолжал он с явной угрозой, – если не саботажем решения высших инстанций?! Послухайте вот, кто произвел и кто меньше выполнил по разверстке, если не эти самые, лень у которых прежде их родилась? Этих – полностью оглашаю…
Самыми злостными недодатчиками, укрывателями и лентяями были названы прежде всего неимущие из сельчан – Агафон Грачев, Федор Учайкин, Иван Братищев, Семен Недоручко, Тихон Шабров, а самым производительным и надежным для государства – Износков.
– Отколь же нам было взять? – попытался возражать Грачев. – Мне с детьвой да Палахой еле до новогодья хватило. А ноне и вовсе обголодались! Износкову хорошо: на него работает полсела! Тихон – в долгах, Федор – в долгах, я у него – в долгу. Земля, считай, называется только наша, а так и она – его!
Но Суконцев немедленно пресек «недостоверные показания».
– Разговаривать много я тут не дам и не буду! – сказал он, как обрубил, не позволив высказаться толком никому из возбужденно галдевших мужиков. – Есть сверху приказ полностью все исполнить, и как вы тут ни мурыжьтесь, я вас заставлю! Всех! Один, по прозвищу Бегунок, сбежал в неизвестном направлении от исполнения долга перед обществом. Но мы и его найдем. Спросим. С каждого спросим! – погрозив кулаком стоявшей перед ним толпе, с особым значением подчеркнул Суконцев. – Никому побег не поможет! Никто от долгов у нас не сбежит. Это уж есть как есть! Кто будет против – заарестую. Прямо вот с этими, – он указал на растерянно переступавших с ноги на ногу возле крыльца вол– совета красноармейцев. – В тот же день отправлю в уезд. А там целоваться с вами не будут. Что же касается до Износкова… Тут всем известно, как человек пострадал. За свободу от белых казаков глаза лишился. Конечно, достаток у него, как хозяина, есть… а сколь в семье едоков? Поболе, чем у любого!
– Может, его полюбовница Мотька или Терентий да Кузька Кривой с Михайкой – его семейные едоки? – снова не выдержал Агафон. – Тогда уж и нас там считай. Рази только едим отдельно, в своих, значит, избах, а так – все у него под ж… находимся. Всех подмял. И не наш, а его, Износкова, хлеб с летошних пор в кладях остался. А отчего он, хлеб тот, в поле оставлен, спроси? Оттого, что Мартемьян не стал его убирать для Советской власти: пусть, мол, гниет! Вот оно в чем. У нас, гражданин уполномоченный, гнить было нечему и сдавать было нечего, хошь приди и сам погляди. А потому ты не с нас, а прежде с него, с Мартемьяна, спрашивай..
– Спросим! Будет с ним разговор. Однако надо и то учесть, что старый да вдовый. Со всем управиться – где ему?
– Выходит, если считать по земле, то ему надо много, раз полно едоков, а как отдать государству, то он, бедняга, один не управится? Оттого, мол, в поле хлеб и оставил? Так понимать?
Суконцев со злостью крикнул:
– Хватит! Орателев нам не надо! Надо выполнить тот приказ – и дело с концом! Поэтому перво-наперво объявляю: завтра с утра все как один по этому списку, – он несколько раз помахал бумажкой, – почнут убирать на полях тот хлеб, потом возить оттуда сюды, к приемному пункту. На этом все…
В ту же ночь недалеко от Мануйлова кто-то спалил несколько больших скирд с прошлогодним хлебом.
Сукондев обвинил в поджоге Агафона Грачева и, продержав «поджигателя» сутки под арестом, на следующее утро отправил под конвоем одного из красноармейцев в уезд.
– Я и сам поеду, без твоего конвоя! – угрюмо сказал Грачев, когда его вывели из арестантского помещения на улицу и Суконцев сам грубо столкнул «преступника» в возок.
– Там обязательно разберутся! – насмешливо ответил Суконцев. – За поджоги помилуют, жди…
– Нет, мужики, что же это?..
– Да как же?..
– Быть того не могеть, чтобы наш Агафон! – говорили в толпе сбежавшихся к волостному правлению сельчан. – Не мог он тот хлеб поджечь…
Неожиданно для Суконцева из толпы шагнул Иван Братищев:
– Я тоже с Грачевым поеду, раз так! Не жег Агафон!
– И я! – крикнул Семен Недоручко.
– И я! Давай, мужики, всем миром…
– Бунтовать? – свирепо взвизгнул Суконцев. – Ну– ну, давайте! Посмотрим, как оно выйдет! И ты, похоже, участник? – ткнул он наганом в Братищева. – И ты, Недоручко? Сейчас пошлю и на вас бумагу…
Едва успели арестованные выехать за околицу, как с другой стороны главной мануйловской улицы, которая длинной, ровной дугой огибала эту часть озера Коянсу, в село, вышвыривая из-под копыт ошметки сырой земли, на рысях въехал отряд всадников в сорок сабель. Кони были в поту, красноармейцы угрюмы и молчаливы.
– Ну, как тут у вас? – видно, все еще занятый своими заботами в неудачно начавшееся для него утро, без особого интереса спросил Суконцева командир полусотни Макаров – рябой, усатый крепыш со сдвинутой на правое ухо старой армейской шапкой. – Порядок?
– Какой там порядок! – пожаловался Суконцев, еще не зная, как держать себя с этим явно раздраженным чем-то, впервые при нем появившемся в Мануйлове крепышом, который, похоже, какой-то местный, может быть, из уезда, бывал здесь в селе не раз.