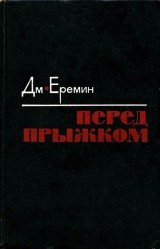
Текст книги "Перед прыжком (Роман)"
Автор книги: Дмитрий Еремин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
– Погоди, дай послушать… Хм… Одноглазый ваш побежал докладывать, а его молодцы, по-моему, явно заняты спешной передислокацией. При этом, конечно, секретные силы будут отведены в резерв. Попрячутся по углам. Так что, ребята, держись! Смотрите во все глаза. Хотят нам показать, что здесь все в порядочке, полная святость!..
Миша опять нетерпеливо оглядел ворота:
– Да-a, что-то не очень торопится служитель божий.
Монах и в самом деле не торопился. Прошло еще пять минут, еще пять. Потом – полчаса. И только после новой серии сильных ударов каблуками по дубовым плахам раздался наконец знакомый бас:
– Чего зря стучите? Не открывал, значит, не было сроку. А срок пришел, и открою…
Дверца открылась. Страж выглянул наружу, крякнул. Потом сдвинул наползший на ладонь широкий рукав, покопался не то в кармане, не то за пазухой, со злостью сказал:
– Нате ваш мандат, ироды. Подписал настоятель насчет подвод. И больше не приходите. А этих вот, – глазами он указал на Антошку с Филькой, – если поймаю, ухи совсем оборву!
– Руки коротки! – крикнул Филька.
– Не коротки. Я достану.
– Достань пупырь у козла, черт одноглазый…
Калитка вдруг скрипнула и открылась. Филька по-заячьи отскочил от нее, но поскользнулся, упал, а когда так же стремительно, как и упал, поднялся, то раскрыл от удивления рот: со стороны правого и левого углов стены к воротам с угрожающими воплями двигались темные кучки людей…
3
Били их долго, хотя беспорядочно и несильно.
Били старухи и старики. Больше – старухи. Мужиков почти не было в их толпе. Только вначале, сгоряча, двое– трое из них дали по хорошей затрещине тем из ребят, до которых смогли дотянуться через костлявые плечи старух, разъяренных нашествием нехристей на святое место. При этом один из мужиков сразу же угодил кулаком по лицу вопящего от злости и страха Фильки, и у того под здоровым глазом, симметрично тому синяку, который Филька получил на другом глазу во время схватки в Коломне со «спекулягой», сразу вспух багровый натек.
Бить насмерть не давал, отговаривал вовремя подоспевший из своих Бугров Филькин зять Агафон Гусев.
– Опомнитесь, мужики! Одумайтесь! – суетливо отталкивал и хватал он односельчан за плечи и руки. – Не берите грех на душу! Кто они, те ребята? Минька Востриков, хоть возьми… секретарь исполкому! А Филька мой и того: сродственник! Эно, какой синячище ему ты, Макар, навесил… Сродственник, говорю! За это, за самосуд, милиция спросит! Да и чего они сделали, ты скажи? Какое тут надруганье, коли в монастырь за стену-то не взошли? Стояли тут у ворот – вот те и все надруганье! Ополоумели бабы, а вы с чего? Давай, Митрофан, отходи. И ты, Микита… ну-ну, давай!
Мужики отошли. Вскоре и старики, которые послабее, подались к воротам. А одетые в черное, растрепанные, трясущиеся от злости старухи так и шипели, так и наскакивали на ребят, норовя оцарапать, вывернуть ухо, вытащить ногтем глаз.
Шапку с Антошки давно уже сбили. Он лишь изредка угадывал ее мягкий комочек под сапогами, напряженно топчась в толпе свирепых старух. Его круглое мальчишеское лицо пылало, похожая на облитый солнцем спелый подсолнух светловолосая голова так отчетливо выделялась среди суетливой черной толпы, что именно к ней чаще всего тянулись когтистые пальцы старух.
Отбиваясь от них, Антошка только и видел перед собой нацеленные в лицо когтистые пальцы, клыкастые или беззубые рты, острые ведьмины подбородки, белые космы, вылезающие из-под черных платков, да выпученные глаза «мироносиц», похожих на злых ворон, слышал их прерывистое дыхание, увертывался от плевков.
В одну из таких противных минут, стараясь ловчей увернуться от нацеленного в глаз ногтя, он неожиданно для себя поскользнулся. Но тут же вскочил на ноги, оттолкнул плечом приставшую как оса, готовую насмерть ужалить старуху, – и вдруг зацепился взглядом за мелькнувшие над ее головой ворота.
Не за ворота целиком, а за широко распахнутую калитку. И при этом мгновенно отметил мясистое лицо злорадно ухмыляющегося Одноглазого, а рядом с ним… рядом с ним – высокого незнакомого человека, выражение лица которого почему-то заставило парня вздрогнуть: эти оловянно-серые, бешеные глаза были нацелены прямо на Антошку как дула с уже летящими из них пулями черных зрачков…
Человек был одет как монах – в черное. На голове – камилавка. Но это был не монах.
Вновь поскользнувшись от сильного толчка и вывертываясь, чтобы не упасть, Антошка успел подумать: «Беляк!»
По-военному подтянутый, с небольшой округлой бородкой на сухощавом бледном лице, странный человек не лез в толпу. Никого не бил. Не кричал. Брезгливо отстраняясь от суетливых старух, каждая из которых старалась ближе протиснуться к схваченным наконец-то «безбожным комиссарам» и хотя бы ущипнуть костлявыми пальцами, – он стоял у калитки молча. Но в светлых глазах беляка, чуть навыкате, было столько неутоленной ненависти к избиваемым, что именно его лицо сразу же поразило Антошку.
Это лицо он видел теперь все чаще, когда удавалось уклониться от ударов или щипков и снова крепко встать на ноги. Перед ним почти вплотную мелькали искаженные злостью лица крючконосых, седых «мироносных дев» и красные, бородатые, со съехавшими набок или на затылки лохматыми шапками двух-трех наиболее яростных стариков.
Но не они, а именно этот беляк как-то сам собою выделился среди других. И когда кто-нибудь из бивших с хриплым, почти сладострастным придыханием наносил особо сильный удар, темные стрелки бровей на бледном лице чужака резко вздергивались к надвинутой на лоб камилавке, губы под небольшими усами вдруг искривлялись в довольной усмешке. Секунду спустя она пропадала, скованное ненавистью лицо становилось опять напряженным, исполненным ожидания, и Антошка все определеннее понимал, чего он ждет, этот монах-беляк: он ждет, когда наконец не только старухи и старики, но и возбужденно галдящие, спорящие с Агафоном Гусевым, вот-вот готовые опять ввязаться в драку мужики свалят на землю, затопчут насмерть, прикончат всех четверых…
Видимо, об этом же думал и Миша. И когда уже не оставалось сил отбиваться, когда показалось, что и в самом деле вот-вот свалят их под ноги и затопчут, Востриков вдруг натужливо, угрожающе вскрикнул, – Антошка не разобрал, что именно, – вырвал из кармана наган и выстрелил в небо.
Толпа старух отшатнулась.
Не размышляя, движимый лишь давно скопившимся желанием вырваться и бежать, Антошка низко пригнулся, боднул головой двух-трех из ближних старух, сунулся между ними под ноги. И пока те, скорее удивленные, чем напуганные выстрелом, растерянно топтались в своем вороньем кругу, Антошка на четвереньках выполз из их толпы наружу, вскочил на ноги – и, к своему удивлению, оказался как раз возле ворот.
Но больше всего поразило его, что не было здесь, у ворот, ни «монаха», ни Одноглазого: оба исчезли. Антошка успел только увидеть заросшее овечьей шерстью носатое лицо ключаря – и тут же калитка с резким хрустом захлопнулась. Даже сквозь выкрики и шипение заморившихся старух был слышен этот кладбищенский хруст.
А оттуда, где стояла деревенька Бугры, донесся еще один звук: тоже звук выстрела. Он был негромким, но ошибиться было нельзя: стреляли.
Потом он услышал тревожные крики. И понял: свои. Значит, правильно говорил Миша Востриков, что в случае чего товарищ Дылев пришлет ребят на выручку. Вот они и спешат…
…Так это было в монастыре. А несколько дней спустя, вернувшись домой из больницы, куда он относил обед для отца, Антошка, пораженный, застал нежданного гостя: его брат Константин угощал обедом не кого– нибудь из знакомых, а того самого «монаха», который следил злыми, ненавидящими глазами за их избиением у ворот монастыря.
В том, что это тот самый чужак, усомниться было нельзя. Правда, сейчас он был чисто выбрит, без бородки, с едва заметными усиками, в не очень ладно сидящей на нем обычной одежде среднего горожанина.
Но глаза…
Теми же нацеленными как дула глазами глянул гость на парня и теперь – после секундного замешательства. Именно эта секунда – взгляд на Антона, мгновенный вопрошающий переход на равнодушно отнесшегося к приходу брата Константина, и сразу же как бы заинтересованный взгляд в тарелку со щами, – эта длинная и стремительная секунда окончательно показала: «Он!»
– Чего запнулся? Входи, – грубовато заметил Константин, приняв задержку брата в дверях за смущение при виде незнакомого человека. – В дверь дует, закрой…
– Садись и ты, сынок, – выглянула из кухоньки мать. – Щи еще совсем горячие.
Антошка попятился, прикрыл за собой дверь и затих в сенях.
«Как же так? Почему с Константином? Зачем? И побритый. Значит, сбежал из монастыря? Может, только сегодня? Поэтому Константин его и кормит. Пожрет, а потом куда? И почему – Константин?..»
То, что это «тот самый», само собой окончательно закрепилось. Теперь он, этот беляк, сидит в их доме запросто, брезгливо хлебает кислые щи из единственной в семье хорошей тарелки. Наклоняет тарелку не к себе, как делают дома все, а по-особому, от себя. Потом, по-барски отогнув в сторону холеный мизинец, подносит оловянную солдатскую ложку отца к розовым, красивым губам. И подносит тоже по-своему: не острием, а боком…
Чужак! Из господ! По всему – офицер! Тот самый беляк! По напряженному и одновременно начальственному взгляду серо-оловянных глаз, по брезгливой сдержанности во время еды, по этим «благодарю» и «не утруждайтесь», с которыми он отнесся к мамане, поставившей соль на стол… ну по всему – офицер, беляк. Тут ошибки быть просто не может. Надо скорее к товарищу Дылеву. Пусть он придет, проверит…
…Не только Антошка, но и Платон с Веритеевым не могли знать всех из тысячи с лишним работающих на заводе. Не знали они и о том, какие особые поручения и полномочия, не относящиеся к заводу, были доверены хозяевами господину Гартхену, главному администратору, а фактически второму негласному директору завода, сумевшему установить за годы жизни в России многообразные связи в иностранных представительствах и консульствах, в советских учреждениях и в частных домах Москвы, на предприятиях юга и востока России, ранее принадлежавших заводчикам-иностранцам. Об этих особых связях больше всех знал лишь ближайший помощник мистера Гартхена, некий Остап Верхайло, человек с мясистым лицом богатого прасола из донецкого Причерноморья. Но Верхайло был молчалив и скользок, как рыба.
Тем больше польстило Константину Головину, когда именно он, этот странный Верхайло, то внезапно исчезающий куда-то из поселка, то так же внезапно возвращающийся на завод, – когда именно этот таинственный человек, доверенное лицо второго после Круминга начальника на заводе, вдруг попросил об услуге.
– Познакомьтесь, пожалуйста, – сказал он, пригласив Константина в кабинет Гартхена, когда тот куда-то вышел («Не специально ли для этого случая?» – сообразил Константин).
И представил Головину скромно одетого незнакомца с оловянно-светлыми глазами и черными усиками над плотно сжатыми тонкими губами:
– Господин… простите, гражданин Теплов, наш новый сотрудник. Приказ о его назначении в штаты завода господином Гартхеном уже подписан…
Константин и незнакомец пожали друг другу руки.
– Но вот беда, – продолжал Верхайло. – Вчера у Данилы Андриановича, – он кивнул в сторону Теплова, – какой-то ворюга вытащил все документы. Увы, теперь такое в порядке вещей! А остаться в наше время без документов, как вы понимаете, невозможно. Что делать? К счастью, я вспомнил, что вы, Константин Платонович, и ваша семья – люди в поселке уважаемые, известные. Думаю, что вам не составит труда оказать любезность господину… простите, привычка! Данилу Андриановичу, конечно… пойти с ним в этот, как его? – сельсовет и выправить, как теперь говорят, необходимую справку… Ну, вид на жительство здесь, в заводском дворе. Мистер Гартхен поручил мне обратиться к вам лично…
Константин оглядел незнакомца.
Подтянут. Молчалив. Явно интеллигентен. Возможно даже, из «бывших». Ну и что? При новой экономической политике, утвержденной съездом, будут даже заводы и шахты в концессии сдавать, а тут какой-то из неудачников, «бывших»… подумаешь, страсть господня! И главное, просит о нем не кто-нибудь, а сам мистер Гартхен. Не пойти ему навстречу? Глупо, чистейшее донкихотство! Что я теперь значу в жалкой должности экспедитора, на побегушках в отделе снабжения и сбыта?..
Константин на секунду представил себе то в общем однообразное, малопочетное дело, которым он ежедневно занимался в заводской конторе.
Каждое утро, как можно раньше, надо было собрать накладные центрального склада готовой продукции, дающие в целом наглядную картину того, что из сработанного вчера было отгружено в Москву по заказу советских хозяйственных органов. Потом выписать на основе этих накладных денежные счета в адрес заказчика, дать их начальству на подпись. Затем переслать, а чаще всего лично отвезти и сдать эти счета в банк на инкассо. Наконец, проследить за своевременным получением денежных документов адресатами и за ходом всех остальных операций между заказчиком и заводом.
Делал он это без интереса, хотя и быстро, в том режиме энергичной деловитости, которая была принята на заводе американцев.
Когда подсчеты, перепроверки, составление отчетов подходили к концу и надо было идти к главному бухгалтеру на подпись, а затем и к коммерческому директору с ежеутренней информацией, он позволял себе нехитрое, ставшее уже привычным в его положении недоучки, решившего любым путем втереться в среду «избранных», шутовское развлечение. Хотелось показать, что все у него, Константина Головина, на работе и в жизни идет отлично. Исключили из партии? Изгнали из завкома? Переживем! Был и остался весельчаком-остроумцем. Не в его правилах унывать, подчиняться ударам судьбы. Пусть унывают другие, а его девиз – «Сегодня ты, а завтра я. Так полно же грустить, друзья! Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу…»
Поэтому каждое утро, собрав необходимые сводки, он появлялся в главной бухгалтерии с видом веселого циркача. Держа в левой руке пачку счетов, развернутых пышным веером, как это всегда делают шикарные дамы в иностранных кинокартинах, а правой размахивая в такт театрально крадущимся шагам, едва переступив порог длинной рабочей комнаты счетоводов и бухгалтеров, он тоненько вскрикивал:
– Вуаля! – и останавливался в пародийной позе примы-балерины.
К такому его появлению здесь постепенно уже привыкли, ждали его, заранее улыбаясь тем глупым, дурацким ужимкам и шуткам, которых у него было в запасе множество и которые худо ли, хорошо ли, а отвлекали устающих людей на несколько непритязательных, но приятных минут от надоевших счетных костяшек и новинок американской техники – арифмометров.
Шутовски раскланиваясь, приплясывая, Константин шел вдоль столов сотрудников и сотрудниц бухгалтерии, гримасничая и отпуская нехитрые шуточки или негромко напевая фривольную песенку, что-нибудь вроде: «О, дай мне миг блаженства!» с глупым визгливым припевом: «Не дам! Не дам!» Или же просто подсвистывал и приплясывал перед каждым столом.
Так он доходил до плотно прикрытой двери в кабинет главного бухгалтера Петра Петровича Клетского, вдруг с тем же шутовским видом на секунду замирал перед ней, по-собачьи встряхивался, как бы выбивая из шерсти воду после купания, одергивал куцый, поношенный пиджачок и, послав всем на прощание уморительное приветствие ручкой, как бы унизанной перстнями, устремлялся к двери с видом хорошо вымуштрованного лакея, несущего барину на подносе утренний кофе…
С омерзением представив теперь все это, еще раз внимательно поглядев на Теплова, он утвердительно поклонился Верхайло. Изобразить из себя бдительного чекиста и не пойти навстречу мистеру Гартхену? Глупо! Тем более что добыть метрическую справку для этого Теплова ему, Константину Головину, сыну всем известного в поселке большевика, – и верно, плевое дело! Председатель волисполкома Иван Никитич Байков не глядя выдаст по доверию любую!
И в тот же день Константин вместе с Тепловым такую справку получил. Член партии, инвалид войны, однорукий Байков дружески расспросил о здоровье Платона, посочувствовал ему, потом сам написал со слов Константина необходимое Теплову удостоверение и вручил его штабс-капитану Ипполиту Петровичу Терехову, ставшему теперь благодаря Константину Даниилом Андриановичем Тепловым: хороший знакомый семьи Головиных заслуживает доверия…
Чтобы уже окончательно если не сдружиться, то ближе сойтись с Тепловым, Константин прямо из исполкома повел нового знакомого домой – пообедать. Там-то, забежав в обеденный перерыв домой, Антошка и увидел «чужака», бывшего монаха из Николо-Угрешского монастыря, а теперь скромного, воспитанного гражданина, спокойно хлебающего материнские щи из единственной в их доме красивой тарелки…
…Ничего не зная об этих подробностях, Антошка был убежден лишь в одном: в их доме – чужак. Пусть председатель местной ЧК товарищ Дылев – проверит!
Но Дылева, как нарочно, не оказалось на месте, а Миха Востриков, занятый срочными исполкомовскими делами, недоверчиво отмахнулся:
– Показалось тебе. Какой еще там беляк? Колотый да битый – самый сердитый. Да и к чему монаху уходить оттуда? Лучше Угрешской обители нынче и скрыться негде, если нужда. А я, брат, занят – нет сил…
От Михи Антошка пошел в пекарню – за Филькой. Но там готовились к вечерней выпечке. В обеих печах уже развели форсунки. Старший сердито прикрикнул на Фильку: «Куда пошел?» – и тот безнадежно махнул Антошке рукой: «Не могу, мол!» Пришлось ни с чем уйти и оттуда.
Но от намерения разоблачить «беляка» Антошка не отказался. Собрав всю свою боевую решимость, сжав зубы, готовый хоть к драке, он вернулся домой, с вызывающим видом рванул на себя первую дверь, ведущую с улицы в сени, потом широко распахнул тяжелую, утепленную ветошью дверь в дом, на пороге судорожно выдохнул из груди застоявшийся воздух, решительно шагнул из прихожей прямиком к дальней комнате, где до вселения сюда Константина было что-то вроде столовой и где на деревянном самодельном диванчике располагалась Зинка, – и разочарованно, а пожалуй, и с облегчением, остановился: в комнате не было никого. Все чисто, прибрано, вытерто. Даже следов не осталось от беляка…
Из сеней в дверь сунулась Зинка:
– A-а, это ты? А я вожусь во дворе, думаю: кто-то стукнул, а мамка к папке ушла…
– А этот?
– Дядечка с Костькой?
– Ага…
– Те еще раньше ушли. Чего-то заторопились…
Антошка присел на сундук, а Зинка, не придав разговору никакого значения, юркнула обратно в сени. Антошка услышал ее шаги в сенях, потом на лесенке, ведущей в крытый двор, и вдруг почувствовал, что очень устал. Не столько за весь этот день, сколько за те двадцать – тридцать минут, когда бегал к Дылеву, к Михе и к Фильке.
А больше всего, пожалуй, за те последние минуты, когда возвращался домой, всходил на крыльцо и рывком открывал то одну, то другую дверь, чтобы сойтись лицом к лицу с опоганившим их дом беляком…
4
Все остальные дни до возвращения отца из больницы он всячески избегал Константина. Они и раньше не были в дружбе, а теперь в сердце Антошки совсем не осталось ничего, что родственно связывало бы с братом.
Константин был старше его на девять лет. С того времени, как в самом начале мировой войны местное военное присутствие направило его в школу прапорщиков, и до прошлого года, когда он неожиданно приехал сюда «насовсем» и устроился на завод, в контору, – в семье брат не жил. Лишь изредка приезжал из Москвы «взглянуть на стариков» – стройный, смуглокожий, хорошо одетый, совсем не похожий на сына рабочего.
То ли он служил где, то ли нет – Антошка не знал, а матери на такие вопросы Константин всякий раз отвечал шутливыми стишками да поговорками. Отец не спрашивал его вообще ни о чем. Похоже, что не любил. Не вспоминал и не говорил о нем, хотя во время редких приездов тот привозил отцу то трубку, то папиросы – длинные, душистые, как мед. Отец клал подарки сына подальше в ящик стола и продолжал дымить самосадом. Возможно, поэтому Антошка привык думать о брате, как о чужом, без всякого любопытства, даже настороженно.
Причину нелюбви отца к Константину он понял позже. Еще до германской войны, став ловким, красивым парнем, Константин «отбился от рук», как горестно говорила мать, не объясняя, что это значит. Тянулся не к сверстникам из поселка, а к студентам и гимназистам – детям инженеров и мастеров с привилегированного первого заводского двора. При их же помощи он из кузнечного цеха, куда отец устроил было его подручным, вскоре перешел в контору «протирать штаны», стал в компании господских детей, особенно иностранцев, зимой кататься на лыжах и на коньках, летом играть в футбол, ездил все с теми же богатыми друзьями в театры Москвы…
Быть равноправным в такой компании он не мог, поэтому, как в минуту раздражения говорил ему отец, избрал роль господского шута.
Антон был тогда еще мальчиком, но тоже хорошо запомнил несколько шутовских стишков и присказок, которыми забавлял своих друзей Константин, а иногда дома отговаривался ими от упреков отца с матерью. Одни из этих стишков еще можно было понять:
Ругал батя не во время,
Поглядел, а сын-то дремя…
Или:
Что-то нынче икается,
Видно, мамка ругается…
А что означали другие?
Шла Марфуша с ужином,
Думая о суженом.
А что потом произошло,
До нас, к несчастью, не дошло…
Или:
Жена ушедши в гости
К родному зятю Косте,
А я один сижу
Да в потолок гляжу…
Паясничает, отвечает на упреки такими стишками, а на тонких губах и в серых глазах – хитрая, неприязненная и веселенькая ухмылка. О чем она? К чему? Ясно одно: не хочет ссориться с матерью и отцом, но не желает и жить, как они хотят. Тянет его туда, на первый заводской двор…
В начале прошлого года с Константином приезжала из Москвы женщина – высокая, нарядная, с черными тонкими бровями. Разглаживая красивой ладонью со сверкающими перстнями на тонких пальцах мягкую ткань на своей коленке, она ласково, как с ребенком, поговорила с матерью о «печальной нехватке хлеба, необходимых продуктов и вещей» в Москве. Перед отъездом скучливо посидела у окна «столовой», время от времени поглядывая на Константина и как бы понуждая его этим взглядом подняться, наконец, и вернуться в Москву. И когда они вскоре уехали, у всех в доме осталось чувство не то тревожного облегчения, не то обиды.
После этой встречи интерес к брату совсем угас. Его заменило отчуждение.
Тем неприятнее сделалось на душе, когда прошлой осенью в одно из воскресений Константин вдруг приехал в поселок, к отцу, «насовсем». Так сказал он с кривой усмешкой во время короткого, противного разговора: «Семьи не получилось. Поживу пока холостяком…»
Был хмурый день, обедали, когда Константин появился в доме с новеньким, ярко-желтого цвета чемоданом в руках.
– Здравствуй, мать, – сказал он охнувшей от радости матери, аккуратно поставил чемодан в переднем углу «столовой», ставшей потом «его» комнатой. – Похудела ты! – и нежно поцеловал ее в щеку. – Здорово, отец.
Подошел к Антону. Но тот не смог побороть неприязненного равнодушия – отстранился: смуглое лицо Константина, потянувшегося губами для поцелуя, показалось противным.
– Ах да, ты ведь презираешь «телячьи нежности», я и забыл! – сказал Константин, усмехнувшись. – Это не то что мы, грешные. Любим встретиться с родными по старинке. С лобызанием, как подобает…
И издевательски добавил:
Мене милый изменил,
А я ему врезала:
«Чтобы тебя, паразита,
Поездом зарезало!»
Отвернулся, помедлил, будто ожидая, что ему ответит на частушку Антон, и с фальшивой бойкостью, явно прикрывая ею свое беспокойство, сообщил:
– А я насовсем…
Все это вспомнилось теперь Антошке с полной тревожного смысла обнаженной ясностью. Братец и в самом деле чужой. Раньше хоть балагурил и этим как-то сглаживал взаимную отчужденность. А после того, как его исключили из партии, с треском вывели из завкома, озлобился и замкнулся. Если даже и продолжал шутовские выходки, то без прежнего балагурства, а зло, намеками. Только на днях, в ответ на попытку матери уговорить его «покориться и раскаяться», он ни с того ни с сего гнусаво пропел:
Чем плакать безутешно,
Друзья, уже лучше так…
Уж лучше так, конешно,
Заметил Рудзутак…
И это неожиданно взорвало Антошку. Что-то пошлое и обидное было в глупой, бессмысленной песенке, во всей издевательской манере брата. О приезде Ленина и Рудзутака на охоту к директору месяц назад теперь знали все, песенка явно родилась из каких-то злых размышлений брата на этот счет.
– Над кем и над чем смеешься? – выскочив из своей каморки, крикнул Антошка.
– Я? – деланно удивился Константин. – Ни над кем. Просто родился такой экспромт…
– От твоих экспромтов дохлятиной воняет.
– Да? – еще больше удивился брат. – Наверное, у тебя что-то не в порядке с носом. Лечиться надо! – наставительно добавил он. – А то вон даже в невинном стишке тебе мнятся трупные запахи…
Когда отец вернулся из больницы, Антошка сбивчиво, страшно волнуясь, рассказал ему и об этих «экспромтах», и том, как Константин приводил и кормил обедом явного беляка из Угрешского монастыря, где их с Мишей Востриковым избили. Беляк, похоже, теперь подался оттуда куда-то еще – подальше от острых глаз товарища Дылева…
Отец помрачнел, помолчал. А поздно вечером у него с Константином произошел резкий, крутой разговор, закончившийся ссорой.
Антошка и Савелий Бегунок (он все еще жил здесь, в тесной каморке вместе с Антошкой, в надежде рано или поздно попасть в Кремль, побеседовать с Лениным) уже приготовились ко сну, лежали в темноте головами к туманно светлеющему окну и тихонько переговаривались, когда раздраженные голоса спорящих заставили их примолкнуть.
Слышно было каждое слово: в «столовой» говорили впрямую. Было похоже, что Константин после исключения из партии не ждал для себя ничего хорошего, собрался опять уйти из немилого дома, поэтому на упреки отца отвечал то шутовски, то издевательски грубо.
– Чего ты, собственно, хочешь добиться? – сердито спрашивал Платон, кутаясь в старое одеяло. – Чтобы крикуны из «правых» и «левых» определяли политику нашей партии, вели страну по своему куриному разумению? На твоем примере видно, к чему привело бы такое положение. Ленин на съезде показал это ясно!
– Ленин еще не вся партия! – угрюмо бросал Константин.
– Съезд представлял всю партию! А съезд, между прочим, по всем вопросам принял ленинскую позицию подавляющим большинством голосов. И тот, кто считает или считал себя коммунистом, должен знать устав, подчиняться уставу, – значит, выполнять и решения съезда. А то ишь ты, – откашлявшись, Платон сердито тыкал заскорузлым, желтым от махорочного дыма пальцем в Константина: – Съезд для таких, как ты, выходит, что не указ! Вы, видишь ли, сами с усами…
– Да, сами с усами!
Посмеиваясь, пытаясь придать красивому смуглому лицу ставшее привычным шутовское выражение, Константин лихо проводил указательным пальцем по воображаемым усам:
– Сами с усами! Не хуже ваших…
И с нескрываемой злостью спрашивал:
– Сколько нам пели о мировой революции, о мировой коммуне! А где они? Вместо них – отказ от революции. Сползание к госкапитализму. К среднему мужичку. К свободной торговле. К концессиям… Возврат к старому – вот тебе главные «идеи» съезда! Фактически преданы все возвышенные идеалы революции! За что же я буду, как вон хочется мамане, каяться и просить прощения? За нежелание подчиниться торгашам-бюрократам? Нет! Уж лучше жить для себя, как хочется…
– Тебе давно этого хочется.
– Тем более, что теперь я человек беспартийный… чего мне? Живи, как хочу!
– Вот в этом и все твои «идеалы»?
– Не то что твои. Прямо зависть берет: счастливец! Будешь теперь прислуживать крестьянам, торговцам, новым капиталистам… Красота! А может, и сам торговать начнешь?..
– Не думал я, что ты такой уж полный дурак, – после молчания угрюмо отозвался Платон. – Или ты не читал ни выступлений Ленина, ни резолюции съезда? Где ты нашел там отказ от главных задач революции? Есть отступление, да. Временное. Но ради чего?
– Слова это, батя, одни слова. А на деле полное подтверждение того, что наша вшивая, лапотная Расея-матушка не доросла до революции. Яблочко сорвали неспелое, рановато…
– Меньшевистская песенка-то! С их голоса поешь.
– Не с их, а жизнь так показывает. Как ни обзывай, а оглобли-то поворачиваете назад? Назад! Говоришь «временно»… тешь себя басенкой, успокаивай, а видно, что насовсем. При таком-то голоде, при разрухе, где уж «временно»! Рано начали, в том все дело…
– Да-а, – почти с ненавистью протянул Платон. – Далеко ты зашел…
– Не я, а ты и вроде тебя. Установили в партии свою диктатуру, Ленин вами командует, а вы…
– Он не командует, а направляет! Исходит из главной задачи: выбраться из разрухи, наладить хозяйство, поднять производство в городах, хозяйство в деревне!
– Слова! На деле же именем революции связывают на местах руки рабочему классу. Тянут страну назад, к капитализму. К власти все тех же спецов, дипломированных в царских инженерных училищах! Нам, рабочему классу…
Отец стукнул кулаком по столу:
– Это ты-то рабочий класс? Очнись! Кто-кто, а уж я-то хорошо знаю, какой ты «рабочий класс»! Давно тебя, кстати, хотел спросить: по каким таким болезням и кто освободил тебя в свое время от воинской службы в Красной Армии, когда наступали каледины да колчаки? Теперь-то известно, что в Центральной призывной комиссии тогда орудовали меньшевики да эсеры вкупе с бывшим офицерьем. Они многих поосвобождали…
Константин промолчал.
– А какой рабочий класс ты имел в виду, когда выступал с Драченовым против поездки нашего завода в Сибирь? – все прямее напирал отец. – Вокруг какого рабочего класса ты вьешься теперь, пропадая по вечерам на квартирах господ иностранцев на первом заводском дворе?
– Ты что же, следишь за мной?
– Слежу! – возмущенно крикнул отец. – И буду следить! Ты все же мне сын! Сын, я спрашиваю?
Константин усмехнулся:
– В такое сумасшедшее время поди разберись, кто сын, а кто враг…
– Что верно, то верно, – с горечью согласился Платон. – Вон, к примеру, ответь: какого подозрительного господина приводил ты недавно сюда, в наш дом, угощал обедом?
– Не господин, а знакомый.
– Не из белых ли офицеров?
После паузы, выдавшей его растерянность, Константин слишком уж насмешливо спросил:
– Поверил Антошке?
– Поверил! Антошка не то что ты!
– Нашел кому верить: нахальный дикарь, вообразивший себя Шерлоком Холмсом… Лезет везде, дурак дураком!
– Кто дурак, это будет видно. А только нюх у него комсомольский, чего нельзя сказать про тебя.
– А мне этот нюх не очень и нужен, – вновь обретая внешнее спокойствие, отрезал Константин. – Я не собака…








