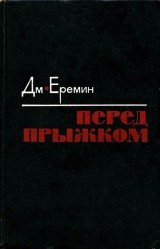
Текст книги "Перед прыжком (Роман)"
Автор книги: Дмитрий Еремин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Отсюда легко будет определить, сколько хлеба и других продуктов можно будет изъять за работу вашего эшелона в данном селении, в каждом уезде. В свою очередь это поможет и сибирякам заранее учесть наилучшие способы и сроки доставки хлеба к железной дороге…
Об этом он сказал уже не столько Веритееву, сколько сосредоточенно слушавшим его остальным участникам совещания.
– Все это архиважно. А, к сожалению, едва ли не самая отвратительная черта нас, россиян, – опять не удержался Владимир Ильич от упрека, – всегда заключалась и заключается до сих пор в отсутствии скрупулезной деловитости, в нежелании и неумении довести задуманное до конца. Начать – мы начнем прекрасно! Ума, воображения и энергии – хоть отбавляй! Но столь же умно и энергично довести начатое до завершения… увы, не всегда!
Его мужественное лицо как-то горестно дернулось, один глаз на секунду закрылся совсем. И тут же легкая усмешка пробежала по твердо сложенным, суховатым губам:
– Знаю об этом по себе. Именно поэтому с юности старался выработать неприятнейшую и жесточайшую привычку самоконтроля: ничего не оставлять без проверки, без неоднократного возвращения к сделанному, Вот и сейчас, – он указал на блокнот, в который во время беседы изредка что-то записывал карандашом. – Не доверяя памяти, я записал основное, к чему нам надо будет вернуться некоторое время спустя. Александр Дмитриевич, я вижу, тоже не понадеялся на одну только память, – он кивнул в сторону Цюрупы, который все время записывал что-то в самодельную тетрадочку. – А вы надеетесь все запомнить?
– Памятью не страдаю, – пробормотал Веритеев смущенно. – Вроде бы раньше не забывалось…
– Запись надежнее нашей памяти. Проверено многократно. Очень рекомендую! И, возвращаясь к вашим делам, советую уже сейчас, до отъезда в Сибирь, самым детальнейшим образом определить: какова «стоимость» квалифицированного и неквалифицированного рабочего по отношению к пуду хлеба и жиров. Отдельно – женщины и подростка. Составьте точнейший поименный список по каждой квалификации, специальности, по возрасту. Очень разумно было бы также иметь дополнительный список едущих повагонно. Так вам проще будет с учетом и распределением на местах.
Веритеев с уважением и завистью поглядел на высокого, худого Цюрупу. Вернее – на его самодельную тетрадочку: «Как же я сам-то не догадался сделать такую? Не прихватил с собой ни листочка, а записать действительно надо бы! Вон как старается, а нарком. И заседание ведет, и записывает, и вопросы каждому задает…»
Узкое, слегка горбоносое лицо Цюрупы, обрамленное густыми седеющими волосами, было бледным, усталым, но нарком вел заседание уверенно и спокойно, во время выступлений ораторов всякий раз что-то записывал в своей аккуратной тетрадочке, и Веритеев, огорченно помаргивая светлыми ресницами, виновато оглянулся на сидевшего сбоку Ленина. Тот молчаливо вырвал из блокнота один из последних листочков, взял со стола карандаш, с легкой усмешкой в прищуренных глазах протянул Веритееву:
– Пожалуйста. Ну-с, так как же вы будете это делать?
– С определением стоимости рабочих?
– Вот именно. С точным определением ее еще здесь, в Москве. Дело это, в общем, нехитрое. Обыкновенная арифметика! Судите сами: общий объем продуктов, цены на эти продукты и характер предстоящих работ в общем известны. Кадры свои вы должны знать поименно. Все остальное – нетрудно…
Задержав проницательный взгляд на напряженно вытянувшемся лице Веритеева, пояснил:
– К примеру, квалифицированный слесарь Иванов должен произвести такой-то ремонт молотилки или косилки в такие-то сроки. В переводе на натуральный продукт эквивалентная стоимость его работы в день составит, скажем, десять фунтов пшеницы и семь фунтов смальца. В месяц столько-то. Из определившегося таким образом количества две трети пойдет государству, треть останется у вас для распределения между всеми работавшими по категориям, а также для тех, кто остался в поселке, трудится на заводе. Вы меня поняли?
– Понял…
– Вот и отлично. И тут уж, батенька, надо помозговать. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. И делайте это со тщанием, иначе нельзя. Дело затеяно архиважное не только в хозяйственном, но и в политическом отношении, а сибирские крестьяне народ деловой. С ними без наиточнейших, вполне конкретных расчетов дело вести нельзя. Работа, конечно, большая, – добавил он, как бы исключая возможность уступок в такого рода делах. – Но произвести ее всенепременнейше нужно! Она – половина успеха. Во-первых, вы еще здесь, до отъезда, будете иметь определенную картину того, чем располагаете и, значит, что придется делать там, на местах. Приедете туда по всеоружии, как и подобает руководителям-коммунистам. Во-вторых, повторяю, мужик – человек практического ума. Он захочет знать точно, кого, что именно и за какую цену получит от вас, чтобы не прогадать, не оказаться обманутым. Ясность, еще раз ясность и снова ясность – главное в этом деле. Ну вот… желаю успеха.
Веритеев уже решил, что разговор закончен, сейчас Цюрупа объявит о закрытии заседания, когда Владимир Ильич вдруг снова остановил его:
– А, кстати, как вы организуете самую поездку эшелона? Я имею в виду практическое руководство тысячью с лишним ваших рабочих в пути. Ведь ехать туда, учитывая не только солидное расстояние, но и из рук вон скверное положение нашего транспорта, придется не день и не два. И даже не две недели…
Об этом Веритеев уже советовался со знающими людьми, поэтому вполне уверенно сказал:
– Ну как? Обыкновенно! Состав у нас будет примерно из шестидесяти вагонов, в каждом разместится по двадцать четыре человека, – значит, в каждом вагоне выберем старосту…
– Так-так, – как бы поторопил Владимир Ильич. – Староста в вагоне это, конечно, правильно. Таким образом, каждый вагон станет как бы организованной рабочей ячейкой.
– Вот именно! А все старосты, во главе со мной, и будут руководить людьми в эшелоне.
– А не кажется вам, товарищ Веритеев, что шестьдесят старост это несколько, я бы сказал, рыхлая форма руководства?
– Мы будем регулярно собираться, обсуждать.
– Собираться, конечно, нужно. И обсуждать, как вы говорите, тоже. Но в каком же помещении вы будете собираться в пути? Вагон не каучуковый, верно? А старост шестьдесят человек. Кроме того, кто-то должен их всех оповещать о каждом таком совещании, а само совещание тщательно готовить? И много ли вы сможете провести таких совещаний, скажем, в неделю? Между тем вопросы будут требовать ответов каждый день, каждый час…
– Об этом мы думали. Хотим создать вроде как штаб или коллегию, что ли, в количестве, скажем, пяти-шести человек…
– Хорошо! – одобрил Владимир Ильич. – Такая «штаб-коллегия» сможет не только руководить эшелоном в целом, но и представлять его в партийных и государственных органах власти по пути, а потом и в Сибири. Но и этого мало. – Ленин склонился к блокноту и так же, как перед этим занимался «калькуляцией» обмена «рабочий – машина – хлеб», стал набрасывать карандашом наглядную схему. – Чтоб слаженно руководить эшелоном, необходимо иметь и некую, я бы сказал, фельдъегерскую группу. Сама коллегия будет не в силах, да и не должна одновременно быть вашим курьером. Для этого хорошо бы подобрать пять или десять бойких, надежных молодых рабочих, лучше всего из комсомолии, чтобы они были всегда под рукой…
– Мы и об этом вели разговор! – радуясь тому, что их дела на заводе совпали с советами Ленина, легко подтвердил Веритеев. – У нас такие ребята найдутся: Шустиков, Головин…
– Не сомневаюсь. Теперь представьте себе, что в пути кто-нибудь заболеет. А это при нынешнем положении неизбежно. В Сибири в прошлом году эпидемия одного лишь сыпного тифа захватила около трехсот тысяч человек. – Ленин нахмурился, помолчал. – Это не считая холеры, брюшного тифа и натуральной оспы. И в этом году не лучше. Значит, надо иметь опытного фельдшера, а еще лучше – врача. То есть свою медицинскую часть. А в ее распоряжении изолятор… Ну, пункт первой помощи и нечто вроде буфета, чтобы рабочий смог получить в дороге стакан кипятка, купить кусок хлеба…
– Об этом тоже думали с завбольницей Коршуновым. Постараемся.
– Да уж, пожалуйста!
Некоторое время Ленин молча разглядывал только что набросанный в блокноте чертеж. Потом провел от кружка с надписью «штаб» несколько линий вниз, сделал и там небольшие кружочки.
– Ехать вы будете долго, безтопливными степями. В дороге всякое может случиться. Ну, скажем, что-то испортилось. Поломалось. В пути вы вряд ли где получите необходимую помощь. На местах в этом смысле хоть шаром покати. Еще хуже, чем у нас в Москве. Значит, надо иметь не только свой паровоз со своим машинистом и его сменщиком, но и свою ремонтную бригаду. Скажем, два-три слесаря…
Веритеев молча кивнул головой, старательно копируя набросанную Лениным схему на своем листке: после замечания о необходимости вести точные записи предстоящих дел он теперь старался не пропустить ничего из советов Владимира Ильича.
– И, наконец, было бы очень полезно… вернее, просто необходимо, – заметил в заключение Ленин, – иметь подвижную, хорошо организованную агитбригаду. При ней – небольшую библиотечку с брошюрами, листовками и плакатами. Их вам выдадут, я об этом договорился. Люди в эшелоне разные, многие плохо еще представляют себе, что такое Советская власть и каков политический смысл поездки в Сибирь, не говоря уже об общем положении дел. А кое-кто, полагаю, и недоволен или даже противник Советской власти. Едет он в эшелоне с мыслями об устройстве своих личных дел на манер мешочника-спекулянта… Как вы считаете?
– Есть такие!
– Думаю, что есть. Особенно на таком заводе, как ваш. Вот еще что: драмкружок на заводе есть?
– А как же! Только на днях представляли показательный суд над Советской властью! – похвастался Веритеев.
– И что же? – заинтересовался Ленин.
– Оправдали ее по всем статьям!
– Значит, оправдали? – Владимир Ильич с удовольствием засмеялся, – По всем статьям?
– По всем!
– Гм… ну что же, будем считать, что Советская власть оправдана. А драмкружок в поездке будет очень полезен. Собрать в него надо и тех, кто поет, играет на инструменте, танцует. Подготовить хорошие выступления. Можно и суд. Скажем, над укрывателями хлеба и спекулянтами. Это для сибирских крестьян будет не только наглядная пропаганда и агитация. А хорошее пение или музыка – это и пропаганда хорошего вкуса. Доставить людям удовольствие, разве это не насущнейшая задача таких кружков?..
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Для Веритеева и его помощников по штабу наступили нелегкие, хлопотливые дни.
Кроме составления списков, бесед с людьми, подбора руководителей главных служб эшелона, шло оформление правительственных мандатов и других документов, без которых нечего было и думать о поездке на долгий срок, да еще в Сибирь: на каждом шагу – проверка, в каждой губернии – своя власть, особенно за Уралом и Иртышом.
После семнадцатого года туда из Центра мутными волнами откатились тысячи всякого рода «бывших». И эти «бывшие» не исчезли. Они притихли, ждут подходящего часа. Пакостят, где возможно. Вон, – прикидывал Веритеев, – только что на губернском партийном активе представитель Московской ЧК подробно рассказывал, какие заговоры против Советской власти раскрыты за последние месяцы в Москве, Петрограде, на Юге, на Украине, в Белоруссии и в Сибири. Картина внушительная! И каждый заговор неизменно связан не только с меньшевистско-эсеровским подпольем, но и с зарубежной контрреволюцией. В ответ на это ЦК партии и Совнарком вынесли постановление о необходимости выявить и до конца разоблачить перед лицом народов мира истинных вдохновителей Кронштадтского мятежа, а также обнаружить и захватить архив партии правых эсеров, прямых организаторов большинства бандитских восстаний и мятежей.
В особенности тревожно в Сибири. Недовольно разверсткой «справное» крестьянство. Ненавидят Советы сельские богачи. А по недавней переписи населения в Западной Сибири, к примеру, одних только кулаков с пятью десятками десятин земли на душу – больше полумиллиона. Рабочих же там меньше полутораста тысяч. Сколько же скопилось в Сибири ненавистников нашей власти? И как-то встретят наш эшелон в тамошних деревнях?..
Беспокойно размышляя об этом, Веритеев тем не менее с каждым днем все увереннее занимался организацией эшелона.
Когда окончательно определилось, что едет ровно тысяча сто семьдесят шесть человек и что в каждом вагоне можно разместить в среднем по двадцать четыре человека («По-барски едем. Это тебе не сорок человек и восемь лошадей!»), – главным и неотложным делом стало: найти и подготовить для поездки вагоны и паровоз. Если к сорока девяти «людским» вагонам приплюсовать еще те, которые необходимы для запчастей и машин, паровозной бригады с кондукторами, бюро продовольственного обеспечения во главе с Иваном Амелиным, медицинской части, оркестра, а также агитвагона, – то необходим состав не меньше чем в шестьдесят исправных теплушек.
А к ним – надежный мощный локомотив. Не слабосильная старенькая «овечка», которая и на ровном-то месте еле тянет состав в сорок тысяч пудов да еще должна через каждые двадцать – тридцать верст пополняться топливом и водой. Нужен паровоз, способный тянуть вдвое больше, при этом – расходовать минимум топлива и воды, которых негде взять в сибирских безводных, безлесных просторах.
– Да и на что надеяться эшелону в пути, если сразу за Волгой, а тем более за Уралом, белые, отступая, взрывали вокзалы и водокачки, мосты и депо, сжигали составы и выводили из строя все, что могло быть использовано Советами? – озабоченно прикидывал Веритеев на заседаниях штаба. – Товарищ Ленин правильно говорит: «Надеяться надо прежде всего на самих себя. Ко всему подготовиться загодя, здесь, на месте…»
Нечего было и думать, в частности, о том, чтобы менять паровоз и паровозные бригады в пути. При катастрофическом положении железнодорожного транспорта – на всех дорогах страны не было ни одного хоть в какой-то степени лишнего локомотива – добыть такой локомотив, а затем собственными силами поставить его на колеса – немыслимая задача…
И тут Веритееву повезло.
Боевой заводской отряд, командиром которого он был в декабре 1905 года, входил тогда в головную дружину Московско-Казанской железной дороги. Душой дружины был машинист Ухтомский. На сформированном им специальном поезде дружинники наводили революционный порядок в стокилометровой зоне между Москвой и станциями Голутвин и Гжель. Несколько раз они пытались внезапным налетом захватить и Казанский вокзал. Жили в поезде на казарменном положении, сроднились друг с другом. И у тех, кто после 1905 года остался в живых, эта кровная связь сохранилась навечно. Одним из друзей Веритеева по дружине Ухтомского оказался бывший помощник паровозного машиниста Сергей Никаноров, ставший теперь ответственным работником Наркомпути. Он свел его с заместителем наркома Фоминым, тот в свою очередь открыл «зеленую улицу» для поисков паровоза и пригодных для дальней дороги товарных вагонов.
– Поищите, – устало сказал Веритееву начальник Московской сортировочной станции, внимательно изучив бумагу из наркомата. – На путях у нас столько за эти годы наставлено, что сам черт не разберет. Заниматься подбором товарняка для вашего эшелона у меня некому. Что сами отыщете, то и ваше…
И в то время, как Сергей Никаноров вместе с согласившимся повести эшелон в Сибирь и обратно машинистом Никитиным взяли на себя заботы о паровозе, а дорожники Перовских мастерских – в ударном порядке поставить его на колеса, – трое комсомольцев – Антон Головин, Гриня Шустиков и Родик Цветков, гордые тем, что на все время поездки Веритеев назначил их своими связными, «адъютантами» штаба, – во главе с членом штаба слесарем-сборщиком Фомой Копыловым стали день за днем, как охотники за красным зверем, рыскать по заставленным вагонами запасным путям Сортировочной.
Ребята не меньше недели тщательно осматривали, обстукивали, помечали мелом обшарпанные, замусоренные теплушки, пока не набралось необходимое количество более или менее пригодных. Когда их перегонят в поселок на запасную заводскую ветку, каждая из теплушек будет еще более тщательно проверена, выскоблена, а затем починена – сделана почти заново: жить в них придется не только в пути, но и в безлюдной степи на глухих полустанках, в жару и в холод. Надо все сделать так, чтобы каждая из теплушек стала надежным домом для тех, кто войдет в нее в день отъезда и в ней же потом вернется в родной поселок…
Некоторое время вместе с ребятами поиском вагонов добровольно занимался и Филька Тимохин. После исключения из комсомола за кражу новиковского ремня Веритеев не включил его ни в число «адъютантов» штаба, ни в группу поиска вагонов. Тем не менее парень с видом незаслуженно пострадавшего человека сам в первый же свободный от работы день увязался за друзьями на Сортировочную. Вначале он плелся за ребятами сзади, делая все, чтобы вызвать к себе сочувствие: «Глядите, что вы сделали с человеком, – было написано на его унылом лице. – А еще считается, что друзья. И из– за чего? Из-за какого-то там буржуя… Ремень у него стащил… Ну и что?» Но это не помогало: ребята вместе с усатым Фомой Копыловым были так поглощены поисками теплушек, так самозабвенно рыскали по забитым составами путям, что им было вовсе не до жалости к Фильке. Да и самому «Епиходычу» этой вынужденной унылости хватило ненадолго.
Без особого интереса ныряя вслед за приятелями под разномастные вагоны, он неожиданно наткнулся на нарядный состав из желтых спальных вагонов.
– Господские… ишь ты!
Толкнул от скуки одну из дверей – оказалась незапертой. Вошел в салон – и поразился: вот красота! Не привычные деревянные скамейки, а мягкие диваны, обитые шелковистым узорчато-тканым плюшем.
– Ездили же баре, туды их сюды! – не удержался от брани Филька. – Одно и сказать: буржуи!
Он с любопытством и одновременно не то со злостью на богачей, не то с завистью к ним пощупал сверкающий плюш грязными, как всегда, но цепкими пальцами. Поковырял обшивку в углу черным ногтем. Присел на диван, покачался.
– Мягко-то как! Ну-ну! Богато, сволочи, жили! Жили, да сплыли, – решил он со злым удовлетворением. – Теперь такие вагоны нам ни к чему: рабочий человек, он и в обыкновенных вполне проедет. А этой штукой если обить, например, табуретку или обшить сенник, на котором сплю… вот будет клёво!
Он вновь покорябал пальцем сверкающий плюш. И едва не подпрыгнул от вдруг озарившей мысли:
– Хо! Лучше всего повезти эту штуку в Сибирь! За каждый аршин чалдонки дадут по мешку крупчатки…
До этого дня его все чаще сухотила унылая мысль: с чем ехать в Сибирь? Надежды на новиковский ремень окончательно рухнули в тартарары в тот день, когда строгий Миша Востриков в поисках украденных дров заглянул и к Фильке («проверять надо всех, в том числе и себя!»). Заглянул – и в сенях «застукал» мешок с остатками ремня, а во дворе – дрова, украденные Клавкой.
Дрова отвезли в исполком. Ремень – тоже. И за него – исключили Фильку из комсомола. А кроме ремня, других вещей для обмена в Сибири попросту не осталось: все, что могло сгодиться для этого, давно уплыло на местный базарчик в обмен на хлеб и конскую колбасу.
Единственное, что пока оставалось в запасе, были бабкины крестики. Но Филька лишь позже, уже в пути, узнал их великую цену, а в эти весенние дни, собираясь в дорогу, они показались ему ненужными, хотя и забавными пустяками: ну что они, крестики? Хотя, конечно, может, и пригодятся, все равно зря валялись у бабки Ефимьи в ее сундуке…
К этому сундуку влекло Фильку с детства, и в прошлом не раз после долгих, настойчивых уговоров строгая бабка позволяла ему в добрую минуту заглянуть в заветный сундук. Повернувшись к внуку спиной, задрав тяжелую черную юбку, она неведомо откуда извлекала большой медный ключ, вставляла его в замочную скважину, несколько раз поворачивала и, когда раздавался торжественный звон пружин, поднимала окованную железом крышку.
В сундуке пахло ладаном и какими-то пряными травами – чем-то нездешним, влекущим, исполненным тайны. Потом начиналось неторопливое, тоже по-своему таинственное рассматривание вещей. Кроме бабкиной праздничной одежды, справленной, похоже, еще в молодые годы да так и не изношенной до старости, здесь были ее пожелтевшие от времени венчальные свечи, засохшая пальмовая ветка, привезенная старухой из паломничества «ко гробу господню», несколько крупных деревянных крестиков «из святого ерусалимского кипарисия», затертый кусочек бархата из Николо-Угрешского монастыря от какой-то «святыни, коей цены нет», каменной крепости просвирка величиною с детскую голову и многое в этом роде.
– Сожру хоть просвирку! – решил в тот день вечно голодный Филька, ожесточившись на всех после исключения из комсомола. – Зачем она бабке?
К его удивлению, сундук оказался незапертым. Видно, бабка куда-то заторопилась. А вернее всего, по старческому скудоумию своему, как с ухмылкой подумал Филька, просто забыла запереть свою самую драгоценную вещь. Массивный старинный ключ торчал в скважине открыто.
Заглянув во все углы старенького холодного дома и убедившись, что бабка, похоже, отправилась в церковь, парень открыл сундук. На него привычно пахнуло с детства знакомым волнующим запахом ладана и чего-то еще, что и в детстве, и теперь почему-то волновало и притягивало к себе. Но внюхиваться в эти запахи сейчас у парня не было времени: до возвращения бабки надо найти хоть что-нибудь подходящее для еды. Вначале он аккуратно переложил справа налево бабкины праздничные платки да юбки, сунул руку на самое дно. Осторожно пошарив, нащупал каменный колобок знакомой просвирки, вынул его, понюхал, потом лизнул – и сунул в карман: «Бабка об этой просвирке небось давно уж забыла, искать не станет. А если и хватится – мыши, мол, съели! – подумал он, ухмыльнувшись. – С мышей взятки гладки!»
Больше в этом углу сундука не нащупалось ничего. Тогда он переложил все верхние вещи слева направо и снова сунул руку на дно. Сунул – и удивился:
– Чего это бабка набила железками цельный мешочек? Его, я помню, вроде не было в сундуке, появился недавно! – и вытянул находку наружу.
В бязевом мешочке оказалось ровно сто двадцать четыре медных церковных крестика. Сам еще не зная зачем, Филька сунул их за пазуху и только потом подумал: «Может, и пригодятся? Лучше что-то, чем ничего…»
И вот теперь новый счастливый случай привел его в барский вагон, к сверкающим плюшем диванам. Что крестики по сравнению с этим? Тут истинно ценнейшая вещь! Может, даже лучше, чем тот ремень! За каждый аршин в Сибири дадут по мешку крупчатки. Ух, повезло…
Он нежно погладил золотисто переливающуюся ткань:
– Буржуйская вещь в Сибири будет в цене! И раз всем буржуям крышка, то и всему буржуйскому кончики! Что было ваше, то стало наше! – добавил он с привычным в таких случаях веселым смехом. – Не я, так другие возьмут. Значит, уж лучше я…
Он попробовал оторвать обивку со спинки дивана руками. Не получилось: не поддается. Надо ножиком. Им можно аккуратно располосовать хоть цельный вагон…
В тот же вечер, наскоро съездив в поселок и тут же вернувшись обратно с мешком за пазухой, Филька уже в сумерках, почти на ощупь, вырезал плюш перочинным ножиком с обоих диванов, сунул добычу в мешок и долго петлял по пустынным путям, пока не вышел на дачную платформу Сортиворочной.
На другое утро, решив «по болезни» не идти в пекарню, где заведующий Иван Сергеич следил теперь за пекарями особенно строго, он опять поехал в Сортировочную с твердым намерением – «обработать» дивана четыре: уж очень хороша оказалась штука, когда он дома положил все четыре куска на свою железную койку, а завистливая Кланька – так, дьяволенок, и заегозила, так и заохала при виде редкостной красотищи…
Недалеко от заветного состава парень незаметно отстал от ребят, огляделся.
Нет, никого. Да и кому тут быть, на этом железном кладбище?..
Но едва он нырнул под ближний вагон, чтобы оттуда пробраться к заветным «желтеньким» (так он нежно называл про себя «свои» вагоны), как вдруг оказался лицом к лицу с дорожным охранником. Придерживая перекинутый через плечо ремень старой, наверное даже и не заряженной, берданки, тот грозно крикнул:
– Стой! Кто таков?
– А я-то? – растерянно пробормотал и попятился Филька.
– Чего здесь шуруешь?
– Чего я шурую?
– Мешок для чего?
Охранник решительно напирал на Фильку. Даже сдернул берданку с плеча, явно намереваясь задержать подозрительного парня с воровато бегающими глазами: не этот ли вырезал в особом составе плюшевую обивку?
Нюх на такие дела давно уже выработался у «Епиходыча» собачий. Он без труда сообразил, что к чему, и с простодушным, даже с дурашливым видом обиженно протянул:
– Чего ты, дядя, пристал? Мешок как мешок: может, думаю, где кусок уголька найду? Дома-то, знаешь? Топить печку нечем. Да я тут и не один: четверо нас. Теплушки для эшелона подбираем. По разрешению. Заводской эшелон… слыхал?
– Это который в Сибирь, что ли?
– Ну да. Я вместе с ребятами. Эно они там шастают во главе с Копыловым. А я чуток поотстал… насчет уголька, говорю.
– Нету здесь уголька, – строго сказал охранник. – Без тебя подобрали. А раз со всеми пришел, со всеми там и ходи. Да и какой уголек в темноте? Нечего зря по путям шеманаться…
– Я уж и ухожу…
– И уходи. А то знаешь, как оно с этим теперь? Нарком-то ныне Дзержинский. За порчу железнодорожного имущества воров и бандюг ставим сразу к стенке!
– Ага…
– Ну то-то…
Провожаемый внимательным взглядом охранника, парень деловито заторопился прочь. Потом постоял, сделал вид, будто определяет на слух, где сейчас могут находиться свои ребята, негромко, но так, чтобы охранник услышал, удовлетворенно пробормотал:
– Ага… там они! – и нырнул под вагон.
Дома он тайком от домашних и особенно от пронырливой, жуликоватой сестры спрятал драгоценные куски плюша под свой слежавшийся за годы сенной матрасик, и все остальное время, пока эшелон готовили в путь, его не покидало сознание того, что сам-то он в этот путь собрался, в общем, неплохо. Сиди теперь в теплушечке, посматривай вокруг и не теряйся. На каждой наре, да и во всем составе – только свои. В такой семейке и черт не страшен. Можно ехать хоть прямо в ад, к дьяволу с бабкой ведьмой…
2
Фома Копылов и его «адъютанты» не обратили в тот день внимания на исчезновение Фильки.
Ну – отстал, ну – надоело ему плестись за ними от теплушки к теплушке, взял да вернулся домой. И правильно сделал: управимся без него. Да и некогда заниматься пустым утешением жуликоватого приятеля…
До самого вечера, а потом и еще несколько дней, они продолжали свой повагонный обход путей – осматривали, обстукивали, как придирчивые врачи, каждую более или менее подходящую для дела теплушку, пока в аккуратном списке Фомы не набралось ровно шестьдесят штук.
Неделю спустя их одну за другой стали подгонять в поселок на заводскую ветку. С проломанными боками, крышами и полами, облезлые, грязные, они все дальше выстраивались ржаво-розовой чередой от ворот хозяйственного двора завода к пакгаузам местной железнодорожной станции. А когда заводской гудок извещал округу о конце рабочего дня, сюда прямо из цехов шли с топорами, пилами, рубанками, паяльниками, сверлами, гвоздодерами, стамесками и другим инструментом плотники, слесари, сварщики, поломойки: вагоны приводились в порядок своими силами, безвозмездно, во внеурочное время.
С вечера дотемна не умолкало здесь смачное тюканье топоров, дробил сыроватый воздух перестук молотков, скрипели и бренькали дерево и железо. К тем, кто работал, сюда приходили с вареной картошкой и чаем жены. С помощью и советом заглядывали друзья по цеху. А те из поселка, кому пока нечего было делать, в остаток дня забегали просто побалагурить: здесь, как на ярмарке, с каждым днем становилось все оживленнее и шумнее.
Необходимые для ремонта вагонов материалы отпускал вместе со старшим кладовщиком Бублеевым и штабс-капитан Терехов, называвшийся теперь складским рабочим Тепловым.
Делал он это, в отличие от Бублеева, молча, почти с отрешенным видом ко всему равнодушного человека. Но в душе его все кипело. И в то время, как Бублеев (который несколько раз намекал своему помощнику, что-де вскоре здесь будут крупные перемены) со злостью отпускал по накладным доски и ящики с гвоздями или выкатывал из недр складского сарая сверкающие заграничными этикетками банки с краской и при этом язвительно подковыривал и даже материл рабочих, – в отличие от него Терехов лишь до боли прикусывал белыми зубами тонкие злые губы: вот и пришлось ему, сыну потомственного дворянина, прислуживать красным, вместо того чтобы ставить их к стенке.
«Всех ставить к стенке! – холодея от неутоленной злобы, раздумывал он. – И этого измазанного машинным маслом, пропахнувшего потом усатого слесаря Копылова. И того вон, из волочильного цеха. И этого чистенького деревообделочника, еще даже и не успевшего стряхнуть с ватника опилки, но уже спешащего к тем проклятым вагонам! Всех – одного за другим! Взорвать бы и главные цехи завода – в подарок кокетничающему с красными Крумингу. Одновременно поджечь скотские вагоны, возле которых копошатся и стучат топорами до поздней ночи эти ненавистные, деятельные, веселые, оборванные и голодные люди, продавшиеся большевикам. Вначале уложить здесь этих, потом поехать в Москву и там тоже перестрелять кого надо. Не вышло у Фанни Каплан, может быть, вышло бы у меня. После этого хоть и сам встану к стенке: геройская смерть!..»
Он не мог простить себе постыдной трусости в ту трагическую ночь, когда корпус генерала Звенявского, с ходу отбив у красных одну из казачьих станиц после удачной переброски врангелевской армии через Азов на Кубань, чтобы затем совершить победный бросок на Екатеринодар, внезапно сам оказался атакованным и почти полностью уничтоженным конниками Буденного. А он, штабс-капитан Терехов, адъютант командира корпуса, – спасся. Спасся лишь чудом, благодаря постыднейшей трусости. Спросонья, в одном белье, бросив на милость судьбы своего генерала, он незаметно выскочил из летней пристройки к хате, где спал на открытом воздухе, ткнулся в заросли черешника, потом в сыроватые от росы огородные грядки соседнего база, оттуда переполз через глиняный загат в чьи-то виноградники и уж потом через них – в садик местного батюшки Иоанна, который и спрятал его на своем горище.
До мельчайших подробностей помнил он и тот мучительно-стыдный, воистину крестный путь, который пришлось преодолеть потом из Кубани до Подмосковья с документами якобы возвращающегося домой после разгрома белых красноармейца Теплова. В завшивевшей, провонявшей солдатским потом и кровью шинели, с якобы раненой головой, туго забинтованной грязной тряпкой, среди дымящих махоркой, митингующих на каждой станции красноармейцев, он молча добрался наконец до Москвы. Вернее – до узловой подмосковной станции Люберцы, недалеко от которой, в дачном поселке Малаховка, на берегу живописной речушки, стояло унаследованное еще отцом от деда именье Сиреневка. Здесь он надеялся застать кого-нибудь из родных, связь с которыми оборвалась роковой для России осенью семнадцатого года, когда он был на Юго-Западном фронте: в те времена было не до переписки с родными…








