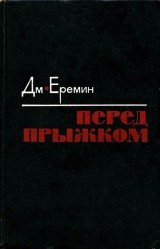
Текст книги "Перед прыжком (Роман)"
Автор книги: Дмитрий Еремин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
– Еще бы! – говорил Антошка. – У его мамаши перчаточки на господских ручках… пенсне на курином носике… сетка на шляпе… барыня!
Иван Амелин в один из дней даже поссорился с Веритеевым, утверждая, что зря тот поручил Оржанову драмкружок. Ничему хорошему ни этот артист, ни «оржановская барыня» народ не научат.
– Что с того, что она показывает нашим парням да девкам, как надо кружиться в танцах? – напористо наседал он на Веритеева, – Что же касаемо до музыки, то в ее ребячьем кружке, считай, наших детишек почти и нет. Все инженеровы да инострановы. Нашим не до музыки с пеньем, а лишь бы сытыми быть!
– Ничего! – упорствовал Веритеев. – Вот съездим с тобой в Сибирь, потом подкормим сибирским хлебом наших ребят, глядишь – и они запоют не хуже, чем инженеровы…
– Жди!
– Надо будет, и подождем, а и рабочих детишек всему научим. Не одним же богатым…
Настороженное, а у Антошки с его друзьями даже почти враждебное отношение к «этим барам» было довольно стойким. Оно вырабатывалось годами, с детства.
Антошке не было четырнадцати лет, когда совершилась Октябрьская революция, но он уже успел не только узнать, но и как бы кожей всей – ощутить несправедливости бытия. Ему, рабочему пареньку, давно было ясно, что кем-то когда-то жизнь людей устроена не по правде, а в интересах господ. Дядя Сергей из-за них не вернулся с войны, лег в землю где-то под Перемышлем. Летом 1917 года на его глазах стражник зарубил саблей рабочего-большевика Титова. А в дни октябрьского переворота схоронили с почестями двух латышей из заводского боевого отряда.
Но главное даже не в этом. Главное в том, что отец, а до отца дед Иван, крепостной крестьянин, а до Ивана – прадед Ефим – все они работали на господ. И самому Антошке пришлось с подростковых лет подниматься чуть свет в полутемном закутке с жесткого тюфячка, что-нибудь сжевать на ходу – и бежать, торопиться, не опоздать бы. Зато посмотришь на дочек и жен инженеров и мастеров или на олухов вроде Эдвина Гартхена и Карла, сына мистера Фишкина, – оба пижона в шляпах, с тросточками в руках, – сердце так и зайдется: жируют! Всю жизнь жируют: им ветер в зад! Не хочешь, а злость возникает.
Нечто похожее испытывали Антошка, его товарищи «адъютанты» и многие из рабочих по отношению к Оржанову, Клетскому, инженеру Свибульскому и другим «господам», ехавшим, главным образом, в вагоне интеллигенции. Но вот пошли однообразные, одинаковые для всех дорожные будни. «Баре» и «голота» спали вместе на нарах. Сообща добывали дровишки. Разжигали рядом костры и возле своих вагонов варили в ведрах щи да супы. Помогали друг другу то в том, то в другом.
Постепенно все стало как-то подравниваться, притираться, перемешиваться. Завелись общие – и серьезные, и веселые – разговоры. Оказались общими песни. И выяснилось, к примеру, что «девки министра финансов» Клетского и сам он – совсем «без форсу», что мужик он начитанный, и уж если начнет о чем толковать – бери уши в руки и слушай. Вполне башковитый мужик!
Оказалось, что и сынок «оржанской барыньки» – парень тоже, считай, хороший, свойский.
«Спектакли, какие показывают у него в Московском театре, знает все наизусть и как зачнет представлять их в лицах, только держись!»
«А уж насчет анекдотов – животики надорвешь!»
«Артист – он и есть артист!..»
В довершение всего – теперь вдруг оказалось, что Оржанов еще и певец.
«Да с таким голосищем!»
«Ревет что наш паровоз, когда машинист Никитин требует открыть семафор!..»
– Чего же вы скрывали? – спросил Веритеев Оржанова, когда тот кончил петь и народ постепенно стал расходиться. – Такой голосище…
Оржанов смущенно пожал могучими плечами и промолчал. Внимание явно льстило ему, успех – несомненный. Но и расстраивало. Это было видно по тому смущенному, почти виноватому выражению, которое установилось на его порозовевшем от волнения мясистом и крупном, даже, пожалуй, по-мужицки грубом, но и по– своему привлекательном, мужественном лице.
– Нет, так у нас не пойдет! – все напористее нажимал на него Веритеев. – Если вас выпустить на концерте в той же Сибири, а может, и тут, на станции… это поможет вернее разных там просьб! За такой бас мы всех комендантов на станциях купим! Будут наш эшелон отправлять без очереди! – шутливо добавил он.
– Извините, но дело в том, – наконец признался Оржанов, – что у меня нет слуха. Совершенно нет. Что заучил с граммофонных пластинок, то и могу. Да и то…
Он виновато развел руками:
– Обделила меня природа. Мама еще в юности брала для меня хороших учителей, в консерваторию возила… «Дерево, – говорят. – Сильное, рослое, но – дерево».
– Как это «дерево»?
– Так. Мелодики нет. Звук есть, реву. А музыкальности – нет.
– А какая народу разница, заучили или поете по той… по мелодике? Ну-ка, спойте еще разок про род людской…
Оржанов замялся:
– Да я…
Из группы любопытствующих, продолжавших еще стоять перед теплушкой, протестующе понеслось:
– Что зря стесняться? Голос дай боже!
– Точь-в-точь Шаляпин!
– Давай, давай!
– Про-о-осим!
Растерянно улыбаясь, Оржанов с минуту помедлил, потом шагнул из глубины теплушки в самый проем широкой двери, набрал в легкие воздух по самое горло, выбросил правую руку вперед, как это делают все певцы, – и над толпой, над пристанционными шумами, над крышами пустых и набитых людьми других составов и деревянных домиков за привокзальной чертой сильно, насмешливо загремело:
Люди гибнут за-а металл…
Сатана там правит ба-а-ал,
Там правит бал…
– «Дубинушку» тоже поете?
– Пою…
– Чего я все думаю? – довольный, сказал Веритеев, когда возле теплушки утихли поощрительные хлопки и выкрики. – Драмкружок у нас есть? Хорошо. Спасибо вам. Оркестр – тоже есть. Вместе – они наш, так сказать, культурный резерв, опора во всех мероприятиях. Но оркестр оркестром, а песни – песнями. Чего у нас больше любят? Песни. Конечно, где про любовь, где частушки, а где и другие разные. Ну, а все ж таки песни! Послушал я, пока ехали: есть голоса! А теперь вот и ваш. Программа на целый концерт! Так что, сказать откровенно, есть мысль! Какая? А вот какая: Сибирь еще далеко, а когда долго держат, не отправляют, как нынче…
Бывает, что по занятости пути, а бывает – по саботажу меньшевиков и эсеров: «Вот, мол, вам, комиссарам московским!» Тут взять да и дать концерт в привокзальном клубе! В дело пойдет и «Златой кумир» и «Дубинушка». А тем более «Варшавянка» и «Смело, товарищи, в ногу». Уважим честных путейцев, расшевелим… Обоюдная польза! А? Давайте сейчас зайдем к коменданту…
– Но как же это, дядя Иван, получается? – неожиданно вмешался в разговор стоявший рядом Антошка. – Тут сказано, что «волю неба презирая» и «небес закон святой», когда бога нет? Вещь-то не наша…
– Да и царит он «во всей вселенной». Подумают, что до сих пор царит и у нас, – поддержал Антошку Гриня Шустин.
Веритеев растерянно хмыкнул:
– Хм… верно. Однако же, как говорится, репертуар… классика?
– Классика классов, какие остались там! – Антошка многозначительно кивнул в ту сторону, где виднелись последние теплушки их эшелона, что означало кивок на Запад. – Надо хотя бы, что «не царит», а «царил» в прошлом…
Молча слушавший их, вообще редко подающий голос Родик Цветков вполголоса предложил:
– С «царит» на «царил» – это можно сделать легко. Оно складывается само: «Чтил один кумир священный. Он царил во всей вселенной». А закончить можно хоть так:
Но пришел наш новый век,
Век пленительного счастья…
– Какого еще «пленительного»? – насторожился Антошка.
– Так у Пушкина. Про звезду… декабристам.
– Ага… Ну и что?
– А то, что —
Век пленительного счастья…
И на место самовластья
Встал рабочий человек!
Он не гибнет за металл… —
– Он… это… он… я сейчас.
Неожиданно для себя Антошка закончил:
Свергнув царский капитал,
Сам он занял пьедестал!
– Правильно! – крикнул Гриня. – Так и петь.
– А что? И верно, не плохо, – согласился Веритеев.
– Тоже про сатану, – опять вмешался Антошка. – Раз его, как и бога, нет, то к чему? Лучше бы – «Капитал там правил бал…».
– Хм… ну-ка, Цветков, ты у нас стихоплет, прочитай теперь, что придумали, целиком, – попросил Веритеев. – Запомнил слова?
– Запомнил.
– Вот и давай…
Родик почти без запинки прочитал сообща исправленный текст арии Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст» с новым рефреном: «Свергнув царский капитал, сам он занял пьедестал», и все согласились: теперь хорошо. Остается артисту Оржанову крепенько все это выучить, запомнить новые слова, а когда придется выступать перед путейцами и в Сибири, так и петь.
– Запомнишь слова-то? – переходя на дружеское «ты», спросил Веритеев Оржанова.
Тот замялся было, но тряхнул каштаново-темными волосами, твердо сказал:
– Постараюсь. Сейчас запишу, потом напою…
…Но напеть ему в этот раз не пришлось.
Из-под соседнего состава, за которым виднелись купы тополей и крыши пристанционного поселка, выскочил Филька Тимохин. Минуту спустя оттуда же вынырнул пунцовый от ярости мужик. Как потом выяснилось, это был один из едущих в эшелоне малознакомых Веритееву рабочих. Ругаясь на чем свет стоит, рабочий стал гоняться за Филькой, а тот, цепляясь на бегу то за одного, то за другого из стоящих перед теплушкой Оржанова людей, подталкивал их навстречу преследователю и поощрительно выкрикивал:
– Наддай, дядя! Так-так… еще поднажми! Молодец. Понравилась курица? Сам просил…
– Я те за эту курицу… я те за эту курицу, – вперемешку с ругательствами хрипло бормотал на бегу рабочий. – Только дай мне догнать!
– А я и даю! Вот я… бери!
Поняв, что парня ему не догнать, рабочий в последний раз длинно выругался, погрозил кулаком: «Тебя я еще достану!» – и, качаясь от усталости, зашагал в хвост состава.
– Чего это он тебя? – спросил Антошка, когда Веритеев ушел вместе с Оржановым в штабной вагон для подробного разговора.
– Курицу я ему продал, – со смехом ответил Филька.
– Какую курицу?
– Хохлаточку. Пестренькую…
И под хохот стоявших вокруг девчат и парней во всех подробностях рассказал, как продал рабочему курицу. Не свою, а чужую. И продал не из корысти, из любопытства.
В тот день он был сыт «от пуза», забрел от нечего делать в пристанционный поселок – взглянуть, как живут здесь люди. Значит, шел себе и шел по улочке поселка вдоль палисадников, и вдруг у одного из домиков увидел в углу между крыльцом и калиткой, ведущей во двор, пеструю курицу. Она самозабвенно копалась в пыльной земле и, поклохтав, тыкалась в нее клювом.
– Ну, думаю, ты моя! – со смаком рассказывал Филька. – Взяло меня любопытство: прижму, мол, тебя в углу – и голову прочь!
– А она?
– А она, видно, ждет, как ей башку откручу. Растопырил я руки вот так, присел на корточки и стал на нее, ну, чуть не ползти. Боюсь, закудахчет, хозяин услышит, я – пропал. И только я, значит, нацелился на нее, как этот долдон, – Филька указал глазами на далеко уже отшагавшего вдоль состава рабочего, – он возьми да сзади и подойди. Вначале я думал – курячий хозяин. Хотел было пошутить, что вот, мол, с хохлаточкой вашей тут говорю на ихнем цыплячьем языке. А он мне впрямую, сам: «Твоя?» – «Моя», – говорю. «Продай!» – «Сколько дашь?» – говорю. «Деньгами?» – «Ну, хоть деньгами». – «Пять тысяч дам». – «Э-э, говорю, задарма! Да ладно, черт с тобой, говорю, давай твои пять!» – И только он отсчитал мне пять тыщ, вот эти, – Филька вытащил из кармана штанов и показал окружающим смятую пачку денег, – как со двора, из калитки, возьми да выйди хозяин. Видно, слыхал весь наш торг. Да как хворостиной даст мне по кумполу… эно, как оцарапал. – Он показал и царапину. – Я, значит, прочь оттель вот сюда. А мой покупщик – за мной. «Отдавай, кричит, деньги мои, гад ползучий!» И все норовит догнать. Раза два камнем кинул, да не попал. И обиделся. А чего? Сам виноват! Чужим попользоваться хотел, суп с курятинкой похлебать. Вот пускай теперь и хлебает…
– А деньги? – спросил Антошка.
– Эти-то? – Филька разжал грязную, как всегда, ладонь, с огорчением оглядел измятые «сотки». – Уж так– то бы мне они пригодились… денежек нет совсем!..
– Мало ли что!
– Ну это да, – согласился парень. – Я об них тогда и не думал. Вошло в башку подшутить над долдоном, когда он стал торговаться, и все. А тут – хозяин, я и бежать…
Он еще раз взглянул на деньги, вздохнул:
– Черт с ними, пойду отдам…
Все время, пока он шел вдоль состава к последним вагонам, оставшиеся у оржановской теплушки глядели ему вслед и подшучивали:
– Отдаст?
– Не отдаст!
– Возьмет да в последний момент и нырнет под вагон: Тимохин парень таковский…
Но Филька посрамил маловеров: все внимательнее разглядывая похожие одна на другую теплушки, он деловито задерживался чуть ли не возле каждой из них, кого-то о чем-то спрашивал, потом остановился совсем, подошел к дверям намеченной теплушки вплотную и протянул туда руку.
– Отдает! – довольный, сказал Антошка.
И вдруг Филька отпрянул назад: из теплушки выпрыгнул похожий издали на медведя знакомый уже рабочий. Филька кубарем откатился прочь, вскочил и кинулся под вагоны…
8
Платон Головин с эшелоном не ехал. Как секретарю партбюро, ему пришлось остаться в поселке, где несколько десятков рабочих и служащих должны будут заняться инвентаризацией заводского имущества, капитальным ремонтом, приведением в порядок не только изработавшихся станков, силовых установок, но также производственных и жилых зданий, складов хозяйственного двора.
Начнет или не начнет завод после этого работать в полную силу, прибудут или нет от Мак-Кормиков необходимые для выполнения условий договора с Москвой детали и машины или придется брать завод в свои советские руки – это решится летом, после поездки Круминга к хозяевам в Америку, а подготовить цехи к следующей зиме – необходимо в любом случае.
Кроме того, еще в январе по всему Подмосковью, включая поселок, был объявлен ударный месячник сбора металлолома для ремонта сельскохозяйственного инвентаря. На складах местных исполкомов уже скопились и продолжали скапливаться груды этого лома. В сельских кузницах не умолкал перезвон молотков: ковали и чинили лемехи для плугов, бороны, грабли, лопаты, вилы, обтягивали железом полозья саней и колеса телег, обували в новенькие подковы кое-как перезимовавших, отощавших за зиму лошадей.
А некоторое время спустя и весь сельскохозяйственный год был объявлен ударным: по прогнозам специалистов – двадцать первый вряд ли будет в центральной России урожайнее и лучше двадцатого. В связи с этим, по договоренности ВСНХ с Крумингом, на заводе тоже надо было сделать немало для нужд коммун, совхозов и коллективных крестьянских хозяйств округи. И как ни хотелось Платону двинуться вместе со всеми в Сибирь, пришлось свое место в эшелоне уступить дочери: бойкая девчонка спала и видела, когда наконец все сборы закончатся и она вместе с Клавой Тимохиной, которую тоже берут вместо отца, убитого прошлой осенью во время схватки с бандитами, отправится в неведомую Сибирь за хлебом.
– Уж я-то хлебушка привезу! – с таинственным видом хвасталась Зинка. – Мне только бы до Сибири доехать!
– На какие шиши ты его привезешь? – удивлялась Дарья Васильевна. – Что возьмешь на обмен за хлеб? Чуть не голые ходим!
– Я знаю, на что! Вот увидишь: сто пудов привезу!
– Ну, сколько ни привезет, а пусть едет, – решил Платон. – Хоть с пуд заработает там, и то хорошо, зимой будет легче…
Но Зинка лучше отца и матери знала, что говорила: кое-что из Филатычева клада она успела припрятать. Не сразу, чуть погодя, но спрятала надежно. Об этом не узнал никто, кроме Клавки. А та – не выдаст…
В тот день, когда блаженный старик, пока они с Клавой самозабвенно таскали друга друга за косы, сумел пробраться во двор и увидел свое разорение, а потом пошел, спотыкаясь как чумной, прочь со двора, – в тот день на короткий миг в душе Зинки шевельнулось было острое чувство жалости:
«Может, отдать старику чугун? Догнать его и сказать: раз твое – на, Филатыч!»
Шевельнулось – и сразу пропало: «Сам-то Филатыч бедных жалел? Как бы не так, пожалеет! – сердито решила Зинка. – Сосал как паук, черт пузатый. Из чугуна ничего ему не отдам…»
Но неожиданно для нее в тот же вечер Филатыч сам явился к Головиным. Пришел злой, разъяренный. Совсем не похожий на того несчастного старика, к которому Головины уже успели привыкнуть. Не стал топтаться на месте. Не бормотал бессмыслицу, как всегда. А просто без спросу взошел на крыльцо, шагнул в сени, где Зинка заканчивала мыть полы, зыркнул по ней ненавидящим взглядом – и прошел прямо в дом.
Забыв от удивления выжать над лоханью мокрую тряпку, девчонка застыла на месте:
«Это зачем же? Неужто явился требовать клад?..»
На цыпочках она подкралась к дверям, прислушалась. Так и есть: явился за кладом.
– Партейные, а воруете? – громко кричал Филатыч по-бабьи визгливым, противным голосом. – Что же это выходит? Рази так по закону? Бандиты вы, воры! Я наживал, я схоронил, я и право имею! Мое все, мое! Отдавай мой чугун, ворюга!..
Отец сердито и удивленно басил:
– Очнись! Что я тебе отдам? Какой чугун? Рассказывай толком. О доме, что ли, опять разговор завел? Погоди! Да ты сядь, чудило…
Дальше слушать Зинка не стала. С отцом шутки плохи: расспросит Филатыча, увидит в углу двора, что разрыто. А кто разрыл? И начнет расспрос не с Антошки, а прямо с нее. Антошке батяня верит, Антошка – в него. Вон и дрова Антошка-святошка увез назад в исполком. Взял у Родика Цветкова тележку, погрузил – и все до последнего полена увез. Так что батя с него не спросит, начнет с нее: «Ну-ка, девка, что там вырыла и куда схоронила? Показывай где…» И хочешь не хочешь – покажешь. Потом из клада и денежку не дадут…
Зинка выскочила из сеней во двор, сунулась под крыльцо, где был спрятан чугун с деньгами. И едва успела запихать в карман своей старенькой юбки пригоршню тяжелых монет с громоздкой пачкой кредиток, как голоса Филатыча и отца зазвучали в сенях.
Заскрипели над головой половицы, потом слегка зашаталось крыльцо под отцовскими сапогами. Скорчившись, втянув голову в плечи, Зинка притихла. А когда отец и Филатыч ушли в дальний угол двора – осматривать яму, – неслышно вбежала в сени, кинулась в «столовую», к своей койке, достала незаконченное шитье и с видом увлеченной делом портнихи заработала иглой.
Как она и ожидала, отец сразу же взялся за нее: расспросил, приказал достать чугун. При Филатыче внимательно рассмотрел содержимое чугуна: поворошил пальцами бумаги, взглянул на посверкивающие под бумагами золотые монеты и разноцветные камушки, но жадные руки Филатыча отстранил:
– Не лезь, не хватай. Слыхал про обязательную сдачу драгоценностей? Голод кругом. У буржуев на золото хлеб приходится покупать. Так что, сосед, делать будем с тобой вот именно по закону, как ты сказал. Только по нашему, по народному. Как? Сейчас опишем это вот при тебе, потом оба, а то и еще кого позовем, под бумагой распишемся. Ну, а утречком вместе отправимся в банк. Если тебе чего причитается, там дадут, если же нет – значит, нет.
И как Филатыч ни лез к чугуну, как ни пытался вырвать его у сильного, упористого Платона, как ни ругался и ни плевался, тот стоял на своем.
Под диктовку отца Зинка чуть не час составляла подробную опись содержимого чугуна, дивясь в душе, каким большим богачом был, оказывается, этот нищий Филатыч, если только в одном чугуне хранились такие штуки. «В навозе спрятал, в земле. А я нашла. Себе ухватить успела! – одновременно дивилась и радовалась она, не испытывая угрызений совести, а лишь туже зажимая между острыми коленями тяжело обвисающий карман. – Сколь хлеба можно будет купить в Сибири, мамке домой привезти…»
Правда, тайной пришлось в конце концов поделиться с настырной Клавкой: та без труда разнюхала обо всем. В дороге, когда эшелон двинулся на восток, скрыть такое оказалось невозможным. Больше того: для добычи еды Зинке самой понадобился в дороге надежный помощник. А скрытная, вороватая Клавка умела молчать. К тому же истово поклялась словечка не проронить о деньгах, молчать до самого гроба. И клятву выдержала до конца…
В день отъезда они устроились на нарах рядом, не отходили друг от друга ни на шаг, держали секрет свой крепко. Филатычевы богатства приходилось пускать на обмен с особенной осторожностью, прикрывая друг друга, втихую, чтобы никто из знакомых ребят не засек:
– Откуда это у вас?!
Да не сразу он и наладился, этот обмен. В первые дни девчонки ехали полуголодные: царские красивые деньги, даже пятисотенные купюры, торговки-бабы в России не брали. Стали их брать лишь позднее, в Сибири, – возможно, за красоту, а обесцененных советских тысяч у девчонок почти не было. Между тем фунт клеклого, тяжелого хлеба стоил четыре и больше тысячи, да и за них бабы отдавали редко, предпочитая менять на спички, иголки, соль. За коробку серных, вонючих спичек можно было выменять две бутылки молока, за кружку соли – каравай хлеба. Не удивительно, что вещи, взятые из дома, скоро кончились, и Зинке пришлось, замирая от страха, показать на одной из стоянок бабе постарше золотой пятирублевик.
Показала – и вовсе перепугалась: баба так дрогнула, так вдруг тяжко переполошилась, так быстро подхватила свои ведра да корзинки со снедью, так сильно поволокла девчонку за собой в деревню, расположенную на взгорье за станцией, что Зинке подумалось: «Сейчас сдаст в милицию – и конец!»
Хорошо, что Клавка заметила, кинулась следом, иначе Зинка вырвалась и убежала бы, оставив пятирублевик бабе.
В тот день из деревни они вернулись с двумя ведрами и мешком, полными хлеба, вареного и сырого мяса, масла, соленого свиного сала, картошки, – еле донесли. А в теплушке, увидев такое чудо, ребята восторженно хором ахнули:
– Вот это да!
– Мальчишки все-таки дураки! – шептались потом счастливые, сытые подружки. – Легко поверили, будто мы обе расплакались от голода, за это бабы нас пожалели и дали еду… смешно! Хорошо, что Филька едет в другом вагоне: этот бы не поверил…
Филька действительно ехал отдельно от сестры и друзей. И сделал это не без расчета.
В те дни, когда теплушки приспосабливались в поселке под жилье, он в один из свободных вечеров решил подшутить над работавшими в дальнем вагоне «рыжиками». Подкрасться к ним с самодельной хлопушкой, у самой двери бабахнуть и гаркнуть не своим голосом:
«Руки с топорами – вверх!»
Так он и сделал: подкрался, бабахнул хлопушкой… и чуть не покатился с ремонтного помоста под колеса теплушки.
Мужиков он всерьез напугал, и почему напугал – узнал в тот же час. Только вместо робкого страха – вызвал в них страх свирепый. Оказавшийся ближе других к дверям Игнат Сухорукий так наддал от страха по левой скуле, что «Епиходыч» кубарем покатился прочь.
– Я те дам «руки вверх»! – прохрипел ему вслед одновременно злой и напуганный Сухорукий. – Я те зря попугаю!
– А чего я такого? – долго потом оправдывался Филька, поглаживая ноющую скулу. – Нельзя и пошутить?
– Шутить надо с девкой. А тут…
Оказалось, что пятеро занятых ремонтом своей теплушки рабочих во главе со смекалистым Сухоруким – все пятеро рыжеусые, как и он (потом в дороге их так и звали – «рыжиками», даже Веритеев, поручая что– нибудь старосте вагона Сергею Малкину, говорил: «Ты там со своими рыжиками обсуди…»), – эти пятеро предусмотрительных мужиков решили сделать переднюю и заднюю стенки своего вагона двойными. Стоило оторвать прибитые «на живушку» две верхних доски внутренней стенки, как открывалась глубокая щель в три вершка шириной. Засыпь туда муки сколько влезет, доски снова забей – и никакая «заградиловка» не догадается, что ты везешь из Сибири домой не только законные, но сверх того обмененные на барахло пуды.
Правда, из-за этого нары получились короткими. Длинному Сухорукому было особенно худо спать на них, свесив ноги к самому полу. Но приходилось терпеть: грела надежда на будущие пуды…
Сразу же сообразив, что к чему, забыв и о ноющей после удара скуле, унижаясь и льстя, Филька в тот же день напросился в пай к хитрой пятерке. И хотя для него, довольно рослого парня, нары тоже были коротковаты, он собрался в дорогу, а потом и ехал до самой Сибири весело и легко.
«Да и о чем горевать? – про себя и вслух раздумывал он. – В заводской пекарне теперь и горсть муки не сопрешь: построжало там страсть! Дома – совсем уж нечего жрать. А в Сибири… не только в Сибири, но и в дороге, живи – не тужи! В дороге – все внове, все интересно. Поглядывай вокруг – и не теряйся! С нашей заводской братвой можно ехать хоть прямо в ад – к дьяволу и к его сватье ведьме».
– Так или не так? – обращался он к какому-нибудь из «рыжиков», которые то молча валялись целыми днями на нарах, то вели между собою вполголоса бесконечно унылые разговоры.
Этим особенно отличался Семен Половинщиков. Выступив в феврале на заводском митинге с панической речью против поездки в Сибирь, коли вообще «все пошло под откос» и «надо всем разойтись по домам, спасаться от голода, кто как может», он и теперь продолжал «гундеть», как выражался Филька. При этом парня искренно удивляло: с чего этот дядька Семен так сильно перепугался? Работа пока на заводе есть? Есть. Голодно? Голодно. Ну и что? Нынче голодно, завтра – нажремся, об чем разговор? Так нет же, гундит себе и гундит…
А Половинщиков все гундел:
– Помяните мое слово, мужики, скоро совсем пропадем. Загонят нас в Сибири туда, где лес да болота, приставят сторожей с ружьем. «А ну, велят, поворачивайся, холера тя забери, работай на тех сибирских крестьян!..» Сибирь-то ведь что? Она каторжная. Может, и в кандалы…
Тихий, маленький как грибок, рябой часовщик Кобяков только тяжко вздыхал в ответ и ерошил рыжую бороденку. А косой плотник Барков (его левое веко почти закрывало глаз) согласно басил:
– Глухая страна. Медвежья. Чего уж…
Сторож хозяйственного двора Коротнев пытался несмело спорить:
– Может, еще и не так? Может, выживем? Те комиссары, чай, тоже не без ума? Не пужай пока зря-то. Вот как доедем, тогда уж…
Они и пели что-нибудь только очень унылое, про несчастье. Пели не в лад, негромко, будто каждый про себя, сторонясь других:
Во суббо-о-ту день нена-стный,
Нельзя в поле работа-а-ть,
Нельзя в по-олю-шке рабо-отать,
Ни боронить, ни па-аха-ать…
Или о том, как бродяга-каторжник бежал с Сахалина «звериной узкою тропой», или затягивали все так же не в лад:
Последний нонешний денечек
Гуля-аю с вами я, друзья…
Слушать такое веселому Фильке было невмоготу.
– Чего, мужики, заныли? Чего тянете, как нищего за гашник? А все ты, дядька Семен! – укорял он унылого Половинщикова. – И вот загундел! А чего? Все будет в точку, это я тебе говорю! Согласен со мной, Игнат Митрич? – обращался он к Сухорукому, который вместо песен изо дня в день затевал нескончаемые споры со старостой вагона Сергеем Малкиным. – Да хватит вам молотить друг друга! И вот заладили, – передразнивал Филька спорщиков: – «Диктатура… рабочий класс, налог да разверстка», будто другого в жизни и нету! Ты лучше сиди или полеживай на нарах, пока кишки не позовут наружу, вот он и весь твой спор…
Но, увлеченный любимым занятием – затеять по любому поводу яростный спор, Сухорукий сердито отмахивался: «Отстань!» – и вновь напористо склонялся к Малкину:
– А теперь вот скажи: почему получается, что крестьянам твоя партия дает через налог поблажку, а нам, рабочим, поблажки нет?
Игнат прищуривал острые напористые глаза, резко склонялся к Малкину, как бы в ожидании минуты, когда тот попадется в поставленную для него ловушку. Но тот не обращал внимания на бойкую изготовку Сухорукого.
После позорной истории с зажигалкой, о которой Игнат помянул в кабинете Ленина, Малкин несколько дней по возвращении в поселок ходил как после болезни: все в его душе тревожно ныло, томилось от злости и стыда: «Партийный, а до чего дошел? – пытал он себя. – Зажигалочником стал! Последней шпаной! Перед товарищем Лениным опозорился! Ну нет, я это себе не прощу!» И первое, что Малкин сделал, это сунул проклятую зажигалку в кучу цветного лома, предназначенного для переплавки. Потом, собрав всю свою волю, – бросил курить. И хотя было невыносимым сидеть рядом с курящими, особенно с таким табакуром, как Сухорукий, он до судорог в животе терпел и все думал, думал о том, что услышал в тот стыдный и счастливый день в кабинете Владимира Ильича.
Постоянные приставания Сухорукого со спорами по всякому поводу – раздражали: тот, видно, «искал себя», иногда толковал про все вкривь и вкось, но все же искал, поэтому Малкин старался всячески подавлять в себе раздражение, благо характер был, слава те господи, уравновешенный, ясный. Когда приставания Сухорукого доходили до края, игры в молчанку не получалось, он терпеливо, чуть окая, отвечал:
– Поблажку? А что же, верно: даем крестьянам поблажку. Даем потому, что в нынешней обстановке иначе нельзя. Думаю, что и дальше… может даже, чем дальше, тем больше. Посадим крестьян, как сказано было товарищем Лениным, с лошади на машину, вот уж тогда…
– Про машину да про коммуну твою потом, – отмахивался Игнат. – Ты давай мне пока про нынче. А нынче, значит, задумано так: сработал крестьянин положенный ему по налогу фонд, собрал сверх него излишки – и на базар? Продал, опять собрал – и опять на базар?
– Ты же и купишь да сытно съешь!
– А на какие шиши? Не-е-ет, так у нас не пойдет! Я тоже хочу получать излишки и продавать… худо ли?
– Как же ты это мыслишь?
Во время одного из таких нескончаемых споров, как бы решившись наконец поделиться своим заветным, Игнат суетливо заерзал на нарах, придвинулся к Малкину вплотную, резко сказал:
– А что, если так? Перво-наперво, значит, наших американцев с завода по шапке. Пусть едут к себе домой. И будем мы на заводе заместо их. Что нам из Москвы велят сработать по общему плану, то мы сработаем как положено, честь по чести, на свое государство. Однако же сверх того – еще для себя. Молотилочки там, косилочки. Эти, которые сверх, мы сами и продадим. Тому же крестьянину, раз он частный и у него получились излишки, а значит, и денежки. Получим с него – и поделим промеж себя… ай плохо рабочему человеку?
Он с торжествующим видом оглядел Сергея Малкина и прекративших «гундеж», заинтересованных разговором «рыжиков»: вот, мол, каков он, Игнат Сухая Рука, соображает не хуже других. И государству добро, и ему… Было видно, что свой проект он обдумал давно, крутил его так и этак, пока не высказал: пожалуйте вам, готово!
– Эко-о ты! – удивился Малкин новому повороту спора. – И так вот будет на каждом заводе?
– А то? – с вызовом подтвердил Сухорукий. – На кажном.
– Значит, вместо бывших буржуев и торгашей бойкой торговлишкой оптом и в розницу начнут заниматься рабочие заводов? Крестьяне – наживаться в деревнях, рабочие – в городах? Кусок государству, кусок себе? Да-а, ловко придумал!








