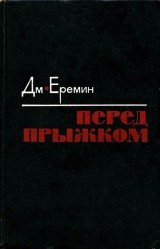
Текст книги "Перед прыжком (Роман)"
Автор книги: Дмитрий Еремин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
И вот оказалось, что никого из родных – ни отца с матерью, ни сестер – в Сиреневке уже нет. Вместо них там разместился интернат бездомной, шумной и веселой, как все эти красные, рабочей босоты. Новая власть дала им пять лошадей, среди которых Терехов сразу узнал и двух любимцев отца. Пленный словак – крупный рыжеволосый мужик с мясистым лицом («как видно, местные мужики еще не вернулись с фронта, – отметил про себя Терехов, – поэтому вместо них в хозяйство взят пленный!») – учил ребят ухаживать за лошадьми, обрабатывать землю. А в тот декабрьский день, когда штабс-капитан с замирающим сердцем обошел свою прежнюю усадьбу, потом побеседовал и со словаком – спокойным, довольным своей судьбой светловолосым здоровяком, – кое-как одетые подростки выбирали из конюшни навоз, возились возле заляпанных им саней, запряженных тереховским рысаком. На вопрос: «А нет ли здесь кого-нибудь из бывших хозяев?» – краснощекие мальчишки с девчонками дружным хором ответили, что бывшие хозяева Сиреневки удрали к капиталистам и что теперь хозяева тут – они…
К счастью, на одной из богатых дач (для Терехова было открытием, что по решению большевистского правительства дачные владения не подлежали конфискации у их бывших хозяев) нашелся знакомый инженер, работавший теперь в каком-то наркомате. Он посоветовал, а потом и помог временно скрыться в Николо-Угрешском монастыре, настоятель которого, а еще больше митрополит Макарий, перебравшийся туда из Москвы до лучших времен, оказались людьми «в высшей степени интеллигентными», понимающими что к чему. Вместе с ненавидящим большевиков патриархом Тихоном митрополит делал все, чтобы отвратить верующих от большевистской заразы, был главой тайного церковного общества, связанного в Москве и Петрограде со светской подпольной организацией, готовившей к лету двадцать первого года решающее восстание.
Провал Кронштадтского мятежа научил их многому, и теперь «помазанные на подвиг» заговорщики занимались подготовкой сокрушительного удара не только сами, не только с готовыми на все боевиками, но и с массами верующих – через листовки, поповские проповеди, беседы «христовых невест» в деревнях и квартирах горожан.
Нетерпеливому штабс-капитану этого было мало. Возня с листовками показалась ничтожной, а жить в монастыре среди ленивых, тупых монахов на положении смиренного послушника вскоре стало просто невыносимым: хотелось большого, настоящего дела. История с избиением четырех сопливых мальчишек из местного исполкома (так он про себя называл друзей Миши Вострикова) лишь ускорила это решение: монастырь вдруг оказался «под обстрелом» двух строгих комиссий. Но как оказалось, это произошло совсем по другой причине: всезнающий Бублеев рассказывал, что на днях милицией был задержан курьер Московской синодальной канцелярии с пачкой отпечатанных в типографии антисоветских листовок. Среди них – очередное обращение патриарха Тихона к верующим с призывом «не допускать безбожных большевиков к святым церковным ценностям», «вставать силой на силу против безбожного большевизма». Облаченный в скромную гражданскую одежду, курьер не то направлялся куда-то с этими листовками, не то приехал с ними в Москву, но по дороге неумеренно хватил самогона в притоне на Домниковке, поскандалил, потом подрался с милицейским патрулем. При обыске в его сумке и были найдены листовки. Ими, по утверждению Бублеева, занимался сам Дзержинский. Теперь вместо монахов в монастыре будет создана детская трудовая коммуна…
Терехову представилась родная Сиреневка: веселые лица мальчишек и девчонок из школьного интерната… любимый жеребец отца по кличке Ляруа, запряженный не в изящный двухместный экипаж, в котором отец ездил летом даже в Москву, а в загруженные навозом сани… Представил, как такие же веселые мальчишки из простонародья теперь займут монастырь, и вселит их сюда Дзержинский… Представил – и сердце больно сжалось от злобы: значит, надо бежать и отсюда.
Бежать, бежать…
Но куда?
После разгрома Врангеля и состоявшейся наконец, хотя и временной, зыбкой, но все же официальной договоренности о мире между большевиками и паном Пилсудским, пробираться на юг и запад не было смысла: перспектив для борьбы там не стало.
Вернее всего – Сибирь.
То, что поднятый в начале этого года мятеж генерала Белова не удался, Терехова не пугало: он ни минуты не сомневался, что на вольных просторах богатой Сибири и после подавления этого мятежа осталось в подполье и будет упорно готовиться к новому, еще более подготовленному восстанию немало других подлинно патриотических сил, до конца верных если не царскому, то веками установившемуся в России порядку тех, кто владел и должен владеть всеми богатствами, кто сосредоточил в своих руках государственную власть и вел Отчизну к всемирной славе…
Значит, надо туда. И какая удача, – раздумывал он теперь, – что именно в те места направляется эшелон. Доехать в нем до Омска или Ново-Николаевска, незаметно исчезнуть из пролетарской теплушки, пойти по адресам, которые, как оказалось, имелись у господина Гартхена благодаря расторопности его экспедиторов и контролеров, разъезжающих по стране в связи с нередкими (а иногда и нарочно спровоцированными) рекламациями с мест на неисправность машин, связаться с надежными людьми и на время снова уйти в подполье, чтобы затем подготовиться наконец для решающего удара.
Эти мысли приносили Терехову успокоение, укрепляли веру в конечный успех. С ними легче было переносить и унизительное положение «прислуживающего большевикам». Постепенно он даже стал привыкать к этому положению, выработал в себе необходимое для «великого и святого дела» терпение, когда вдруг в один из солнечных дней все это едва не разлетелось вдребезги: на завод опять приехал – теперь уже с напутственными словами – председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин…
Об этом Терехов узнал позже всех – от Бублеева, когда вдруг не вовремя взревел заводской гудок и сразу же привычный однотонный шум цехов как-то устало рассыпался и затих.
– Ихний «президент» приехал! – с кривой усмешкой на грубом костистом лице сообщил Бублеев, вернувшийся из конторы, куда вызывал его Гартхен. – Их «Всероссийский староста». Будут митинговать…
И выругался.
Все в Терехове вдруг дрогнуло и напряглось: «А что, если?.. Какой превосходный случай…»
Свой заветный маленький браунинг в карманной замшевой кобуре, подаренный отцом еще в те годы, когда Терехов был гимназистом, штабс-капитан в первый же день появления на заводе спрятал в темном углу складского сарая: держать оружие при себе он боялся. Это была единственная и самая дорогая вещь, которую он сумел сберечь в эти страшные, сумасшедшие годы. Она была и сладким напоминанием о доме, о прежней жизни. Она же в горькие минуты питала мысли о мести тем, кто посмел посягнуть на его счастливое прошлое и все настойчивее отнимает надежды на будущее. Но она же, эта заветная вещь, могла стать и его спасительницей от позора на тот безысходный случай, если он вдруг окажется в руках врагов и для него, гордого русского офицера, останется единственный выход – пустить пулю в лоб…
Он берег этот браунинг для себя. Но вот – на завод приехал их «Всероссийский староста», президент нищеты. Не пришел ли час мести?
– Может, пойдем и взглянем на этого президента? – с прежней злой, возбужденной усмешкой спросил Бублеев. – Видел я его сейчас на плакате. Мужик мужиком…
Как и в первый приезд Калинина месяц назад, митинг был назначен в цехе цветного литья – самом чистом и светлом на заводе. Сюда пришли не только рабочие завода, но и представители местной власти, предприятий и организаций уезда. В небольшом, аккуратном цехе все не вместились, многие толпились у входа, цеплялись за плечи товарищей и вытягивали шеи, чтобы лучше разглядеть знакомое по портретам лицо уважаемого в стране человека.
Терехов пришел сюда уже после того, как все в цехе и возле него было заполнено до отказа. Ему с трудом удалось протиснуться сквозь чуждую ему толпу рабочих лишь к самому входу в цех и встать рядом с каким-то мужиком, пропахшим сырой овчиной. Нечего было и думать достать отсюда пулей из дамского браунинга. «Да и надо ли? Не разумнее ли поберечь себя для более крупной акции во имя святого дела?» – решил он, не без опаски оглядывая сгрудившихся вокруг людей.
Калинин стоял в центре цеха на ящике, поставленном вместо трибуны, и некоторое время молча оглядывал сквозь стекла очков в простой железной оправе густо обступивших его рабочих. Передних он видел ясно. Это были худые, плохо одетые люди с одинаковым выражением напряженного ожидания на серых, давно не бритых лицах. Рядом и далеко за ними, взобравшись на ящики, формовочные приспособления и станки, плотной толпой стояли и сидели другие.
Те, кто был помоложе и посильнее, влезли по плечам товарищей на балки и переплеты цеховых перекрытий, на выступы закопченных, покрытых инеем стен, и тоже нетерпеливо ждали: что-то скажет им в этот раз «Всероссийский староста», Михаил Иваныч Калинин?
В рассеянном свете цеха дальние ряды виделись Калинину смутно. Он не столько видел, сколько по гулу я шелесту голосов догадывался о том, с какой жадностью, почти исступленно ждут от него слова одобрения и надежды.
Завод – чужой, но он понемногу работает. Это наглядный, убедительный пример разумной и деловой политики Советской власти по отношению к зарубежным промышленникам и дельцам: вот вам, господа, живое свидетельство того, что Советская власть не страдает фанатической замкнутостью. Она готова иметь дело не только с Мак-Кормиками, но и с любыми другими представителями деловых кругов Америки и Европы, заинтересованными в обоюдовыгодном использовании богатств и рынков сбыта в красной России. Так на так, господа! Двери для серьезных деловых людей у нас открыты. И если по договоренности с дирекцией мы временно приостанавливаем работу на заводе, отправляем рабочий эшелон в Сибирь, то это тоже на обоюдную пользу. С осени, если хозяева завода не потеряют рассудка от ненависти к Советам, как они потеряли его в 1917 году, если они обеспечат завод запасными частями и сырьем, как это предусмотрено договором, то производство машин можно будет снова пустить на полную мощность…
Думая об этом, Калинин отчетливо помнил лицо и голос Владимира Ильича во время их вчерашней беседы, его настойчивые слова о том, чтобы каждый из тех, кто поедет с заводским эшелоном в Сибирь, чувствовал себя солдатом великой рабочей армии на фронте трудовой смычки не только с беднейшим, но и со средним крестьянством, которого в Сибири подавляющее большинство. Дело не только в хлебе. Этой поездкой нужно доказать сибирскому крестьянину, пока что разуверившемуся во всем, недовольному Советской властью, – доказать этому крестьянину необходимость союза с рабочим классом центра страны, показать нерушимую классовую сознательность и сплоченность рабочих, всемерно крепить трудом и личным примером… да-да, личным примером каждого – крепить трудовое рабоче-крестьянское братство, особенно с беднотой…
Близоруко щурясь, Михаил Иванович в последний раз оглядел стоявших перед ним рабочих. Вскинув рано седеющий клинышек бороды, оглядел и тех, кто стоял в широко раскрытых дверях, и тех, кто устроился на станках, располагался на перекрытиях под самой крышей, затемняя и без того сумеречный свет, льющийся с неба сквозь стеклянную крышу цеха. Острое чувство горячей симпатии, почти отцовства к этим полуголодным, плохо одетым людям ощутимо хлынуло в сердце. Он подавил невольный горестный вздох и мягко, но так, чтобы слова его внятно прозвучали в притихшем цехе, произнес:
– Товарищи рабочие!
В цехе и за его стенами было тихо. Только неумолчное татаканье заводской электрической станции далеко за складами и едва уловимые, как сонное бормотание, каждодневные шумы поселка, слившиеся в ровный, невнятный гул, доносились сюда, не заглушая негромкий голос Калинина.
Рабочие стояли вокруг «Всероссийского старосты» молча. По их лицам он видел, что они соглашаются с ним, понимают его, верят тому, о чем он говорит от имени партии и Владимира Ильича, уяснили необходимость поездки в Сибирь и особенно рады, что на время поездки за ними здесь сохраняется средний заработок, а в Сибири каждый из них получит за добросовестную работу немало муки и жиров, да еще сможет отправить раз в месяц продуктовую посылку домой…
Спокойная, добрая речь его ничем не напоминала привычную буйную митинговщину. Он говорил по-домашнему просто, доверительно. И так же доверительно слушали его они – больше полутора тысяч изголодавшихся, но не потерявших надежду на лучшее будущее рабочих людей.
Закончив, он осторожно нащупал ногой край ящика (при этом едва не наступил на Антошку Головина, успевшего примоститься здесь еще до начала митинга) и под приветственные хлопки и выкрики сошел на землю.
Тогда к ящику стали выходить другие ораторы – представитель ВСНХ, председатель местного Совета, рабочие и работницы с воспаленными от бессонницы глазами.
Все уже было сказано, все было ясно, и когда одна из работниц прямо из толпы попросила слова, ей весело крикнул откуда-то сверху насмешливый парень:
– А ну, тетка Настасья, ляпни и ты что-нибудь покрепче!
– И ляпну! – крикнула та в ответ. – Ляпну я, дорогие, вот что: вы-то уедете, а мы тут останемся на картофельных очистках да на воде… ладно! Как-нибудь прокормим за это время детишек да стариков. Дел и на заводе нам хватит. Как сказано, будет происходить учет и ремонт всего. Нашими, чай, руками-то будем все это делать. Поэтому ты, Вавилов Матвей, – она подняла туго повязанную теплым платком голову кверху, поискала глазами веселого парня.
– Тут я, – крикнул тот под хохот других парней, свесив голову с верхней балки. – Вона где, в облаках…
– Ага, значит, возле господа бога? Так вот, молодец, коли ты поедешь…
– Поеду!
– Ну, поезжай. Да только там не шалберничай, а работай. Привези хлеб по-честному, как просит Михаил Иваныч. Чтобы твоей мамке с Анюткой и нам в наших семьях не погибать с голоду в новую зиму. Чтобы с вами, такими вот бойкими, не чертыхаться…
– Не бойся, тетка Настасья, – вновь подал голос Мотька Вавилов, парень «из облаков». – Мы во как работать будем! Не привыкать!
Вокруг смеялись, кричали, кто сердитое, кто веселое, а когда опять приутихло и к ящику стал протискиваться местный оратор, слушать его не стали:
– Хватит!
– Все ясно!
– Пуская опять Михаил Иваныч!
– Давай, заключай, Калиныч!..
Уже начинало темнеть, когда, оглядевшись, чтобы в последний раз охватить одним взглядом всех, кто стоял вокруг, Калинин сильнее, чем говорил до этого, почти торжественно произнес:
– Перед тем, как ехать сюда, я говорил с Владимиром Ильичей Лениным. Он просил передать вам, что вы являетесь сейчас одним из боевых отрядов той армии, которая едет на фронт непосредственной смычки с трудовыми массами крестьянства. Мы даем вам ответственные документы. Вас никто не тронет в пути ни туда, ни обратно, когда повезете свою долю хлеба домой. Но каждый из вас, как это правильно сказала только что уважаемая Настасья… извините, не знаю отчества, – он поискал взглядом пожилую работницу, – каждый должен помнить о своей рабочей чести и ехать в Сибирь не как мешочник, а как полномочный представитель революционного пролетариата. То есть с идейной и политической целью. Оправдайте же в поездке доверие Советского правительства. Во имя революции, ее укрепления и развития – крепите братскую смычку рабочих и крестьян…
Десятки рук подхватили Калинина, и хотя он просил: «Не надо… зачем вы? Я превосходно и сам дойду… ну полно! Да хватит!» – его понесли над толпой и так, на руках, бережно вынесли из цеха мимо низко опустившего голову, напряженно сжавшегося Терехова – под уже темнеющее, мигающее огоньками звезд весеннее небо.
Когда машина, зарокотав и пустив клубы дыма, отошла, мужик в овчинном полушубке, стоявший рядом (это был Бегунок), с широкой улыбкой на бородатом лице повернулся к Терехову:
– Вот и повидал я, браток, послушал Калинина!
Терехов молча кинул на Савелия угрюмый ненавидящий взгляд: радуется и счастлив дикарь. Еще бы: их президент – мужик, и этот – мужик. Вот он, лик большевистской Совдепии. И они, такие вот, взяв власть, хотят стать хозяевами России? Немыслимо! Невозможно! Нет, надо, надо скорее в Сибирь…
– Ленина слушал, теперь Калинина довелось… Ох, слава те господи! – истово перекрестившись, продолжал между тем бородач. – Теперь в самый раз и домой, в Мануйлово. Сам-то ведь я, браток, из Сибири, – доверчиво пояснил он Терехову. – Да вот замешкался. Загостился тут у Платона Головина. Теперь охота назад. С эшелоном поеду. Уж больно все ладно вышло!
До судорог в пальцах сжимая браунинг в кармане ватника, чтобы сделать оружие незаметным, Терехов молча шагнул от Савелия прочь, в сторону хозяйственного двора: ему не о чем было разговаривать с этим счастливым сибирским бородачом…
3
Одним из тех, к кому по приезде в Сибирь следовало обратиться без опасения быть выданным советским властям, Верхайло под строжайшим секретом назвал Терехову сына оренбургского казака, есаула Ярскова.
– Умен и надежен, – сказал Верхайло. – Можешь на этого положиться…
Ярсков действительно был умен и надежен. После первого разгрома армии оренбургского атамана Дутова ему удалось бежать в Сибирь. Там он воевал в одной из частей колчаковской армии. А когда летом девятнадцатого года Колчак был разгромлен под Петропавловском, Ярскову снова пришлось бежать, теперь уже за Тобольск.
Голодный, небритый, оборванный, он в одной из маленьких северных деревень прижился в теплой избе солдатки Домны Суконцевой. Еще не старая, до предела уставшая за годы войны от вдовьего одиночества, добрая женщина сразу же привязалась к раненому, еле живому «солдатику». Она без труда записала его в волсовете своим «мужиком» Авдеем Суконцевым, всю зиму обхаживала, откармливала – не могла наглядеться. А когда в Сибири до самого Забайкалья утвердилась Советская власть, Ярсков отпросился у «женки» съездить якобы к папаше в Челябинск. Уехал – и не вернулся: вместо Челябинска он устроился агентом в Тобольской заготконторе, а месяцев через шесть перевелся в Омск.
Еще в деревеньке, живя у Домны, до ломоты в висках обдумывая, как теперь быть, он пришел к единственно верному в его положении выводу – не таиться в деревне, где ты у всех на виду и где рано или поздно тебя найдут. Отсюда надо бежать. Не домой в Оренбуржье, где тебя знают, но и не в новый медвежий угол вроде Домниной деревеньки, а в город. В самый большой: в толпу. Устроиться в городе под именем бедняка Суконцева на какую– нибудь небольшую должность, заслужить доверие начальства, а тем временем – поискать надежных дружков. Из таких же, как сам. А их найдется немало! Большевики – не надолго: лето двадцатого – все решит! Если же и оно не решит, то решит двадцать первый год: борьбе еще не конец, ей только-только начало…
В Омске, как и в Тобольске, мало интересовались тем, откуда и почему приехал сюда раненный на недавней войне Суконцев. Достаточно было того, что он сразу же проявил себя человеком дельным, сообразительным, безотказным. Готовым и на такую нелегкую, даже опасную по тем временам работу, как разъездной заготовитель местного потребсоюза.
Все лето двадцатого года, до самой зимы, разъезжал он с товаром, взятым на комиссию со складов Губсибпродкома. И всякий раз возвращался на базу в телеге или кошевке, доверху набитой продуктами и сырьем деревенского производства.
А за ним все громче тянулась слава оборотистого, преуспевающего заготовителя. Жестковат и прижимист, верно. Зато уж ловок что надо: где у другого и вполовину не выйдет, у этого выйдет на полных сто…
До начальства не доходило, что в торге с крестьянами их оборотистый «коробейник» был не только до жесткости неуступчив: ни вершка ситчика сверх положенного, ни лишней иголки или моточка ниток. Он был и очень словоохотлив.
– С вас, бородатых тюхтей, не так еще драть надо! – говорил он, не то издеваясь над мужиками, не то сочувствуя им. – Избаловала вас власть царя Николашки вольной торговлей. Ворчали на прежнюю власть… Советскую захотели? Ну вот – теперь погодите: новая – спуску не даст! Дурь из вас выбьет. Тем больше, что жрать в городах стало нечего, особенно в той России. Поэтому мы, то есть новые, и взялись за Сибирь. Потрясем вас как надо! Так что спорить насчет послабления вам теперь ни к чему…
После его отъезда в селах и деревнях начинались тревожные разговоры. Родился слух, будто комиссары начнут обирать крестьян до последнего зернышка, потом объявят – вначале пока в России, потом и во всей Сибири – новое крепостное право. Загонят всех поголовно в «коммуны», под одно одеяло. Тут мужику и конец…
Между тем заготовитель Суконцев – преуспевал. И в один из студеных октябрьских дней, когда из степных просторов за Иртышом на город неслась первая снеговая туча, его вызвал к себе сам председатель уездного отделения потребсоюза.
– Ну как, Суконцев? Дела идут? – спросил он, одобрительно поглядывая на подтянутого, ладно одетого во френч и галифе, заправленные в добротные сапоги, хорошо побритого молодца.
Тот скромно ответил:
– Стараемся, коли надо…
– Надо!
Председатель еще раз внимательно пригляделся к Суконцеву:
– Говорили мы тут, понимаешь, с секретарем. Третья годовщина подходит… чуешь? Октябрьский призыв! В партию тебе надо. Ты как?
Суконцев невольно дрогнул и, чтобы не выдать злой радости, на секунду потупил остро блеснувший взгляд своих серых глаз: вступить в РКП входило в планы его друзей по подполью.
– Да я-то бы что, – сказал он, как бы робея. – Возьмут ли?
– Возьмут. Сам рекомендацию напишу…
Начальник с минуту раздумчиво мял пальцами толстую мочку правого уха, потом снисходительно усмехнулся:
– Ладно уж, скажу и об этом. Должность тебе намечают. На повышение. Так что, брат, все одно к одному…
И вскоре Суконцев, он же Ярсков, занял действительно небольшую, но все же руководящую должность в Омском продкоме.
В те дни во взрывчатые, как динамит, деревни, села, станицы и уездные городки обширной Акмолинской области, куда входило тогда несколько губерний, включая Омскую, – еще кровоточащие после войны, поротые колчаковцами, колотые, резанные, покрытые, как синяками, свежими пепелищами, только что пережившие кулацко– белогвардейский мятеж и снова чреватые кровавыми мятежами, – в те дни сюда по строгому указанию Центра партийные организации края вместе с Сибревкомом, Сибпродкомом и командованием размещенных здесь воинских соединений и частей трудармии направили около двух с половиной тысяч коммунистов и активистов для всестороннего учета необмолоченного, оставшегося от прошлых лет в кладях и еще вполне годного хлеба, и тех миллионов пудов, которые были ссыпаны справными, хозяевами в закрома, и тех, которые спрятаны в тайных ямах и в заимках кулаками.
Надо было также учесть поголовье скота, коней и верблюдов, количество пригодных для сева земель, сенокосных угодий, исправных и нуждающихся в ремонте сельскохозяйственных машин и орудий. Проверить готовность к лету гужевого и речного транспорта, элеваторов, складов, мельниц, железнодорожных пунктов и пристаней. Привести все это в боевой рабочий порядок: зерно прошлых лет – обмолотить, собрать и отправить голодающим рабочим в Центр, пригодные для посева земли – засеять. После этого слаженно провести сенокос, уборку нового урожая, а затем – и сев озимых.
Надо было кормить страну, помочь ей встать на ноги, укрепиться и быть в заветный час готовыми к решающему прыжку из разбойничьего «обклада», который все еще замыкал революционную Россию железным кольцом блокады.
Среди коммунистов, посланных весной двадцать первого года для работы в деревню, оказался и член РКП Суконцев.
В степной уездный городок Славгород он явился в где-то добытой кожаной куртке и гимнастерке. Суконные черные галифе были заправлены в новые сапоги. На боку висел вложенный в глянцевитую кобуру револьвер. Все это было добротным, бросалось в глаза: на такого можно вполне положиться. Этот не подведет. Мужик, видно, опытный, деловой, бывал в переделках. Доверь ему что угодно – выполнит в срок и на сто процентов.
Именно на такое впечатление и рассчитывал Ярсков-Суконцев, явившись в Славгороде к председателю уездной чрезвычайной тройки Кузьмину.
У того уже сидело в душной, прокуренной комнатке трое уполномоченных, одетых, в отличие от Суконцева, простенько, кое-как. При его появлении все на минуту примолкли. Потом Кузьмин мельком, хотя и внимательно оглядел вошедшего с ног до головы. Довольно равнодушно, как показалось тому, сказал:
– Ага, еще один? Ну, садись…
Вид у славгородского комиссара был явно не комиссарский: длинный, худой, сутулый, с глубоко сидящими в глазницах серыми глазами, он к тому же еще был и медлителен. Похоже, что на пределе сил, ни отдыха, ни сна. «Где уж такому комиссарить? – с усмешкой подумал Суконцев. – Замотался, видать, вконец…»
Кузьмин между тем не торопясь прочитал удостоверение, врученное ему Суконцевым, молча положил бумажку на лежавшие перед ним на столе другие такие же бумажки и, как бы забыв о вновь пришедшем, обратился к смуглолицему, уже не очень молодому казаху, сидевшему за столом с краю, возле окна:
– Вот я тебе и говорю, Абдуллаев, пощупай прежде всего Алтынбаева. Его папаша свои табуны, говорят, во время отступления Колчака угнал далеко на юг, за кордоны. С анненковцами подался. А этот сынок его, Толебай, не пошел за отцом.
Кузьмин усмехнулся:
– Добро свое тут стережет. Надеется, что мы вот-вот и полетим вверх тормашками. Тем больше, что Анненков обещал вернуться. При первом опросе местными силами Толебай указал всего лишь один табун, да и тот из простых коней. И земли у него, мол, вовсе, считай, и нет: вокруг, говорит, не моя, а общинная, всех аулов. Однако слова – словами, дела – делами. Считается, может, и так, да получается на поверку не так. Обрати на это внимание…
Прокуренный, глуховатый голос, перханье, кхеканье, которые все время прерывали его медлительную, спотыкающуюся речь, окончательно успокоили, даже развеселили Суконцева:
«Этого опасаться нечего. Обвести его вокруг пальца – раз плюнуть!»
А комиссар между тем с таким же, как и к казаху, скучным напутствием обратился к другому уполномоченному – русскому рабочему Стрельцову. Только теперь речь пошла не о казахских аулах и баях, а о каком-то селе Алексеевском.
Третьему уполномоченному, загорелому до черноты матросу Кузовному, комиссар предлагал напрячь все силы, но обеспечить вначале полный сбор задолженного по разверстке хлеба, а потом, в ударном порядке, провести заготовку сена в степи за разъездом Скупино. И только после этого повернулся к Суконцеву.
Тот немедленно выразил всей своей ладной фигурой полнейшую готовность выслушать драгоценные наставления товарища комиссара. При этом издевательски подъелдыкивал про себя:
«Ну, ну, давай… поучи меня, дурака!»
Кузьмин был в прошлом путейцем, ремонтным рабочим на железной дороге под Петропавловском. Во время колчаковщины воевал в отряде красноармейцев на отбитом у белых бронепоезде. Затем восстанавливал железнодорожные пути. Командовал спецотрядом по борьбе с бандитизмом в районе станции Исилькуль близ Омска. В Славгородском уезде оказался впервые, но, будучи по характеру человеком практическим и упорным, постарался как можно быстрее и глубже вникнуть в задачи и дела уезда, не упустить не только главного, но и тех многочисленных мелочей, которые нередко значат не меньше, чем то, что видно с первого раза и вроде бы не требует особых усилий и уточнений.
Прибывшие сюда уполномоченные губпродкома сразу же почувствовали эту деловитую дотошность Кузьмина. Ее же вдруг с беспокойством почувствовал и Суконцев, когда комиссар начал неторопливо, даже как бы и неохотно расспрашивать его при всех: кто он? Откуда? Чем занимался прежде? Чем дышит теперь вообще?..
– Что-то мне с тобой не все ясно, – озабоченно заметил Кузьмин после довольно длинного разговора. – Так, значит, где и когда ты вступил в РКП?
– Я уже сказал, – нервно ответил Суконцев, – что к празднику в прошлом году.
– А зачем?
– Ну… как зачем?
В Суконцеве все на секунду как-то осело от растерянности и страха, однако он снова нашелся:
– Бороться с мировой гидрой!
– С гидрой? Ну, это ладно. Борись. А тут что будешь, в деревне?
– Хлеб выбивать по планам…
– Хм… «выбивать». У кого же?
– А кто его скрыл.
– Та-ак. Сам-то, забыл я, прости, ты откуда?
– Оттуда я, как сказал! – Суконцев неопределенно кивнул в сторону окна. – Из России.
– Россия она и тут.
– С-под Урала…
– Откуда с-под Урала?
– Ну это, – Суконцев назвал первое, что родилось в голове, – с-под Шиловки. Из деревни…
– Хм. Значит, крестьянское дело знаешь?
– До войны приходилось, как же. Да и когда работал от потребиловки, тоже приглядывался.
– Не густо.
Кузьмин раздумчиво пожевал что-то (похоже, что возникающие в голове сомнения) сухими губами, еще раз хмыкнул:
– Да ладно, раз уж прислали. Пока посмотрим, дело покажет. И если будет что неясно, приезжай, посоветуемся. С ним, с Абдуллаевым, тоже можно. – Кузьмин указал глазами на подтянутого смуглого казаха, одетого по-городскому в гимнастерку и брюки, закрученные внизу солдатскими зеленоватыми обмотками. – Он мужик опытный и надежный. Вы с ним будете, считай, соседями: ты в Мануйлове по ту сторону озера Коянсу, он по эту. При надобности на хорошем коне можно обернуться за один день…
Комиссар уже не в первый раз озабоченно поглядел на лежавшие перед ним бумаги.
– В общем, зря балакать нам нечего. Нынче же и езжайте. В случае срочной надобности я всегда здесь. А тебе, – вдруг обернулся он к успокоившемуся было Суконцеву, – я еще вот что скажу. Абдуллаева я, как надо, предупредил, подумай и ты: вокруг Коянсу, особо в Мануйловской волости, неспокойно. Весной потрепали мы банду батьки Сточного, да, видно, не до конца. Нет– нет и опять объявится, дикий черт. Так что, Суконцев, ухо держи востро, а наган на взводе. Бандюг укрывают – кто побогаче. Этим спуску там не давай. Чуть что – сообщай сюда. А то и сам действуй согласно создавшейся обстановке. Красноармейцев наш военком тебе выделил молодых. Прямо сказать – не обстрелянных. Однако же ничего: ты говоришь, что сам мужик боевой, обойдешься?
– Обойдусь.
– Притом учти, что Советская власть в Мануйлове не того… слабовата. Под дудку Износкова, ихнего богатея, пляшет. Сам-то Износков вроде притих: «Я, мол, не я, овца не моя». А думаю, что он и к Сточному имеет касательство. Кулак, он кулак и есть!
– Учту, – снова четко, по-деловому заверил Суконцев. – Нарочно устроюсь на постой к тому кулаку…








