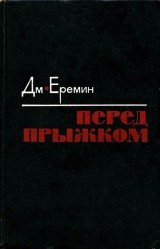
Текст книги "Перед прыжком (Роман)"
Автор книги: Дмитрий Еремин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
1
До приезда Копылова в Скупино затерянный в степи разъезд с глинобитным сарайчиком вместо вокзала был тихим, почти безлюдным. Степь простиралась вокруг от горизонта до горизонта. Лишь кое-где ее прорезали овраги, заросшие шиповником да бояркой. Плавно вздувались иссушенные солнцем холмы, сверкали малые и большие озера. А среди них возвышались обычные в этих местах колки – округлые рощицы тощих осин и берез с шапками сорочьих гнезд на гибких ветвях.
Из года в год степь менялась по ей присущим законам. Еще недавно бурая, неприглядная после зимы, весной она становилась ярко-зеленой, радующей многоцветьем от края до края. Потом вдруг жухла от суховеев, делалась мятой, желтой. А после июльских дождей зеленела опять. Но это была уже не весенняя зелень цветущего разнотравья, а зелень зрелых и жестких трав.
Июль и август снова высушивали ее. К тому времени уже на сотни верст вблизи деревень и сел поднимались горбатые стога сена. Они толпились в степи, как стада огромных животных, низко опустивших морды к земле да так и застывших в усталой, сытой дремоте в ожидании дня, когда осенние дожди в последний раз заставят зазеленеть степь густой предзимней отавой и они, как бы пришедшие сюда из допотопных времен на зимовку, наедятся отавой впрок – до нового лета.
В такую пору степь становилась зеленой и желтой, кроваво-красной от горько-соленых трав, и фиолетово-синей, и грязно-бурой, но все равно прекрасной для степняка – будь он крестьянин или кочевник.
Теперь здесь затаборились дружины косцов, темнели крытые камышом просторные шалаши. По вечерам повсюду окрест горели костры. Ночью лошади звучно фыркали под безоблачным звездным небом. А чуть розовел рассвет – между суховатыми гривками длинных узких увалов и в западинках возле озер – вновь начинали посвистывать косы. На просторных местах кружились по длинным эллипсам конные косилки. За ними до самого горизонта протягивались валки свежескошенной травы. Часть ее после просушки копнили и укладывали в стога до новой травы, остальное свозили к прессам, работавшим в разных концах степи от утренней зари до вечерней.
Как масло на горячей сковороде, с каждым днем все заметнее уменьшались, таяли стога – и те, что были сметаны только что этим летом, и те, что были навиты вокруг разъезда по всей степи еще в прошлое лето. Вскоре от многих из них остались лишь зеленовато-серые засоры. Другие – все ниже оседали к земле, прогрызаемые с боков или разворошенные вилами сверху, чтобы пойти в прессовочные машины.
Шумнее всего было возле разъезда. Вокруг трех мощных прессов, понуждаемые погонщиками, весь день устало ходили по кругу с завязанными глазами выносливые казахские лошаденки, таща за собой похожие на оглобли длинные рычаги ходовых передач.
У ближнего к вокзальчику пресса лошадь попеременно подстегивали, чтобы она резвее шла, неразлучные Зина и Клава. На шумной ярмарке в Славгороде они успели заложить свои места на верхних нарах мешками с мукой и другими продуктами так, что спать теперь приходилось почти упираясь лбами в крышу вагона. А кое-что из Филатычевых богатств у них еще оставалось в запасе.
Но это уже на дорогу домой, – решили девчонки, посовещавшись. Лишь бы скорее назад уехать. А как и когда уедешь? До дома – ух далеко, а всякие «заградиловки» – ух как близко! Вдруг да в теплушку войдет какой посторонний, взглянет: «Много, девки, везете…» Страшно об этом подумать… В Скупино обе ехали то замирая от страха, что именно так вот вдруг и случится, то чаще как бы почти невесомо паря на крыльях ликующей радости, оттого что, слава те господи, – наменяли! У каждой – пудов по двадцать белой муки. Да сало топленое в двух пузатых корчажках. Да по мешку отборных подсолнухов – будет что полузгать дома зимой. Да каждой по валенкам баба одна за пару царских пятисотенных бумаг отдала. Валенки – новенькие, по ноге. Придет зима, ничто нипочем…
Ходить целый день за лошадью под палящим солнцем было жарко, утомительно, однако девчонки работали добросовестно, в отличие от «рыжиков» – Половинщикова и Кобякова, которые были погонычами у второго пресса, где командовал рассердившийся после ссоры с Малкиным на весь свет Игнат Сухорукий.
У третьего, самого дальнего, «копыловского» пресса четырехногим «движком» ведали Филька и Вероника.
Железо прессов звенело и скрежетало. Ровные охапки сена одна за другой двигались по металлическим рамам к прессовой камере. Нажимные плиты туго стискивали их, и в это же время ловкие руки бригадиров успевали захлестнуть готовые кипы крест-накрест проволокой.
Полуторааршинные брикеты выталкивались из пресса на землю. Их подхватывали железными крючьями другие рабочие или казахи-подсобники, волокли двухпудовые кипы прочь – к другим спрессованным кипам.
Когда лошади в изнеможении останавливались, не в силах больше крутить скрипящие шестерни, их заменяли другими, и всякий раз при этом, разморенные жарой и утомительным движением по кругу, «рыжики» просительно обращались к Сухорукому:
– Игнат Митрич, ослобони! Сил наших нету! Пущай кто другой хоть на часик…
Но озлобившийся на весь мир Сухорукий сердито, почти исступленно кричал в ответ:
– Давай, говорю, давай! Поехал на сено? Вот и работай! Мы не враги, как считает Малкин. Ишь чего захотели! Я из вас лень-то выбью! Я докажу, кто из нас пролетарий! Давай поворачивайся…
И вновь час за часом выносливые лошаденки ходили по кругу, и снова «рыжики» покорно плелись за ними с погоночными дрючками в руках.
Ровно скрипели и, словно собаки, тонко повизгивали шестерни. Звенело и скреблось до блеска отшлифованное железо. Крутилась и схлестывалась в руках прессовщиков проволока. Тяжелые кипы сена вываливались на землю, к ногам подсобных рабочих, и вдоль вагонов, по всей длине разъездного пути, день за днем росли груды этих тяжелых, как камни, но остро пахнущих степью блоков и пирамид.
Большую их часть грузили на железнодорожные платформы для отправки туда, где была в них нужда. Из остальных выкладывались квадратные и высокие, как дома, вместительные закрома-времянки для приема урожая, ожидаемого из ближайших деревень и сел.
Руководивший работой уполномоченный Омского ревкома Тарас Кузовной – быстрый, жилистый, забывший о сне и отдыхе тридцатидвухлетний матрос в изношенных брюках клеш и мокрой от пота просолившейся тельняшке, с парабеллумом на правом бедре, – неутомимо мотался по степи на пегом коньке, подбадривал, подгонял, умолял и требовал:
– А ну, братва, веселей! Времени у нас нехватка: вот– вот и начнут подвозить зерно. Так что давай! Поднажми, ребята…
Лето стояло погожее и сухое. Солнце с утра выходило из-за широкого горизонта в чистое небо и потом весь день до заката плыло по нему открыто, посверкивая лучами на отполированных плоскостях машин, на убегающих за горизонт рельсах, а за разъездом – на обрамленных зарослями камыша зеркалах озер.
Там, над пресной и солено-горькой водой, кружились стаи диких гусей и уток. Они то сыпались с неба в воду, как будто кто-то бросал пригоршни черных семян, и тогда по ее зеркалам скользили тысячи серых и темных точек, то снова взмывали в небо и там кружились и перекликались, зовя друг друга в степь, на поля крестьян, на кормежку.
Машинист паровоза, время от времени пригонявший в Скупино цистерну питьевой воды и пустые платформы для загрузки их прессованным сеном, быстренько загонял паровоз с платформами на запасной путь, и пока рабочие загружали их, отправлялся со старенькой одностволкой к озерам. В шуме работы выстрелов не было слышно. Но час-полтора спустя машинист возвращался, увешанный дичью, усталый, но и счастливый. А перед тем как уехать, всякий раз оставлял Кузовному либо пару кряковых уток либо гуся.
– Подкормись, Михалыч, – говорил он при этом. – Небось с утра ничего не ел…
Юрты казахов, верблюды и лошади которых были мобилизованы для работы на этом разъезде, стояли в полуверсте от железной дороги на плоской сухой поляне между небольшим озерком и лесом. Одинаково одетые в поношенные бешметы, темные шельбары, с круглыми шапочками на бритых головах, степняки вначале казались приезжим похожими друг на друга, как близнецы, особенно в первые дни, когда каждое из становищ – рабочие – у вагонов, казахи – возле своих очагов – держалось особняком. Потом работа стала сближать их. Любопытство тянуло степняков к вагонам, рабочих – к юртам. Начались расспросы, общие разговоры, пошло обращение по именам. Вечерами возле вагонов стали засиживаться степняки, расспрашивая, что делается в России, а возле казахских юрт в час ужина засиживались рабочие, с наслаждением лакомясь варенными в кипящем кобыльем сале кусочками баурсака или колобками бараньего сыра, курта.
Особенно зачастил к казахским кострам прожорливый Филька.
Одновременно шел и обмен – не только с казахами, но и с крестьянами из ближних селений. Каждый день у состава шипели на сковородках яичницы, булькали в ведрах и в котелках мясные супы и каши, исходили паром закопченные чайники.
Подсаживаясь к кострам, загорелые до черноты степняки молча прислушивались к разговорам и песням, присматривались к тому, как едят москвичи. Один из них – низкорослый, неопрятный, с трахомными веками – особенно пристрастился к костру у бабьего вагона. Обращаясь то к одной, то к другой из женщин, скаля в улыбке желтые зубы и смачно причмокивая, он не то шутя, не то всерьез предлагал:
– Маладой, иди в женка. Кибитка есть, свой хата есть. Харашо будит, а?
Те отшучивались, а он, ничуть не смущаясь, настойчиво повторял:
– Деньги есть. Считай, теперь нету? Есть меня деньга. Лошадей тоже есть. Коров есть. Овца есть…
И показывал на пальцах сначала сорок, потом шестьдесят, а когда над ним начинали смеяться, то и двести лошадей и коров:
– Столько Мамбет есть, иди!
Филька с деланным сожалением объяснял ему:
– Глупые! Не хотят идти за тебя, Мамбет. Вон бабка Аграфена Коркина… видишь красотку? Она говорит: «Вымойся поди, тогда, может, выйду». Так ты и верно, пойди да мырни вон в то озеро, вымойся. Глядишь, бабка и согласится. И всего-то ей семь десятков. Зато знаешь, как она «Лазаря» тянет? Длиннее всех! Пойдет за тебя – ты тоже будешь тянуть…
Мамбет, улыбаясь, слушал, оглядывал баб одну за другой, чаще всего останавливая взгляд раскосых маленьких глаз на Зине Головиной или Клавке, тянулся пальцами к их загорелым крепким ногам и еще настойчивее предлагал:
– Тыща коней у Мамбет. Вся твоя будет. Юрта белый есть, многа-многа овца… иди!
Вероника вначале держалась особняком. Ее дорожных «кавалеров» – Константина и Свибульского – здесь не было, с остальными из вагона интеллигенции она не сдружилась, а к Зине с Клавой и к Родику Шустину еще не привыкла. Но не таков был Филька Тимохин, чтобы терпеть обособленность кого-либо из общей компании. Успев наменять на крестики в Славгороде и здесь мешков восемь муки, часть их уложив в изголовье на нарах, а часть, по разрешению Сухорукого, засыпав в тайник между стенками вагона, он теперь чувствовал себя «лихачом-богачом, которому черт нипочем». Бойкий на язык, лишенный застенчивости, он не постеснялся с первых же дней прибытия на разъезд перейти с Вероникой на «ты», пригласил ее «на довольствие» к общему костру, чем очень порадовал: одиночество тяготило ее, а навязываться самой – было не в ее правилах. Кончилось тем, что Филька стал как бы ее шутейным оруженосцем и ухажером.
Теперь и надоедливый Мамбет предпочитал садиться ближе к Веронике. Ей он показывал на пальцах уже не двести и не тысячу, а бессчетное количество лошадей и коров. Одетый в рваный ватный халат, с толстыми ногами в стоптанных ичигах, низенький и коренастый, с постоянно растянутым в неясной улыбке ртом, он вначале забавлял ее, как живой водяной или леший, и она иногда даже кокетничала с ним, если он начинал особенно настойчиво уговаривать:
– Ой, ой, хороший ты девка. Якши! Женка иди. Золото будет. Сыт-пьян будешь. Детка роди!
Вероника смешливо охала, откидывалась назад и кричала, вытирая рукавом веселые слезы:
– Епиходыч, милый, не могу больше! Уведи ты его ради бога! Рядом с ним сидеть невозможно: пахнет, как из помойки. А он мне – «детка роди»!
Мамбет невозмутимо смотрел хитрыми, маленькими глазками на нее, смотрел и на других смеющихся женщин, прищелкивал языком, толкал Фильку кулаком в плечо, показывал на Веронику:
– Продай. Твоя много дам, – и подносил к самому лицу растопыренную пятерню.
В один из вечеров оказавшийся здесь Фома Копылов неожиданно для всех сердито велел Мамбету:
– А ну, пошел отсюда! Давай-давай, говорю, откатывайся!
И в ответ на удивленные вопросы женщин пояснил:
– Тарас Кузовной говорит, что у этого гражданина совсем недавно были тысячные табуны коней, не говоря о скотине. Да и во время учета весной у него оказалось больше двух тысяч одних лошадей. Бай, одним словом. Жил как помещик. Первую жену, говорят, еще в прежние годы собственноручно прикончил: не понравилась…
Он повернулся к Веронике:
– Не понравитесь, прикончит и вас.
Вероника расхохоталась:
– Как интересно! Наконец-то есть здесь хоть один настоящий мужчина! А я для него – богиня! Одного слова достаточно, чтобы укротить его пыл!
Фома усмехнулся:
– Попробуйте. Только после не плачьте. А их, таких, здесь двое: этот да еще один, называется Толебай Алтынбаев. Посмотришь, нищий и нищий, а в самом деле…
– А этот где?
– Там, – Копылов указал в сторону казахского становища. – Бирюк бирюком, того и гляди выскочит из-за стога с ножом в руке…
2
Толебай действительно жил под присмотром красноармейца в становище и работал со всеми вместе. Его юрта – даже не юрта, а скорее нищенский шалаш-времянка из пяти жердин, обложенных сеном, – стояла особняком от юрт других степняков. И одет он был хуже всех. Не потому, что не во что было ему одеться, а потому, что это было как вызов. Вызов тем, кто низвел его, джигита и богача, до положения жалкого джетака, батрака. Вызов захватившим власть иноверцам урусам, большой-бекам, большевикам. Им нужны сено и хлеб – и он вынужден против воли служить им в этом. Им нужна земля, чтобы отдать ее бывшим его рабам, и они эту землю отняли у него. Не кто иной, как бывший джетак его отца Абдуллаев, взял эту землю и роздал нищим. Так пусть же и он, Толебай Алтынбаев, будет последним нищим. Самым нищим из нищих. Оборвышем из оборвышей. Пусть будет так…
Единственное, что еще сохранилось у него из прежних богатств, был таспих – четки, искусно выточенные неведомым мастером в священной Мекке из цветного благородного камня. Тридцать три теплых, кажущихся живыми драгоценных орешка бегут во время молитвы от пальца к пальцу. Тридцать три раза бегут они друг за другом. А сотый из них – кончает молитву, и она, горячо произнесенная про себя, сразу же возносится к всемогущему, милосердному аллаху, прося и требуя послать самые лютые кары на головы большой-беков.
Прежде всего – на голову Ашима Абдуллаева…
Шиит, не признающий священными никакие иные книги, кроме Корана, он с особенным рвением соблюдал здесь часы молитвы, и это приносило успокоение. Но вот однажды он близко увидел Веронику возле становища, где пасся табун мобилизованных для сеноуборки лошадей.
Кроме обязанностей погонычей, понуждающих ленивых коняг бойчее ходить по кругу, чтобы прессы все время были в работе, Зина с Клавой и Вероника с Филькой должны были также рано утром пригонять из табуна, пасшегося за рощей в полуверсте от разъезда, по паре отдохнувших за ночь лошадей, а вечером – отгонять их обратно в табун. И это оказалось для них, особенно для Вероники, в прошлом отличной наездницы, истинным праздником. С чем сравнишь удовольствие по-мальчишески вскочить на невзрачную, но привыкшую к вольному бегу лошадку, свистнуть или гикнуть изо всех сил, а потом на глазах улыбающихся казахов и завистливо подшучивающих знакомцев из эшелона промчаться от табуна версты две по степи, потом завернуть к разъезду или вечером лихо проскакать от прессов к табуну?
Оказавшийся на этот раз невольным свидетелем утреннего отбора лошадей для трех русских девок и худого, нескладного парня, Толебай пораженно остановился: какая одна из этих трех русских девок красивая девка!
Не девка, райская пэри!
Золотоволосая, синеглазая, стройная как тростинка..
Две другие девчонки уже уехали на своих конях, а она все уговаривала молодого табунщика Нури:
– Поймай мне того, тонконогого. Не бойся, Нури, я езжу хорошо: у нас были английские и арабские. Этот перед ними… смешно! Я только проедусь вон до того лесочка – и назад.
– Не-е, – отвечал Нури, улыбаясь и явно любуясь золотоволосой красавицей. – Амбай сильно злой. Баришна не лубит. Его и сам комиссар мала-мала боится…
– А я не боюсь! Ну что тебе стоит? Я сегодня даже во сне видела, будто скачу на Амбае…
Нури качал головой.
– Нелзя. Если Амбай разобьет такой девушка, мне комиссар голова оторвет. Я вместо Амбай дам тебе тот Бакси… сильно красивый, как сырмак…
И как ни настаивала упрямая пэри, Нури арканом – привязанной к длинному шесту веревкой – выхватил из табуна действительно похожего на сырмак – на пеструю, словно ковер, кошму, – белогривого конька, набросил на него старую, всю в узлах, веревочную узду. Огорченная девушка что-то сердито сказала ему, потом по– мальчишески вскочила на коня, отказавшись от помощи Нури, пронзительно вскрикнула – и понеслась от рощицы в степь.
Да-а, очень красивая девка, – подумалось Толебаю, и все в нем вдруг дрогнуло. Смелая и веселая девка. Наверное, сладкая девка. Девка без мужа, А он – в полной силе. Он должен иметь эту девку.
И в один из вечеров, после работы, Толебай изменил своему одиночеству.
В тот вечер к ним в становище пришел «потабуниться» Филька, друживший с Нури. На степь уже ложилась теплая беззвездная ночь. От недалекого леса катился осторожный, чуть слышный шорох: деревья и камыши у берега озера покачивал южный ветер. Мглистая стена леса выделялась на темном небе за матовой озерной водой, как верблюжий горб. Во тьме, за костром, фыркали стреноженные лошади, лежали уставшие за день верблюды, вытянув шеи с худыми змеиными мордами. Отсветы пламени делали стеклянными их длинные, внимательные глаза.
Филька едва ли не час сидел у костра и лакомился таявшим во рту баурсаком. Наконец Нури в последний раз зачерпнул из казана полную пиалу солоноватого, приправленного салом чая и еще ближе придвинул к Фильке черепушку с баурсаком. Тот взял пригоршню теплого, недавно сваренного в кобыльем сале теста, с натугой, но все еще и с наслаждением отхлебнул из пиалы.
Хозяева очага тоже пили истово, молча, держа чаши прямо перед собой. Их длинные жиденькие усы намокли в зеленоватой душистой воде. Они то и дело обсасывали их жирно поблескивающими губами. Огонь под казаном покачивался от ветра и шипел.
Разморенный теплом очага, баурсаком и чаем, а больше всего подчеркнуто добрым гостеприимством Нури и его земляков, Филька блаженствовал. Выпив четвертую пиалу, он положил ее перед собой дном кверху и так же, как это делали все, облизал свои пальцы, а потом вытер губы рукавом рубахи.
– Ух ты, как здорово! – сказал он, довольный, и громко рыгнул. – Так, братцы, жить можно. Это не то что у нас в Москве. Спасибо, отец! – обратился он к старому казаху, отцу Нури. – Чаек у тебя подходящий. Если не выгонишь, завтра опять приду. А пока, как у вас говорится, адью мерси салем алейкум!
…Толебай нагнал его на полдороге к вагонам.
Филька вначале перепугался: ему показалось, что этот страшный степняк, о котором сдружившийся с русскими Нури рассказывал с возмущением, как о бае-насильнике, сейчас будет делать «секим башка». Но оказалось, что Толебай очень просит ему помочь.
– В чем помочь?
Вот тебе раз! И этот метит на Веронику! Вскружила башки им девка. То один, то другой…
– Так, значит, ты насчет крали? – спросил Филька, принимая привычный вид шутника и рубахи-парня. – Это мы можем…
– Имя ее скажи, – не обратив внимания на шутейный тон парня, почти приказал Толебай.
– Имя ее особое: Вероникой зовут.
– Ве-ро-ни-ка, – с поразившей Фильку страстностью тихо и протяжно повторил Толебай. – Гурия рая! Ве-ро-ни-ка… кайяш матур ой! В жены ее хочу!
И парня опять поразила какая-то странная, нежная и жестокая страсть, с какой этот рослый, суровый «кыргыз» произнес вначале непонятные, а потом совсем уж откровенные слова. Но он все еще не догадывался, кто перед ним, что за прямолинейная злая сила скопилась в этом оборванном человеке, поэтому в прежнем тоне, хитровато подмигивая, будто Толебай мог это видеть в ночной темноте, поощрительно спросил:
– Может, желаешь познакомиться? Я это мигом!
Тот быстро бросил:
– Хочу!
– Только, брат, не задаром. Девка большого стоит!
– Ты плохой, – жестко выговорил Толебай, и Филька не столько увидел, сколько почувствовал, как резко дернулось его мощное тело: степняк не то хотел ударить его, не то так вот, рывком, уйти, но сдержался и глухо пообещал: —Лошадь получишь.
– Мало! – продолжая розыгрыш явно втюрившегося в Веронику степняка, деланно возмутился Филька. – За такую девку – и лошадь.
– Да, ты плохой, – опять жестко и презрительно повторил Толебай, и парень дрогнул:
– Ну, ладно, лошадь так лошадь. За знакомство, пожалуй, хватит. И, значит, мы так: девку с тобой знакомлю, а там уж как хочешь. Понравишься – хорошо, нет – ваше дело. А лошадь – моя!
– Лошадь твоя. Приведи завтра здесь… там вон.
– Заметано. Жди к вечерку у стога, который с краю. Но только, брат, чтобы все аккуратно! – добавил он, почему-то слегка пугаясь жесткого немногословия Толебая. – Чтобы ни-ни. Приведу, познакомлю – и все! Будь здоров.
Утром он рассказал Веронике о своем уговоре с Толебаем как о забавном деле, сулящем лишнее развлечение. И девушка согласилась:
– Бывший богач, хозяин здешних степей… интересно! Охотно с ним познакомлюсь…
Весь этот день Толебай работал молча, ожесточенно, поражая не только ленивых «рыжиков» и Сухорукого, но и трудолюбивых казахов тем, с какой неутомимой силой вонзал железный крюк в каждую новую кипу, как быстро волок ее к порожним платформам и почти без усилий швырял наверх под ноги рабочего укладчика.
Но и ушел он раньше других. Сухорукий хотел было сделать ему замечание, но удержался: после такой сумасшедшей работы мужик имеет право уйти пораньше…
Когда начало темнеть, Толебай тайком от неприятного ему Нури и других соседей по стойбищу не прямиком, а вдоль поросшей камышом излуки озера ушел к крайнему, еще не тронутому прессовщиками стогу. А немного погодя туда же от вагона отправились и Вероника с Филькой.
Толебай увидел их издали, и все в нем круто подобралось, хотя внешне это не отразилось никак. Разве только быстрее задвигались пальцы, перебирая драгоценные бусины таспиха, да резче пролегла черта между густыми бровями, взлетающими от переносицы к вискам.
Когда Вероника была уже близко, он сделал от стога навстречу ей несколько крупных, твердых шагов и неподвижно застыл на месте – сильный, статный, знающий себе цену, уверенный и в своей мужской красоте.
Почти нищая, пропахнувшая потом старая одежда не могла скрыть и не скрывала, а лишь подчеркивала силу и статность его фигуры, выражение мужества и властности на его красивом смуглом лице. Он это знал и ясно видел теперь, следя за тем, как девушка медленно, почти робко, как ему казалось, с забавным выражением полудетского любопытства на белом лице, приближалась к нему.
«Моя красота замечена ею, – довольный, подумал юн. – Гурия не могла ошибиться в том, что здесь перед ней стоит не джетак, а хозяин, мужчина мужчин, удостоивший ее красоту вниманием…»
Он уже не видел ни Фильки, наблюдающего за ним с широкой ухмылкой на круглом лице, ни стогов вокруг. Не слышал и шума, доносящегося из вагонов. Он видел и слышал только ее, стоящую перед ним и такую доступную, только протяни руку – и она твоя. И очень удивился, даже оскорбился, когда совсем рядом раздался Филькин веселый голос:
– Ну, что я говорил? В жены тебя берет!
Этот противный голос вернул Толебая из состояния невыносимой, наполненной звоном крови, бешеной глухоты. Дрожь, которая помимо его воли стала было бить его, толкая на безрассудство, так же быстро ушла, как и пришла. Он скрипнул зубами и с ненавистью поглядел на Фильку.
Но тот не обратил на этот взгляд никакого внимания.
– Даст мне за тебя, я думаю, кроме лошади еще и пару верблюдов, – продолжал шутейно уговаривать Веронику парень. – А может, и штук десять барашков. Помещиком сразу сделаюсь, истинный бог!
Вероника весело засмеялась. Чувство чисто женского удовольствия оттого, что ты нравишься, и нравишься страстно, пусть даже такому инородцу, было вместе с тем я сознанием веселого, в сущности глупого, но и очень забавного приключения: «Боже мой, как странно и интересно! Каменный век! И я в нем – богиня!»
– Это правда, что я тебе нравлюсь? – спросила она Толебая, все еще кокетливо улыбаясь.
– Да, – коротко и гневно ответил тот.
– И ты хочешь взять меня в жены? – Она совсем близко подвинулась к Толебаю, с веселым любопытством оглядывая его с ног до головы. – Ты?!
– Я, – ответил он глухо.
Страсть, вдруг охватившая все его тело, на секунду лишила голос обычной силы.
– А почему ты выбрал именно меня? У нас в эшелоне много других женщин, – кокетливо удивилась она.
Чувствуя, как все в нем бешено напрягается для любви, Толебай молча глядел на нее, не отрывая жадного взгляда.
До этой минуты он видел ее только издали, мельком, когда вместе с другими приезжими, чаще всего с этим вот парнем, которого Толебай, как пустого и глупого болтуна, не взял бы и в пастухи, она проходила мимо стогов, не замечая его. Теперь Вероника стоит с ним рядом. От нее к нему исходят дивные ароматы духов. Нежные ямочки на щеках – невинны, как у ребенка. Голубые глаза на белом лице – подобны цветам. Губы – розовы и пухлы. Они, наверное, удивительны в поцелуях…
– Ты не ответил мне, – привычно отмечая про себя, что нравится ему, и невольно польщенная вниманием такого страстного жениха, уже совсем кокетливо, почти капризно спросила Вероника. – Почему ты выбрал именно меня?
– Ты мне нравишься. И я беру тебя в жены! – с трудом сдерживаясь, чтобы не схватить ее и не унести на руках в степь, глухо ответил Толебай.
Вероника опять засмеялась:
– А если я соглашусь принять твое предложение? Ты мне тоже нравишься….
Он уже видел, что девушка не принимает его всерьез. И так же мгновенно, как перед тем его охватила страсть, так теперь его охватила расчетливая, привычная злость. Пусть девчонка смеется, пусть пока не принимает его всерьез. Когда он увезет ее в степь, она все поймет… только бы в степь, на волю!
– Если ты согласишься, тогда мой родич Мамбет, которого ты знаешь, – начал он резко…
– Да, знаю.
– Он приведет и скажет, где будут ждать вот этого парня лошадь, верблюды и овцы.
– И ты не обманешь?
– Нет.
– Ты, значит, богатый?
Он снисходительно усмехнулся.
– В этой степи нет ничего, что я не мог бы купить.
– В том числе и меня?
Толебай вспыхнул, скрипнул зубами, но промолчал.
– Тут дело ясное, – принимая все за игру и очень довольный тем, что занимает в этой игре одно из центральных мест, снова вмешался Филька. – Сомневаться не приходится. Раз сказано, что Мамбет пригонит коня да верблюда, так уж тому и быть. Ты, Ника, зря не смущайся. Толебай, как видишь, красивый, влюбленный… чего еще?
– Ну что же, – делая вид, что все еще сомневается, но уже готова поверить, тоже включилась в игру Вероника. – Если выкуп такой хороший, я, может быть, соглашусь…
Бушующая в Толебае то скрытая, то безудержно рвущаяся наружу волна бешеной плотской страсти опять ударила в голову.
Ему, полному дикой могучей силы степняку, человеку древнего рода и богачу, привыкшему к власти над другими людьми, к раболепию слуг и доступности женщин, а теперь по воле большевиков третью неделю живущему здесь после суда над Архетом, среди разного сброда, под строгим присмотром, и не в раздольной степи под всевидящим оком аллаха, а возле железной дороги, по которой день за днем дымящие паровозы тянут длинные поезда, вся эта жизнь подневольного человека, без прежней роскоши и свободы, без женщин, которые теперь лишь сладостно снятся ему по ночам и от этого живые становятся только желаннее, – ему сейчас Вероника казалась самой прекрасной, самой желанной, сулила возможность скорейшего утоления страсти… может быть, даже сейчас же, теперь же, пусть на глазах у этого глупого парня.
Откровенная шутливость девчонки в конце концов не имеет значения: все встанет на свои места потом. Все встанет. Девчонка – прелестна. Тело ее красиво. Шея – как у весеннего лебедя. Груди подобны спелым плодам. Ноги – стройны и округлы…
От мучительного напряжения воли, которая едва удерживала его от того, чтобы и в самом деле не прыгнуть и не схватить лукавую пэри, – ему стало душно. Он тяжко повел налитыми силой плечами, глухо выдавил:
– Я повышаю цену выкупа вдвое…
Девушка с шутливо-торжествующим видом взглянула на Фильку:
– Тогда тем более…
Тот перебил ее:
– Правильно! За такую комиссию, брат, меньше нельзя!
– Будет и десять барашка, – с презрением подтвердил Толебай.
– Ух, молодец! – восхитился Филька, уже всерьез соображая, как бы действительно получить на таком сватовстве с десяток жирных барашков. Лошадь с верблюдом ему ни к чему, а вот барашки…
– Тогда, значит, братцы, так, – деловито обратился он одновременно к Толебаю и Веронике. – Завтра вечером окончательно встретимся тут же, у стога. Как кончим работу, как перед этим твой Мамбет приведет мне барашков, так тут мы и встретимся. Как говорится, мой товар – твои деньги….
…Но эта вторая встреча у стога не состоялась.
О ней узнал Тарас Кузовной и не просто рассердился, а рассвирепел и запретил даже думать о чем-то подобном.
– Ишь чего выдумали. Такое в башку придет только спьяну, да и то после штофа хорошего первача! – ругал он виновато ухмылявшегося Фильку. – Как тебя тут дразнят? «Битым»? Не-ет, мало тебя били! Надо было лупить, как Сидорову козу, только тогда, глядишь, поумнел бы! Все ему шуточки! Я тебе пошутю! Ты у меня вылетишь отсюда в Славгород! Там с тобой разберутся, долго думать не станут!
Все еще ругаясь, он пошел к прессам, где молчаливый, весь день сосредоточенно думающий о чем-то Толе– бай споро, но без вчерашнего возбуждения, скорее даже равнодушно, таскал железным крюком прессованные кипы сена к порожним платформам.
Полный предостережений и угроз выговор начальника он выслушал стоя, не проронив ни слова. Лишь и без того хмурое, до черноты загоревшее лицо его становилось все жестче и темнее, да указательный палец ритмично постукивал по отшлифованному сеном толстому железному крюку, будто Толебай все время мысленно перебирал свои драгоценные четки, посылая аллаху молитву за молитвой – в отмщение ненавистным большевикам.








