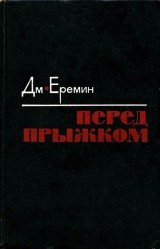
Текст книги "Перед прыжком (Роман)"
Автор книги: Дмитрий Еремин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Плешков осуждающе крякнул:
– Э-эх-ма!
Он не впервые был с Лениным на охоте, знал эту слабость Владимира Ильича, но так и не смог к ней привыкнуть: «Как это так? Разве может настоящий охотник позволить дичи уйти из-под верного выстрела? Лиса еще ладно, зачем она Владимиру Ильичу? Так нет же, бывало, он и не всякого зайца бил. Не во всякого косача стрелял. А в наше голодное время оно бы как хорошо: заяц или косач это уже не просто пища, а „деликатес“, как говорит разумница Марья Ильинична, когда внесешь, бывало, зайчишку в ихнюю кухню. Ну, что из еды взял с собой товарищ Ленин хотя бы нынче на охоту? Три ломтика хлеба с маслом да свою постоянную жестяную коробочку с мелко наколотым сахаром – на весь день! Да еще норовит угостить других. А если бы дичь?.. Да что говорить! Пускай лиса не еда, уж раз приехали, раз зверь пошел на тебя, стреляй! Не то, выходит, зазря тут по снегу лазил, за тем кустом цельный час по колено в снегу стоял? Эх, Владимир Ильич, Владимир Ильич… Как же вы так, ей-богу!»
Еще раз огорченно крякнув, Плешков отошел к кустам, внимательно оглядел оставленный зверем след и, когда все охотники собрались, обрадованно крикнул:
– Из обклада она не вышла! Сейчас мы ее еще раз нагоним. Давай, Никита Степаныч! А уж вы, Владимир Ильич, – обратился он к Ленину, – теперь постарайтесь. Приедем пустые – чего мы скажем в Москве? Над нами смеяться станут: опять, мол, проездили зря? В гараже у нас мужики надсмешники – спасу нет!
Красное, обветренное лицо Плешкова выражало такое глубокое огорчение, что Ленину стало жаль его. Он сказал со смущенной, почти виноватой улыбкой:
– Не хотелось в нее стрелять, уж очень была красива…
Из мутного неба по-прежнему сыпался легкий снежок, все было как бы опущено в тишину, когда нетерпеливые гонщики и охотники вернулись на свои исходные позиции. Но прежнего волнения Ленин уже не испытывал. Теперь он твердо решил, что стрелять не будет. Зачем губить красивого зверя? В этих местах лиса никому не мешает и не приносит вреда. Повсюду крохотные двоеточия мышиных следов, пусть зверь мышкует себе на здоровье!
И когда почти совершенно так же, как в первый раз, но уже усталая, потерявшая блеск лиса показалась из– за куста перед самым прогалом и прежде всего, утоляя жажду, рывком прихватила зубами снег, Владимир Ильич даже не потянулся к ружью, положенному на упругие ивовые ветки. Он просто стоял и любовался ею, теперь уже не столько красивой, сколько жалкой, затравленной, неспокойной.
В конце февраля у лис гон, весной – родятся лисята. Здесь корма им хватает. И, может быть, той зимой, если снова удастся сюда приехать…
«Сегодня тебе повезло, да ну же! – мысленно уговаривал он лису, досадуя на ее ненужную сейчас осторожность. – Воспользуйся этим и уходи. А то слышишь?»
Взглядом, как будто лиса могла это видеть, он указал туда, откуда все сильнее докатывались людские голоса.
Но и на этот раз инстинкт не позволил лисе рискнуть. То ли она не смогла забыть еле приметный, но испугавший ее блеск ружейного ствола за кустом в тот первый заход, то ли порывом ветра к ней донесло вдруг запах железа и человека, только она, почти волоча по снегу пушистое брюхо, опять миновала прогал и скрылась.
Не успел огорченный Владимир Ильич несколько раз переступить с ноги на ногу и размяться, как слева от него раздался не очень сильный, но весьма красноречивый – единственный – выстрел.
Стрелял, по всей видимости, не Рудзутак. «Близорукий Ян Эрнестович с его вечно запотевшими окулярами, – решил Владимир Ильич, – одним выстрелом, конечно, не обошелся бы: пока увидит зверя, пока торопливо протрет свои стеклышки… Лису уложил, разумеется, Круминг. Так-с… значит, переосторожничала, побоялась прыгнуть через флажки. А жаль, могла бы уйти…»
…Год спустя в «Заметках публициста», осуждая себя за якобы излишнюю осторожность во время критики меньшевистствующих итальянских «левых», Ленин вспомнит эту охоту и эту лису.
Он напишет об этом так:
«Говорят, самым надежным способом охоты на лис является следующий: прослеженных лис окружают на известном расстоянии веревкой с красными флажками на небольшой высоте от снегу; боясь явно искусственного, „человеческого“ сооружения, лиса выходит только тогда и только там, где эта „ограда“ из флажков приоткрывается; а там ее и ждет охотник. Казалось бы, осторожность для такого зверя, которого все травят, качество самое положительное. Но и тут „продолжение достоинства“ оказывается недостатком. Лису ловят именно на ее чрезмерной осторожности».
И тут же добавит:
«Политические уроки даже из наблюдения такой тривиальной вещи, как охота на лис, оказываются небесполезными: с одной стороны, чрезмерная осторожность приводит к ошибкам. С другой, нельзя забывать, что если заменить трезвый учет обстановки одним „настроением“ или маханьем красными флажками, то можно сделать ошибку уже непоправимую; можно погибнуть при таких условиях, когда хоть трудности и велики, но гибель ничуть, ни чуточки еще не обязательна».
Это будет сказано и о том, что на небывало трудном пути от разрухи к победе социализма, в окруженной врагами стране, большевики Советской России, приняв решение о временном отступлении в связи с переходом к нэпу, не поддались ни отчаянию, толкающему на безрассудства, ни сковывающей волю робости, смогли и смогут трезво учесть в дальнейшем, «где, когда и насколько надо отступить (чтобы сильнее прыгнуть)…»
7
Наспех позавтракав, секретарь Московского уездного комитета партии Иван Николаевич Веритеев лишь на несколько минут заглянул в свой рабочий кабинет – скудно обставленную небольшую комнату в трехэтажном здании на спуске от Садово-Сухаревской к Самотеке, – чтобы напомнить своей помощнице, комсомолке Тоне, о некоторых неотложных делах, за которыми необходимо проследить в его отсутствие. И сразу же отправился на Казанский вокзал: надо было срочно ехать на завод Мак-Кормиков, где началась очередная «буза», затеянная не без подначки председателя заводского комитета Драченова.
Вчера митинговали, позавчера митинговали, сегодня, судя по всему, тоже будут митинговать. Секретарь заводской партийной ячейки Платон Головин – мужик серьезный, да не вовремя заболел. А тут и здоровому не очень-то просто справиться с митинговщинами. Партийная прослойка на заводе едва дотягивает до трех процентов от общего числа рабочих. А их – больше всего деревенских, полу крестьян. Тех, кто не нюхал пороха на фронтах, не получил боевой пролетарской закалки, не разбирается в обстановке. Оттого и «бузят» они постоянно. Теперь вон жалуются на то, что сняли их с «ударного» пайка. А что поделаешь? Всем не сладко.
С осени и до конца зимы завод выполнял заказ Совнаркома по выпуску сеялок и плугов для посевной наступившего двадцать первого года. И пока этот план выполнялся, рабочим шел ударный паек: 45 фунтов серой муки, 15 фунтов квашеных и мороженых овощей, фунт соли, четверть фунта мыла и две коробки серных спичек в месяц. Теперь, как и следует по закону, перевели опять на обычный паек. Потерпеть бы… Ан нет! Этим сразу же и воспользовались говоруны вроде председателя завкома Драченова.
Тот мнит себя чуть ли не вожаком, а собственного «бога» в голове нет и не было. Да и откуда ему быть у недавнего торгаша – «картофельника» из деревеньки Панки? – сердито спрашивал себя Веритеев. – Вот и стал сторонником модной сейчас «рабочей оппозиции», в теоретиках которой гордо ходит председатель ЦК профсоюза металлистов Шляпников…
В тот день, когда выбирали завком, Веритеева в Москве не было. С очередной партийной мобилизации он вернулся позднее. «Однако знали же коммунисты завода, а тем более Платон Головин, что представляет собой этот Драченов? Постоянно вертелся на всякого рода митингах, которыми сейчас увлекаются такие субчики под видом необходимости „выявить правду в свободном споре“. А если взять этого молодца за главную жилу, то вся его „правда“ в несогласии с правдой ЦК! Вон оказался в „рабочелюбцах“, как окрестил их товарищ Ленин. Пустил по заводу слух, будто добьется для „своих“ рабочих присылки продуктов и носильных вещей прямо из Америки: сам мистер Гартхен дал-де ему такое обещание!
Хорош, ничего не скажешь. На этой дури и въехал в завком, выдумкой и купил голоса рабочих во время выборов. А бюро во главе с Платоном не сумело тогда же „раздеть“ болтуна. Прошляпили шляпниковца. Вот и спеши теперь на дачный поезд, проводи совместное заседание партбюро и драченовского завкома, увещевай митинговщиков, усмиряй их бузу…»
Раздумывая об этом, худой длинноногий Веритеев продвигался размеренным солдатским шагом по скользким тропинкам среди сугробов, заваливших в ту зиму Москву, мимо наполовину растащенных на дрова пустующих магазинчиков и ларьков совсем недавно буйной, а теперь вот уже два месяца как прикрытой спекулянтской Сухаревки. Среди уныло сгорбившихся, засыпанных снегом ларьков то тут, то там еще воровато шмыгали какие-то личности, предлагая товары из-под полы «дамам и господам», закутанным в шали и дорогие, но уже потерявшие прежний вид меховые шубы.
Но это – остатки. Старая Сухаревка с декабря прикрыта, кончилась. Грузная Сухарева башня возвышалась теперь над горбатыми крышами пустых магазинчиков и ларьков, как севший на мель и покинутый командой дредноут. Из-под нее, сквозь широкий арочный проезд, со стороны Сретенки в сторону Мещанской или от Мещанской в сторону Сретенки, время от времени выскакивали заморенные извозчичьи рысаки, впряженные в некогда дорогие, как и те шубы на господах, а теперь обшарпанные и все же фигурные санки. Торопливо семенили по извилистым, узким тропкам, пробитым в снегу, кое-как одетые пешеходы.
Ясное солнечное утро лишь подчеркивало убожество привычной картины, и Веритеев старался больше глядеть себе под ноги, чтобы не поскользнуться и не упасть.
Плата за проезд в трамвае, за жилье и другие городские услуги еще только предусматривалась в решениях Моссовета, каждый свободно ездил на чем и куда хотел. Поэтому нечего было и думать втиснуться в переполненный трамвай, чтобы добраться до привокзальной Каланчевской площади. Привычнее и проще дошагать туда на своих двоих. Тем более что после недавних метелей установились погожие теплые дни. Идти в такое утро – одно удовольствие. И если бы не спешка, не эта необходимость попасть на ближайший поезд, шел бы да шел себе, грелся бы на ходу после холодной ночи в нетопленной комнатенке.
Миновав ограду Шереметьевского странноприимного дома (несколько лет спустя он станет центральной станцией медицинской помощи им. Склифосовского), а затем и высокую стену Спасских казарм, густо исклеванную пулями еще в Октябрьские дни да так и не замазанную с тех пор, он вышел на кривую Домниковку с ее воровскими и прочими притонами, возле которых даже и днем бывает небезопасно, спустился к проходу под насыпью окружной железной дороги к вокзалу и вскоре уже размашисто, как всегда, шагал по деревянной платформе к вот-вот готовому отойти пригородному поезду.
Поездки по партячейкам «своего» уезда (одного из пятнадцати, на которые в те годы была разделена Московская губерния) зимой не доставляли Веритееву удовольствия. За ночь нетопленные вагоны промерзали до последнего шурупчика, пар от дыхания пассажиров клубился в них с утра как дым, оседал на окна и стенки льдистой игольчатой изморозью. К исходу зимы здесь нарастали бугристые снежные шубы, и только там, где люди пытались протаять на окнах круглые смотровые глазки, чтобы не пропустить свою остановку, посверкивало солнце. Да и то лишь когда еле-еле ползущий поезд останавливался у открытых свету дачных платформ. Потом он натужливо трогался, с боков опять надвигались высокие заслоны сосен, состав двигался между ними, как в темной траншее, и все за окнами снова уныло меркло.
Веритеев к такому движению уже привык за те шесть с лишним лет – вначале германской, потом гражданской войны, и особенно за последние три года, когда приходилось по поручению партии мотаться на поездах, в том числе на товарных, то на фронты и подавление мятежей, то на заготовку дров и хлеба для голодной, мерзнущей Москвы, а теперь вот и в подмосковные партячейки. Он даже научился использовать неизбежный и нудный час пути для обдумывания предстоящих дел, чаще всего очередного доклада о международном положении. А выступать с такими докладами теперь приходилось еженедельно по пятницам.
На этот раз медлительность поезда показалась ему особенно тяжкой. С трудом дозвонившись вчера на завод, назначив на утро совместное заседание завкома и бюро партячейки, он теперь нетерпеливо поглядывал в «глазок» затянутого снежной шубой окна и злился не столько на медлительность поезда, сколько на себя и на Платона Головина.
Прошляпили шляпниковца! Упустили из виду возможность такого самостийного поступка, как отказ пред– завкома Драченова выполнить важное решение Совнаркома и ВСНХ! Вот и пожинай теперь лебеду вместо ржи… «Фу, черт! Ну тяни же, тяни! – перебивая тревожный ход мыслей, подбадривал он натужливо постанывающий от усталости вагон, за окнами которого вместе с дымом проносились черно-красные хлопья угасающих на ветру искр. – Всю душу мне вымотал, нету сил!»
Поезд наконец подполз к знакомой станции.
8
Почти одновременно с ним, всего тремя – пятью минутами раньше, на соседний путь был принят прикативший издалека состав из теплушек.
Веритеев хорошо знал эти длинные теплушечные поезда: именно на таком два месяца назад он в последний раз вернулся в Москву, проехав шестьсот с лишним верст за две недели…
О том, что это идет состав из приспособленных для перевозки людей товарных вагонов, можно было только догадываться по астматически пыхающему из трубы жидкому дыму, казалось, вот-вот готового развалиться паровоза. Все остальное скрывалось под бугристой, судорожно шевелящейся массой людей с мешками, корзинами и узлами – сотен людей, облеплявших крыши, тормозные площадки, буфера и стяжки между вагонами. Издали такой поезд казался телом гигантской доисторической сороконожки, мечущейся в предсмертной агонии по мерзлой земле, а бугристая сыпь людей и мешков на ней – разбухшими от тифозной крови скопищами неистребимо плодящихся насекомых. Лязгая всеми суставами, «сороконожка» еле ползла по рельсам, а впереди ее поджидали новые толпы голодных, неистово деятельных людей, называемых в те годы позорным и горестным именем: «мешочники». Одни сваливались с крыш и площадок, из люков и с буферов на землю и разбредались по ближним селениям, другие лезли на их места, дрались за каждый вершок в вагоне или на крыше, втискивались в любую щель между уже прижившимися здесь другими людьми. И все это с неистовой руганью, с плачем и криками или молча – с железно сцепленными зубами.
Не в силах идти, но и не в силах стоять, паровоз исступленно взвизгивал, долго тыкался взад и вперед, выбрасывая из поднятого к небу горла клубы искр и дыма, пока наконец не трогался с места и не оттаскивал многочленное тело состава от станционного здания.
Оберегая Москву от эпидемии холеры и тифа, такие составы в столицу не пропускали: здесь, в пятнадцати верстах от Москвы, его поставят на запасный путь, выскоблят, промоют карболкой и только тогда перегонят на Сортировочную, чтобы некоторое время спустя снова отправить на юг, на запад и на восток. А пока с его крыш, с тормозных площадок, из широких дверей теплушек грузно вываливались люди. Скопище тех, кто колесил день и ночь по стране в поисках хлеба.
Несмотря на привычку к таким картинам, Веритеев со смешанным чувством осуждения и сочувствия некоторое время вглядывался в толпу приехавших с этим поездом, прежде чем спрыгнуть с площадки пригородного вагона. Толпа валила к вокзалу прямо по путям, чтобы отсидеться в тепле, дождаться дачного поезда, следующего в Москву. И только местные двигались вдоль путей, за станционную водокачку, в поселок – к знакомым или домой.
Один из идущих в поселок показался Веритееву знакомым: складный, размашистый паренек. И явно в Платоновой шапке, из-под которой торчат светлые, соломенного цвета, почти белые волосы. «Антошка? Ну так и есть: младший Платонов сын. Ишь ты как ловко проталкивается сквозь толпу. Спешит скорее выбраться за водокачку, Откуда-то домой вернулся. А мешок за спиной – пустой. Похоже, что зря проехал, вернулся домой ни с чем…»
Когда пригородный поезд задергался, чтобы следовать дальше, Веритеев спрыгнул с площадки на истоптанные пути и медленно поднялся по скользким ступенькам на переходный мостик. Отсюда он любил прежде всего поглядеть в ту сторону, где негусто, но все же постоянно дымила труба «его», «родного» завода.
Там он был избран в семнадцатом году председателем первого заводского комитета, стал начальником боевого рабочего отряда, принимал участие в захвате этой железнодорожной станции, а также почты и телеграфа в поселке. Был председателем партийной ячейки, вел борьбу за соблюдение американцами советских условий труда в цехах. Как потом ни пытался злопамятный мистер Гартхен освободиться от него под разными предлогами, как ни старались спихнуть его и разные горлопаны из меньшевиков и эсеров – ничего у них не получилось: Веритеев продолжал работать как один из опытнейших инструментальщиков завода и одновременно стоять во главе небольшой, но сплоченной большевистской ячейки, пока не пришлось, как и многим другим, отправляться на фронт, потом – раз за разом – по неотложным партийным мобилизациям и делам. Когда в конце двадцатого года вернулся в Москву, губком распорядился по-своему; вначале избрали членом, а затем и секретарем Московского уездного комитета. Теперь – в который уж раз? – по указанию губкома приехал сюда, в родные места, расхлебывать заваренную Драченовым кашу…
Когда он спустился с мостика вниз, на привокзальную поселковую площадь, кто-то внезапно толкнул его в бок.
– Дядька Веритеев, ты?!
Растянув в улыбке широкий лягушечий рот с дыркой вместо одного из передних зубов и будто ожидая за свой толчок по меньшей мере награду, перед Веритеевым стоял приятель Антошки Головина, помощник пекаря в заводской пекарне Филька Тимохин. В давно изношенном самодельном пальтишке из солдатского сукна, в давно отслужившей свой век солдатской же серой шапке, с тощим мешком за спиной, Филька был явно из тех, кто только что приехал в теплушечной «сороконожке».
Веритеев хорошо знал отца паренька, Сергея Тимохина, много лет работавшего в заводской литейной, недавно убитого бандитами. Знал и Фильку – суматошного, с дурашливыми ухватками… а что с него взять? С раннего детства – бедность да темнота, война за войной. Отец вернулся с германской еле живой, теперь – совсем без отца, с больной матерью. За короткую жизнь всего нахватался, и доброго и дурного. Считает себя грозой буржуев и «спекуляг», а при случае сам не прочь схватить, что «плохо лежит». Стихия…
Веритеев подумал об этом привычно, мельком, но встрече невольно обрадовался: что ни говори, а тоже заводский, свой.
– Откуда? – спросил он, здороваясь.
– Откуда и все! – Обернувшись в сторону состава, где еще толпились люди с торбами и мешками, Филька безнадежно взмахнул изодранной варежкой: – Ездили с Подсолнухом за хлебом.
– С каким подсолнухом? – не сразу понял Веритеев..
– С Антошкой Головиным. Хотели на Урал… ан я и до Волги не добрался. Сошел по дороге…
– С чего же так?
– А с того, что какой-то бандюга ночью меня обокрал. Менять стало не на что: все подчистую выкрал! Искал я его по дороге и вот наконец нашел! «Отдай», – говорю. А он ни в какую, талдычит свое: «Не брал». А как не брал, если носом чую, что взял: пахнет моим мешком на версту! Ну, я хотел было силой, а он мне хрясь под дыхало… гляди вот.
Филька стал было расстегивать старое, замызганное пальтишко, но Веритеев остановил:
– Не надо…
– И верно, – легко согласился парень. – Как даст, я сразу с катушек долой! Пока очухался, босяка уж и след простыл. – Филька ожесточенно сплюнул. – Пришлось самому у раззявы бабы вот этот мешок спереть.
Он сильно дернулся всей спиной. Висевший на веревочных лямках мешок тряхнуло, что-то в нем звякнуло, вскинулось и затихло.
– А что в том мешке? – протянул он уныло. – Одни слезы. Лучше бы и не ездить…
– Да-а, видно, не очень-то у тебя получилось. И бедную бабу оставил без ничего, – недовольно сказал Веритеев. – Выходит, ты сам не лучше того бандюги.
– Так я же с голоду бы подох! – обиделся Филька. – Выхода не было. Да и что я у бабы взял? Тоже мне – прибыль! – Он снова встряхнул мешок, безнадежно махнул рукой.
– А что у Антошки? – спросил Веритеев.
– Не знаю. Наверно, дальше поехал. К уральским казакам. Оттуда уж, думаю, привезет! – не скрывая зависти к удачливому приятелю, добавил Филька и даже вздохнул.
– Не привезет. Только что видел его с каким-то лохматым мужиком. Пошли, как видно, домой. Похоже, совсем пустой.
– Да уж… где там – без ремешка! – с огорчением сказал Филька. – Кабы тот ремешок…
Он снова толкнул Веритеева в бок.
– И с чего это, ты скажи, мне всегда не везет? И вроде здорово приготовлюсь и все учту, и вроде самого ловкого ловкача смогу обойти, да так, что тот не заметит, а то и спасибо скажет. А как подойдет к расчету, так, глянь ты, всегда меня будто палкой по лбу: обязательно мне же и недостача! Вот видишь зуб? – Он ткнул грязным пальцем в раздувшуюся верхнюю губу. – Один спекуляга хряснул вчерась. Я его на станции в Коломне на базарчике уличил как самого злостного спеку– лягу: все у него за круглые миллионы! «Сухаревский контрик ты», – говорю. А он мне как даст…
– Борец ты, я вижу! – не удержался от улыбки Веритеев.
– А как же? – искренне возмутился Филька. – Если этих спекуляг да охмурял не выявлять наружу, они весь народ оберут!
– А это что за синяк? – Веритеев указал на левое подглазье парня. – Опять с кем-нибудь из «спекуляг» подрался?
Филька смутился.
– Это не спекуляга… а так… еще до поездки.
– Знатный синячище. Кто же так постарался?
Филька насупился. Потом ухмыльнулся. И наконец совсем расплылся в полувиноватой ухмылке, будто история с синяком была лишь забавным, неогорчительным приключением:
– Это у нас в заводской пекарне. Ну понимаешь, дядя Коля, все там таскают. Мука-то, чай, под руками! Как фунта два тайком не унесть? Пекаря во главе с Капитонычем каждый день по мешочку уносят, а я чем хуже? Из той американской крупчатки мамка такое дома сварганит… Ну сшил я тоже мешочек, да, видно, перестарался, длины его не учел. Подвесил под фартук и ношу. День ношу, два ношу. А на третий, когда мы тесто разделывали, похоже, зря наклонился. Мешок-то сзади, где фартука нету, стало видно. Наш завпекарней Иван Сергеич… строг он бывает! Как увидел, да как отхватил меня от ларя, да как поднял мой фартук, да как вгорячах подвесил мне под глаз, да как выставил из пекарни… на цельный месяц уволил. «Посиди, говорит, подумай».
Веритеев хотел было тоже обругать и пристыдить баловного парня: таскать муку, когда голодают в поселке дети… Но Филькино простодушие было таким обезоруживающим, что Веритеев только спросил:
– Ну и как ты, подумал?
– Подумал. В пекарне брать теперь заказал, ни-ни!
– А в других местах?
– В других-то?
Филька задумался и промолчал.
– Бьют тебя там и тут, а впрок не идет, – сказал Веритеев. И, усмехнувшись, добавил: – Какое, я забыл, прозвище у тебя в поселке?
– Прозвище-то? – Филька пренебрежительно хмыкнул. – Тоже мне прозвище. «Битый»…
– A-а, вспомнил: «Битый». Я бы еще одно дал… Видел в Художественном постановку про вишневый сад?
– Видел! – с удовольствием подтвердил Филька. – Нам раз вместо хлебного пайка билеты туда выдали. Ходили смотреть всем кагалом!
– Помнишь, там есть один, называется Епиходов?
– Ха! Как мне не помнить, если наши дураки после того спектакля так меня и зовут? Мало им «Битого», теперь еще «Епиходыч»…
Веритеев с минуту смотрел на шагавшего рядом парня. Едва ли минуло семнадцать лет, а уж всего навидался и нахватался. И навидался, и нахватался, а в ум пока не идет…
– Все-то ты, Филька, дуришь, – сказал он сердито. – А ведь пора бы и в ум войти. Кончай свое баловство. Время нынче знаешь какое? Тут надо каждому комсомольцу примером быть! А ты вместо этого…
Разговаривая, они прошли на пустырь возле станции. На небольшом, но все время, как муравейник, находящемся в движении поселковом базарчике толкались плохо одетые люди. Бездомные собаки сновали вокруг. Над укрытыми снегом крышами одноэтажных домов из высокой заводской трубы, торчавшей далеко за ними, поднимался не очень густой, но все же сразу бросающийся в глаза рыжеватый дым. Ветер с налету как бы обламывал его у самого жерла трубы, сваливал вбок и вниз, в сторону вокзала. Сзади, на станционных путях, немощно посвистывал маневровый паровоз: видимо, шло формирование очередного состава.
– А ты к нам зачем прикатил? – уже прощаясь, поинтересовался Филька.
Веритеев нахмурился. Тревожные мысли о неприятностях на заводе, которые вот уже не один день не давали ему покоя, вдруг снова хлынули в душу, казалось, вместе с пахнувшим оттуда ветерком, донесшим сюда струю знакомой заводской гари.
– Очередная буза у вас на заводе. Так что, брат, прощевай! – и ускоренным шагом двинулся в сторону завода.
9
На крыше одного из вагонов теплушечного состава, только что принятого на запасный путь, подручный заводского слесаря Антошка Головин вернулся из неудачной поездки за хлебом в предуральские степи.
В дороге он пробыл пятнадцать дней, голодный и злой. Люто мерз по ночам – без сна, вцепившись немеющими от напряжения пальцами в железную печную трубу единственного в этом составе пассажирского вагона.
И не в том беда, что ехал на крыше, мерз и не спал: все вокруг не спали и мерзли. На то и зима. На крыше даже удобнее: можно не только сесть, но и лечь. А каково во вьюжную ночь тем, кто теснится на буферах, едет не сидя, а стоя, с риском свалиться, если задремлет на ходу?
Главное в том, что поверил приятелю Фильке, хотя всем ребятам в поселке известно, что Филька врун: сам что-нибудь невозможное выдумает и сам же первый себе поверит. Невольно поверишь ему и ты…
А началось все с того, что в их обнищавшем за эти трудные годы рабочем поселке кто-то из вернувшихся после разгрома Колчака домой пустил заманчивый слух, будто вслед за Колчаком бежали в Сибирь из своих богатых станиц чуть ли не все приуральские казаки. Бежали поспешно, взяв с собой лишь то, что смогли захватить из домашнего барахла. А хлеб в сусеках и на полях остался. Теперь кто первый туда прорвется, тот кум королю: греби первейшей пшенички хоть сотню мешков, только бы до Урала доехать!
Филька рассказывал об этом как очевидец, захлебываясь, округло вытаращив разные глаза – один зеленоватого, другой грязновато-сизого цвета. Настырно ввинчивая их переменчивый взгляд в лицо приятеля, все время размахивая руками, он то доходил в своем увлечении до крика, то спускался до еле слышного заговорщического шепота, при этом время от времени предостерегающе хмыкал и оглядывался по сторонам, давая понять Антошке, что дело это секретное, надо держать его при себе, не то узнают о том другие, ринутся скопом к заветным местам, тогда не видать казачьего хлеба, как ушей своих.
– Давай, Подсолнух, договорись на заводе с дядькой Егором и нынче же собирайся! – говорил он, досадуя на приятеля за то, что тот, похоже, не верит в уральский хлеб, все еще сомневается, когда сомневаться тут нечего, люди зря говорить не будут. – В цеху тебе все равно делать нечего. А на Урале… Уж там чего-ничего, а возьмем! Сам посуди: что казакам оставалось делать, если не драпать в Сибирь? Помогали они белякам? Помогали…
– Не все же, – слабо упирался Антон, хотя и ему хотелось поверить в эти добрые слухи.
Филька по-бабьи всплескивал несоразмеримо длинными руками:
– Вот чудодей ты, право! И пусть убежали не все. А те, которые с Колчаком? Их сколько, по-твоему, было? Казак, он не то что мы, пролетарии всех стран! Ему, брат, другого выхода не оставалось, если против нас воевал. Это, брат, раз. А второе: что возьмешь при таком побеге? Ни хлеб, ни скотину с собой не утащишь. Вот и смотри.
Почти со сладострастным выражением на узеньком, лисьем, всегда почему-то немытом лице он торопливо загибал ногтистые пальцы, вел счет:
– Слыхано, кто-то уже вернулся, еле довез. И опять поехал туда же. Богатые там места, говорю тебе! Значит, сколько-нисколько, а хлебушка привезем. Удастся, так и барашка… целого. Это, брат, два. Засолим его, увяжем покрепче… озёра там, слыхано, когда высохнут, чистая соль. А она – дороже барана! Значит, и соли с собой привезем! Это три. Голодным сидеть, по-твоему, лучше? Что ты подсобником у дядьки Егора за две-три недели получишь от наших американцев? Сухую селедку. Зато, когда привезешь…
– А если никто из казаков не убежал и надо будет меняться? Чего мы дадим в обмен? – С безнадежным видом Антон оглядел свою рваную, запачканную сажей куртку и истертые до дыр штаны. – Что есть, в том весь. Тут ничего не наменяешь.
В одну из таких минут Филька неожиданно замолчал, долго грыз ноготь на указательном пальце, потом раздумчиво сплюнул, хмыкнул и вдруг, засмеявшись, махнул рукой:
– Черт с тобой, так и быть. Решил было это дело держать при себе, один поживиться, да ладно уж. отдаю, раз такой несогласный!
Склонившись к Антону и время от времени больно дергая шершавыми пальцами его прихваченное морозцем ухо, он возбужденно забормотал:
– Ух, брат, какое я придумал дельце! Захочем, так сто пудов запросто привезем без всяких казаков! А чего? Раз он буржуй да, может, еще и скрытая контра… кто их знает, этих господ? С ним цацкаться, что ли, будем? Буржуев надо давить до конца! Что было ваше, то будет наше! Пролетарию нечего терять, если можно взять! – добавил он с обезоруживающей ухмылкой на плутоватом лице.
Зная не только склонность приятеля к преувеличениям и вранью, но и удачливую пронырливость его во всякого рода проделках, Антон с недоверчивой усмешкой спросил:
– Какое еще там дельце?
– А вот какое! Видел ремень в синеме у Новикова? Из того ремнища можно запросто нарезать с полсотни подметок. Сам вон, видал, в чем хожу? – Филька круто вывернул левую ногу, чтобы виднее было дырявую, полуоторванную подметку рыжего сапога с лопнувшими по швам голенищами. – Эно, брат, в чем хожу! Да и ты не больно обут. Твои тоже вон каши просят. А тот ремешок..
– Хватит тебе вертеться! Какой ремешок?
– Говорю тебе: который надет на машину в электротеатре буржуя Новикова! – уже сердясь на непонятливость Антона, выкрикнул Филька. – Ремень на маховом колесе видал? А кто такой Новиков, знаешь? В семнадцатом их прижали, а нынче опять он лезет. При черной «гаврилке», в шляпе. А мы с тобой без штанов и подметок ходим. За хлебом вон собрались с пустыми руками… а может, и верно – задаром не отдадут? Да и на что нам менять? На мои сапоги да твои опорки? – Он сильно толкнул Антошку в плечо. – Мы с тобой, значит, с голодным пузом да босиком, а Новиков при «гаврилке» и хоть бы хны? Картины за деньги трудящихся крутит, полтыщи за билет. Ремень отколь-то достал! Прятал небось от нашей рабочей власти, а теперь достал тот ремень – и крутит!..








