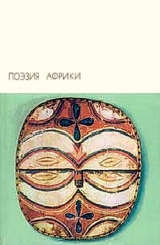
Текст книги "Поэзия Африки"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Перевод Е. Гальпериной
Люксембургский сад в это утро, Люксембургский сад в эту
осень, – прохожу его, словно юность свою прохожу,
Ни влюбленных, ни лодок в прудах, ни цветов, ни фонтанов.
Где цветы Сентября, где веселые детские крики, отрицавшие
близость зимы?
Только два смешных старичка копошатся на теннисном корте.
В это осеннее утро не видно детей: детский театр закрыт!
Люксембургский сад, в нем найти не могу моей юности,
свежей, как зелень лужаек.
Неужели и вправду разбиты мечты, неужели друзья,
побежденные, пали?
Пали, как падают листья в саду, растоптаны, ранены насмерть,
истекая последнею кровью,
Чтоб улечься в братской могиле?..
Люксембургский сад, я узнать его не могу – стоят часовые,
Пушки свозят сюда, чтобы прикрыть трусливое бегство властей,
Роют окопы у старой скамейки, где я познал нежность впервые
раскрывшихся губ.
Узнаю эту надпись – да, опасная юность!
Я смотрю, как падают листья в укрытья, в окопы, в траншеи,
Где струится кровь моего поколенья.
Европа хоронит тех, кто стал бы дрожжами для наций, кто
стал бы надеждой новых народов.
Перевод Д. Самойлова
Геловар!
Мы слушали тебя, мы внимали тебе слухом сердца.
Вспыхнул светозарный твой голос в ночи нашей неволи,
Как глас Повелителя бруссы, и трепет пробежал по позвонкам
наших скрюченных спин!
Мы – птенцы, выпавшие из гнезда, лишенные надежды,
ослабевшие телом,
Звери с выдранными когтями, обезоруженные солдаты, голые
люди.
Вот мы, одеревенелые, неуклюжие, как слепые без поводыря.
Самые честные умерли: они не сумели протолкнуть себе
в горло корку позора.
А мы в тенетах, и мы беззащитны перед варварством
цивилизованных.
Нас истребляют, как редкую дичь. Слава танкам и самолетам!
Мы искали опоры, но она осыпалась, как песчаные дюны,
Искали командиров, их не было, однополчан – они уже не желали
нас знать.
И мы уже не узнавали Францию.
Мы в ночи взывали о бедствии. Но молчанье нам было ответом.
Князья церкви замолкли, Правители провозгласили великодушье
гиен:
«Разве дело в неграх?! Разве дело в людях?! Пустяки! Когда дело
идет о Европе!»
Геловар!
Твой голос вещает о чести, о борьбе и надежде, ее крылья
трепещут в нашей груди.
Твой голос обещает нам Республику, где мы воздвигнем Город
в свете синего дня,
Среди равных народов-братьев! И мы ответствуем: «Мы здесь,
Геловар!»
Лагерь военнопленных,
Амьен, 1940
Перевод Д. Самойлова
Священная роща любви снесена ураганом,
Сломаны ветки сирени, увяли запахи ландышей, —
И бежали невесты на Острова, открытые ветрам, на южные
Реки,
Горестный вопль прошелся по влажному краю виноградников
и песнопений, —
От Восхода к Закату, как по сердцу клинок молнии.
Вот огромный поселок из глины и веток, поселок, распятый
чумными канавами.
Голод и ненависть здесь набухают в оцепененье смертельного
лета.
Это огромный поселок, намертво схваченный колючим
ошейником.
Огромный поселок под прицелами четырех настороженных
пулеметов.
И благородные воины клянчат окурки,
И ссорятся с псами из-за объедков, и ссорятся во сне из-за собак
и кошек.
Но все же только они сохранили простодушие смеха и свободу
пламенных душ.
Опускается вечер, словно кровавые слезы, освобождая ночь.
И не спят эти большие розовые младенцы, охраняя больших
русых детей, больших белых детей,
Что не находят покоя во сне, ибо грызут их вши плена и блохи
заботы.
Их баюкают сказки ночного бдения, и печальные голоса
сливаются с тропами тишины,
Их баюкают колыбельные песни, колыбельные без тамтамов,
без ритмичного всплеска черных ладоней:
«Это будет завтра, в послеполуденный час – виденье подвигов
И скачка солнца в белых саваннах по бесконечным пескам».
А ветра как гитары в деревьях, и колючая проволока звучнее, чем
струны на арфе,
И прислушиваются кровли, и склоняются звезды, улыбаясь
бессонными очами, —
Там, вверху, там, вверху, сияют их черно-синие лица!..
И нежнеет воздух в поселке из глины и веток,
И земля становится живой, как часовые, и дороги зовут их
к свободе.
Они не уйдут! Не отступятся ни от каторжного труда, ни от
радостного долга.
Кто же примет на себя позорный труд, если не тот, кто рожден
благородным?
Кто же будет плясать в воскресенье под тамтамы солдатских
котлов?
И разве они не свободны свободой судьбы?
Священная роща любви снесена ураганом,
Сломаны ветки сирени, увяли запахи ландышей, —
И бежали невесты на Острова, открытые ветрам, на южные
Реки.
Фронтовой концлагерь 230
Перевод Д. Самойлова
Распластались они по дорогам неволи, по дорогам разгрома,
Стройные тополи, статуи черных богов в золотых
торжественных мантиях,
Сенегальские пленники – как угрюмые тени на французской
земле.
Напрасно скосили ваш смех – этот черный цветок, чернейший
цветок вашей плоти,
Цветок первозданной красы среди голого отсутствия цветов,
Горделиво смеющийся черный цветок, самоцвет
незапамятной древности!
Вы – первичная плазма и тина зеленой весны мирозданья,
Плоть первозданной четы, плодоносное чрево,
Вы – священное изобилие светлых райских садов
И неукротимый лес, победитель молнии и огня.
Необъятная песнь вашей крови победит машины и пушки,
Ваше трепетное слово одолеет софизмы и ложь,
Нету ненависти – ваши души свободны от ненависти, нет
вероломства – ваши души лишены вероломства.
О черные мученики, бессмертное племя, позвольте, я скажу
за вас слово прощения.
Фронтовой концлагерь 230
Тиаруа. —См. прим. 87.
[Закрыть]
Перевод Д. Самойлова
Черные узники, вернее, французские узники! Значит, правда,
что Франция – больше не Франция?
Значит, правда, что враг украл ее душу?
Правда то, что злоба банкиров купила ее стальные руки?
И разве ваша кровь не омыла нацию, позабывшую о прежнем
своем назначении?
Разве кровь ваша не смешалась с искупительной кровью
героев Франции?
И разве ваши похороны не станут погребением святой
Девы-Надежды?
Кровь, кровь, о черная кровь моих братьев! Ты пятнаешь
белизну моих простынь,
Ты – пот, омывший мою тоску, ты – страданье, от которого
хрипнет мой голос.
О, услышьте ослепший мой голос, глухонемые гении ночи!
Кровавым ливнем падает саранча? И сердце мое взывает
к лазури и к милосердию!
Нет, вы не напрасно погибли, о Мертвые! Ваша кровь не была
тепловатой водицей.
Она орошает глубинные корни нашей надежды, что еще
расцветет в этом сумраке.
Она наш голод и жажда чести – великие наши властители.
Нет, вы не напрасно погибли. Вы – свидетельство бессмертия
Африки.
Вы – залог грядущего мира.
Спите, Мертвые! Пусть вас баюкает мой голос, голос гнева, голос,
который лелеет надежду!
Париж
декабрь 1944 е.
Перевод Д. Самойлова
Я – Кайя-Маган [351]351
Кайя-Маган– «царь золота», титул правителя африканского государства Гана (III–XIII вв.); у Сенгора – символ властителей древних африканских империй.
[Закрыть]! Я первейший из первых,
Я царь ночи черной, ночи серебристой, царь ночи прозрачной.
Пасите газелей моих в лугах, безопасных от львов, вдали
от чарующей власти моего голоса.
Восхищением украшены эти долины молчания!
Здесь вы, мои повседневные звезды и цветы, здесь вы, чтобы
разделить радость моего пиршества.
Так кормитесь от моего изобильного лона, – мне не надо
кормиться, ибо сам я – источник радости.
Кормитесь млечной травой, что сияет на моей мощной груди!
Пусть возжигают каждый вечер двенадцать тысяч звезд
на Главной Площади,
Пусть греют двенадцать тысяч плошек, украшенных морскими
змеями, для моих верноподданных, для оленят моего
стада, для чад моих и для домочадцев,
Для геловаров девяти крепостей и деревень, затерянных
в бруссе,
Для всех, кто вошел через четыре изукрашенные арки —
Торжественным шествием моих покорных народов (их следы
затерялись в сыпучих песках Истории),
Для белых из северных стран, для черных с лазурного юга,
Для краснокожих с далекого запада и для кочевников с великих
рек.
Так кормитесь соком моим, и растите, дети силы моей,
и живите, познавая всю глубину бытия, —
Мир тем, кто уходит! Дышите дыханьем моим.
Говорю вам: я Кайя-Маган – Царь луны, я объединил
день с ночью,
Я Князь Севера и Юга, Князь восходящего солнца и заходящего
солнца
И долины, где бьются самцы из-за самок. Я – горнило, где
плавятся драгоценные руды
И исторгается оттуда красное золото и красный-красный человек,
моя чистая и нежная любовь,
Я Царь Золота, в ком соединилось великолепие полудня и нега
женственной ночи.
Птичьи стаи, слетайтесь на мой выпуклый лоб под змеевидными
волосами
И вкусите не от пищи, а вкусите от мудрости того,
Кто познал тайные знаки в своей прозрачной башне.
Пасите оленят моего стада под царским жезлом моим, под моим
полумесяцем.
Я Буйвол, что смеется над Львом [352]352
Я Буйвол, что смеется над Львом… – В африканском фольклоре буйвол символизирует силу, а лев – могущество, власть.
[Закрыть]и над ружьями его,
что набиты зарядами по самую глотку, —
Пусть остерегается Лев за своей неприступной оградой.
Мое царство есть царство изгнанников Цезаря, великих изгоев
разума или чувства.
Мое царство есть царство Любви, – я слабею
Пред тобой, чужеземная женщина, с глазами, как светлая
просека, с губами, как румяное яблоко, вожделеющая
и трепещущая, как неопалимая купина.
Ибо я – две створки ворот, двойной ритм пространства и третье
время.
Ибо я – ритм тамтама, сила грядущей Африки.
Спите, оленята моего стада, под моим полумесяцем.
Перевод М. Ваксмахера
(Для джаз-оркестра и соло на трубе)
I
Нью-Йорк! Сначала меня смутила твоя красота, твои
золотистые длинноногие девушки.
Сначала я так оробел при виде твоей ледяной улыбки
и металлически-синих зрачков,
Я так оробел. А на дне твоих улиц-ущелий, у подножия
небоскребов,
Подслеповато, словно сова в час затмения солнца, моргала глухая
тревога,
И был, точно сера, удушлив твой свет, и мертвенно-бледные
длинные пальцы лучей смыкались на горле у неба,
И небоскребы зловеще грозили циклонам, самодовольно играя
своими бетонными мышцами и каменной кожей.
Две недели на голых асфальтах Манхеттена —
А к началу третьей недели на вас прыжком ягуара налетает
тоска, —
Две недели ни колодца, ни свежей травы, и птицы откуда-то
сверху
Падают замертво под серый пепел террас.
Ни детского смеха, ни детской ручонки в моей прохладной
ладони,
Ни материнской груди, только царство нейлоновых ног, только
стерильные ноги и груди.
Ни единого нежного слова, только стук механизмов в груди —
Стук фальшивых сердец, оплаченных звонкой монетой.
Ни книги, где бы слышалась мудрость. Палитра художника
расцветает кристаллом холодных кораллов.
И бессонные ночи… О ночи Манхеттена, заселенные бредом
болотных огней, воем клаксонов в пустоте неподвижных
часов.
А мутные воды панелей несут привычную тяжесть гигиеничной
любви, —
Так река в половодье уносит детские трупы.
II
Пробил твой час, о Нью-Йорк, – час последних расчетов.
Пробил твой час! Но ты еще можешь спастись,
Только раскрой свои уши навстречу тромбонам бога, только
пусть новым ритмом стучит твое сердце – ритмом
горячей крови, твоей крови!
Я видел Га́рлем, гудевший ульем торжественных красок, рдевший
огнем ароматов, —
То был час чаепитий в американских аптеках, —
Я видел, как Гарлем готовился к празднику Ночи, и призрачный
день отступал.
День отступал перед Ночью, ибо Ночь правдивее дня.
Я видел Гарлем в тот час, когда сквозь кору мостовых господь
прорастать заставляет первозданную жизнь —
Все элементы стихий земноводных, сверкающих тысячью
солнц.
Гарлем, Гарлем, вот что я видел!
Гарлем, Гарлем, я видел: зеленые волны хлебов плеснули
из-под асфальта, что вспахан босыми ногами пляшущих
негров.
Бедра, волны шелков, груди как наконечники копий, пляска
цветов, пляска сказочных масок,
У самых копыт полицейских коней – круглые манго любви.
Я видел: вдоль тротуаров струились потоки белого рома,
и черное молоко бежало ручьями в синем тумане
сигар.
Я видел: вечером с неба падал хлопковый снег, видел
ангелов крылья и перья в волосах колдунов.
Слушай, Нью-Йорк! Слушай Гарлема голос —
это твой собственный голос рыдает в гулком горле гобоя,
это тревога твоя, сдавленная слезами, падает крупными
сгустками крови.
Слушай, Нью-Йорк, это вдали бьется сердце твое ночное в ритме
и крови тамтама, тамтама и крови,
тамтама и крови.
III
Слушай меня, Нью-Йорк! Пусть Гарлема черная кровь вольется
в жилы твои,
Пусть она маслом жизни омоет, очистит от ржавчины
твои стальные суставы,
Пусть вернет твоим старым мостам крутизну молодого бедра
и гибкость лианы.
Я вижу: возвращаются незапамятные времена, обретенное
братство, примирение Дерева, Льва и Быка [353]353
Примирение Дерева, Льва и Быка… – Сенгор говорит о временах правления Сундьяты (середина XIII в.). Согласно преданиям, Сундьята, происходивший из рода Кейта, по отцу имел своим тотемом-покровителем льва, по матери – буйвола, а первый из подвигов Сундьяты связан с деревом; мальчик вырвал с корнем баобаб и принес его к хижине матери. См. Сундиата. Мандингский эпос. Перевод с французского (М.—Л., «Художественная литература», 1963).
[Закрыть].
Грядут времена – и слово сливается с делом, сердце с разумом,
буква со смыслом.
Я вижу: реки твои заполнены плеском кайманов и ламантинов
с глазами-миражами. И не нужно выдумывать новых
Сирен.
Только раскрой глаза – и увидишь апрельскую радугу,
Только уши раскрой – и услышишь господа бога, который
под смех саксофона создал небо и землю в шесть дней,
А на седьмой – потянулся, зевнул и заснул крепким сном усталого
негра.
(Драматическая поэма для нескольких голосов)
Перевод Д. Самойлова
Погибшим банту
Южной Африки
Под звуки траурного тамтама.
Белый голос
Здесь ты, Чака, подобный пантере, подобный зловонной гиене,
Здесь, на земле распятый тремя ассагаями, ты, завещанный
небытию.
Вот хожденье твое по страстям. Пусть кровавые реки, что тебя
омывали, послужат тебе искупленьем.
Чака
(лицо его спокойно)
Да, я здесь, и два брата со мной, два разбойника, два проходимца,
Два глупца. Ха! Я здесь, но я не гиена, я Лев Эфиопии
с поднятою головой.
Я вернулся сюда! Я в стране лучезарного детства!
Здесь должно завершиться хожденье мое.
Белый голос
Чака, зябко дрожишь ты в пределах крайнего Юга, а гневное
солнце хохочет в зените.
Для тебя – о черная тень среди белого дня – замолкли гобои
воркующих горлиц.
Один лишь мой голос, светлый клинок, пронзает твоих семь сердец.
Чака
Белый голос, голос заморских краев! Огонь очей моих изнутри
освещает алмазную ночь.
Мне не нужно сияния лживого дня. Грудь моя, словно щит,
принимает удары упреков.
Предрассветные росы на ветвях тамаринда предвещают явленье
светила на прозрачных моих небесах.
Я слушаю полуденное воркованье Ноливы и, ликуя, содрогаюсь
до мозга костей!
Белый голос
Ха-ха-ха! Чака, смеешь ли ты говорить о Ноливе, о твоей
нежно-прекрасной невесте,
Чье сердце как масло, чьи глаза – лепестки остролистых
кувшинок, чья речь – пенье ручья?
Ты убил ее, нежно-прекрасную, и с нею убил свою совесть.
Чака
Э! Зачем говоришь ты про совесть!..
Да, я ее убил, когда она пребывала в лазурном краю сновидений.
Да, убил бестрепетной дланью.
Только вспыхнула узкая сталь в благоуханных зарослях
подплечья.
Белый голос
Ага! Ты признался, о Чака! Так признайся тогда, что ради тебя
погибли миллионы мужей и тысячи молочных младенцев
и беременных жен.
Ты, великий кормилец гиен и стервятников, песнопевец
Загробных долин.
Там, где ждали воителя, объявился мясник.
И овраги разбухли от крови, и сочатся источники кровью,
Одичалые псы воют в мертвых долинах, и в поднебесье кружат
коршуны смерти.
О Чака, Зулус, ты страшней, чем чума или жадный пожар
сухолесья.
Чака
Да, гогочущий птичник! Да, голодная стая просянок!
Да! Сотни блестящих полков, в шелковистых мохнатых зачесах,
лоснящихся маслом, подобно надраенной меди.
Я секиру занес в этом мертвом лесу, я поджег бесплодные заросли,
Словно мудрый хозяин. Этот пепел удобрил осеннюю вспашку
земли.
Белый голос
Как? Ни слова раскаянья…
Чака
Сожалеют о зле.
Белый голос
Величайшее зло – похитить сладость дыханья.
Чака
Величайшее зло – это слабость людского нутра.
Белый голос
Слабость сердца простительна…
Чака
Слабость сердца священна…
А! Ты думаешь, я ее не любил,
Золотистую деву, легче перышка, благоуханней бальзама,
С бедрами испуганной выдры, с кожей, прохладной, как снега
Килиманджаро [354]354
Килиманджаро– гора, высшая точка Африки (5895 м.).
[Закрыть],
Груди – поле созревшего риса, холмы благовонных акаций
под ветром Восточным,
Нолива, чьи руки как гибкие змеи и губы как малые змейки,
Нолива, чьи очи – созвездья, при ней не надо луны и не надо
тамтама, —
Во мне ее голос и пульс лихорадочной ночи!..
Ты думаешь, я не любил!
Да! Но эти бессчетные годы, это четвертованье на плахе годов
и ошейник, который душил мою волю.
Эта долгая ночь без сна… Я блуждал, как Замбезская
кобылица, я скакал и брыкался, натыкаясь на звезды,
я терзался неведомой болью, словно леопард мне впился
зубами в загривок.
Я б ее не убил, если б меньше любил…
Нужно было бежать от сомненья,
Забыть опьяненье от сладкого млека пылающих уст, от безумных
тамтамов, от ночного биения крови,
От нутра, где кипит раскаленная лава, от урановых копей моего
сердца,
От страсти к Ноливе —
Во имя моего черного Народа,
Во имя моей негритянской сути…
Белый голос
Честное слово, Чака, ты просто поэт… или краснобай… или даже
политик!
Чака
Гонцы доложили:
«Они высадились на берегу, взяв отвесы, компасы, секстанты.
Белокожие и светлоглазые, слишком грубая речь, слишком
тонкие губы,
Гром они привезли на своих кораблях!..»
И тогда я превратился в рассудок и в твердую руку, я стоял —
ни палач, ни солдат —
Да, политик, как ты говоришь, а поэта убил я в себе, – я стоял
человеком, готовым на подвиг.
Да, я был одинок и был уже мертв, прежде всех, прежде тех,
о ком ты теперь сожалеешь.
Кто познает великие страсти мои?
Белый голос
Ты же умен, но откуда такая забывчивость?
Так вслушайся, Чака, и вспомни!
Голос знахаря Исанусеи
(в отдаленье)
Думай, Чака, я тебя не хочу принуждать – я всего только знахарь,
я только подручный.
Власть не дается без жертвы, полная власть – она требует крови
тех, кто нам дорог.
Голос
(похожий на голос Чаки, в отдаленье)
Чака
(очнулся)
Нет, нет, Белый голос, ты знаешь прекрасно…
Белый голос
Что цель твоя – власть…
Чака
Только средство…
Белый голос
Упоенье!
Чака
Скорбный путь.
Я увидел мой край – на четыре стороны света, под властью
компаса, секстанта, отвеса,
Где загублены рощи, сглажены горы, где в железо закованы
реки и долы.
Я увидел мой край, на четыре стороны света, весь в сплетенье
стальных двухколейных путей.
Я увидел народы крайнего Юга муравейником, копошащимся
в молчаливом труде.
Труд священный уже не высокое действо – ни тамтам,
ни ритмичное пенье, ни танец на празднествах весен
и осеней.
Люди дальнего Юга – на верфи, в порту, в мастерской и на шахте.
А ночами упрятаны в тесный крааль нищеты.
Люди Юга воздвигли огромные горы из черного злата, из красного
злата – а сами они голодают.
И я увидел однажды возникающий в дыме зари лес мохнатых
голов, и молящие очи, и запавшие животы,
и бесчисленные уста, призывающие непостижимого бога.
Мог ли я оставаться глухим к их страданьям и к их униженьям?
Белый голос
Голос твой раскалился от ненависти…
Чака
Ненавижу одно угнетенье…
Белый голос
Раскалился от ненависти, превращающей в пепел сердца.
Слабость сердца священна, умерь свои буйные вихри!
Чака
Любить свой народ – не значит ненавидеть других.
Нет, не может быть мира, когда наготове оружье, и не может
быть мира под гнетом,
И не может быть братства без равенства. Я ж хотел, чтобы все
были братья.
Белый голос
Юг ты поднял на Белых…
Чака
Ах! Вот ты о чем, Белый голос, голос пристрастья, усыпляющий
голос,
Голос силы, восставшей на слабость, совесть заморской корысти.
Разве я ненавидел Розовоухих? Мы их приняли, словно
посланцев богов,
Словом ласки, и яством, и сладким питьем.
Им хотелось товаров – мы дали им все: и бивни медового цвета,
и кожи, пестрее, чем радуги,
Драгоценные пряности, дивные камни, обезьян, попугаев, – что
надо еще?
Что сказать об их ржавых дарах, о пустых побрякушках?
Только громом их пушек был разбужен мой разум,
И стало страданье моим уделом – страданье духа и сердца.
Белый голос
Смиренные души страдают во имя спасенья…
Чака
Я принял страданье…
Белый голос
Сокрушенной душой…
Чака
Во имя любви к моим черным народам.
Белый голос
Во имя Ноливы и тех, что погибли в Смертной долине?
Чака
Во имя возлюбленной. К чему повторять то, что уж сказано!
Каждая смерть убивала меня. Надо было готовить грядущую
жатву.
Тесать жернова для помола, для белой муки, добываемой черною
мукой.
Белый голос
Да простится тому, кто много скорбел и страдал…
Тамтамы любви, стремительно.
Чака
(мгновение глаза его закрыты; он поднимает веки и устремляет
долгий взор к Востоку, лицо его строго и вдохновенно)
Вот и Ночь! Эта нежно-прекрасная Ночь с золотой, как монета,
луной.
Слышу утреннее воркованье Ноливы, оно катится, словно алое
яблоко по душистой траве.
Хор
Корифей
Он весь излучает сиянье! Вот минута перевоплощенья!
Песнь созрела в садах лучезарного детства, и пришел час любви.
Чака
О возлюбленная, я так долго томился по этому часу.
Так долго стремился и ждал нескончаемой ночи любви и так
бесконечно страдал.
Как труженик в полдень, обнимаю прохладную землю.
Корифей
Вот время ожившей любви, пришедшее в миг расставанья,
Здесь Чака, один! Он полон страстей и желаний,
И счастье теснит его грудь наподобье тоски.
Хор
Байете Баба! Байете о Байете!
Чака
Я не песнь, не стремительный голос тамтама,
Я еще и не ритм. Я стою неподвижен, как изваянье бауле [357]357
Изваяние бауле. – Бауле – народность, живущая в стране Берег Слоновой Кости. Среди бауле много превосходных ваятелей.
[Закрыть],
Я еще и не песнь, что пробилась из звучных глубин,
Я не тот, кто творит эту песнь, я лишь тот, кто ей помогает.
Я не мать, я отец, я баюкаю, и ласкаю, и держу на руках, и тихие
речи твержу.
Корифей [358]358
Корифей– предводитель хора в древнегреческой трагедии.
[Закрыть]
О Чака, Зулус! Ты больше не пламенный Лев, чей взор пепелил
отдаленные села.
Хор
Байете Баба! Байете о Байете!
Корифей
Ты больше не Слон, что топчет посевы батата, сокрушая гордые
пальмы.
Хор
Байете Баба! Байете о Байете!
Корифей
Ты больше не Буйвол, что яростней Льва и Слона,
Не Буйвол, ломавший щиты храбрецов…
Твоим ли устам твердить слова пораженья и страха пред смертью?
Хор
Байете Баба! Байете о Байете!
Чака
О возлюбленная, я так долго томился по этому часу,
Так долго блуждал по степям моей юности и пребывал в убежище
мудрых,
А другим доставались звучные флейты и вся сладость
мычанья.
Хор
О Зулус! Ты, прошедший суровый обряд посвящения, ты,
украшенный воинской татуировкой.
Чака
Я долго вещал в бесплодной пустыне,
Я долго сражался в смертельном моем одиночестве,
Я боролся с призваньем. Таков был мой искус, и таков
очистительный подвиг поэта.
Корифей
О Зулус, ты вырастил сильными нас, ты – источник, который
снабдил нас живою водой,
Ты С Рожденья Отмеченный Мощью, возложивший на черные
плечи свои судьбу чернокожих народов.
Хор
Байете Баба! Байете о Зулу!
Корифей
Ты – воитель. Ниспадают завесы, и отважные воины смотрят, как
ты умираешь,
И от этого горького хмеля трепещут тела.
Хор
Байете Баба! Байете о Зулу!
Корифей
Ты – гибкий танцор, порождающий звуки тамтама соразмерным
движением тела и рук.
Хор
Байете Баба! Байете о Зулу!
Корифей
Я пою твою мощь, детородную щедрую силу.
О, возлюбленный Ночи, чьи длинные волосы словно падучие
звезды, творец животворного слова,
Песнопевец страны лучезарного детства.
Хор
Пусть Правитель умрет и останется только Певец!
Чака
Пусть ритмы тамтама наполнят этот час невыразимого счастья,
воспой эту Ночь и Ноливу.
Ты же, Хор, стань ночным караулом, стань бессонною стражей
нашей любви.
Корифей
И вот мы стоим у врат этой Ночи, вдыхая старинные сказки,
вкушая плоды и орехи.
Нет, мы не сомкнем наших глаз, мы бодрствуем в ожидании
Добрых Вестей.
Хор
Нолива умрет, покинет смертный свой облик.
И заря принесет нам Добрые Вести.
Чака
О Ночь! О Нолива!
Великая слабость умирает в твоих благовонных руках,
облегчающих горе.
И палящим дыханием пальмы наполнена грудь,
В этот миг аромат укрепляет усталые мышцы,
Фимиамы у брачного ложа одаряют всевиденьем сердце.
О моя золотистая Ночь! Ты, сияющая на окрестных холмах!
Словно влажные ветры веют над рубиновым ложем, над тобой,
моя Черная, – в каплях алмазного пота,
С черной лоснящейся кожей, с телом, прозрачным, как в первое
утро творенья.
И когда мы встаем, обнаженные, друг перед другом и стоим,
потрясенные и ослепленные перед взором любви, —
Умирает сжимавшая горло тоска.
О душа, обнаженная до корней, до первородного камня!
Да, тоска умирает в твоих благоуханных руках.
Хор
Байете Баба! Байете о Зулу!
Чака
Звучи, отдаленный тамтам! Вбирай в себя голос ночи и дальних
селений,
Звучи над холмами и рощами, над болотистой поймой реки.
Я лишь Тот, Кто Способствует Звуку, резная ударная палочка,
Ладья, рассекающая волны, рука, засевающая небо, стопа,
попирающая чрево земли,
Колотушка, обрученная со звонким деревом. Я лишь ударная
палочка, бьющая по тамтаму.
Кто говорит, что мелодия однообразна? Однообразна радость,
однообразно прекрасное
И предвечное небо без тучек, и безмолвные синие чащи, и голос,
одинокий и строгий.
Продлись, великая звучная битва, это стройное состязанье, где пот
подобен жемчужным каплям росы!
О нет, я погибну от ожиданья…
Меня задушит восторгом золотистая ночь, – о Черная Ночь,
о Нолива!
И звуки тамтамов, в которых родится солнце нового мира.
(Медленно опускается на землю: он мертв.)
Корифей
Светлый рассвет, новые зори, да спадет пелена с глаз моего народа.
Хор
Байете Баба! Байете о Байете!
Корифей
Росы, прохладные росы пробуждают подземные корни народа.
Хор
Байете Баба! Байете о Байете!
Корифей
И там – высокое солнце в зените светит всем народам земли.
Хор
Байете Баба! Байете о Байете!
(Повторяет припев, медленно удаляясь за занавес.)








