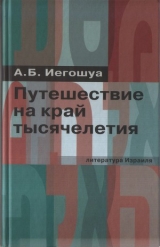
Текст книги "Путешествие на край тысячелетия"
Автор книги: Авраам Б. Иегошуа
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
А госпожа Абулафия уже торопится в сукку, чтобы пробудить брата от ночного сна, подслащенного сознанием выполненной заповеди, шелестом ветра в зеленой листве и запахом этрога, что лежит рядом с его подстилкой. И с какой-то непонятной решительностью просит растерянного господина Левинаса позволить раву повести утреннюю молитву «гошана раба», чтобы он первым и изо всех сил ударил веткой ивы в память о молебнах в разрушенном Храме. Так они и поступают. И под шум дождя, с рассвета стелющегося над поверхностью Сены, под доносящиеся с реки крики франкских моряков рав Эльбаз первым заводит молитву: Да будем мы спасены и избавлены, Господи, во имя Твое, от войны, и от засухи, и от плена, и от болезней, и от всех притеснителей, и от всех бедствий, какие есть в мире. Да удостоимся мы все чистого Иерусалима, и да наступят ноги наши на шеи ненавистников наших, и да воспляшут ноги наши во дворе Святыни, и да возденут руки наши этрог, лулав, мирт и араву, и да возгласят уста наши – спаси нас, Господи, во имя Твое, спаси нас.
Но «гошана раба» Эльбаза пока еще не проникает в чрево старого сторожевого судна, причаленного у правого берега реки и раскачивающегося сейчас под ногами моряков-исмаилитов, разбуженных шумом дождя. И уж тем более призыв этот, сотрясающий сейчас сукку на левом берегу, не может достичь хижины старого резчика, что у подножья холма с белым пятном. Но в то время как там, в хижине, тело черного идолопоклонника все еще распластано в изнеможении у ног своего закутанного покрывалом резного подобия, среди разбросанных по полу деревянных идолов, искусанное вожделеющими и голодными ртами франкских женщин и покрытое засохшими потёками нескончаемых извержений семени, в каюте на днище корабля Бен-Атар, тоже проснувшись от шума дождя, прислушивается к шагам верблюжонка, неторопливо расхаживающего по трюму, принюхивается к непривычному запаху, который издают смешавшиеся остатки рассыпанных пряностей, и затем начинает с прежней силой гладить, обнимать, целовать и мять большое, теплое тело единственной оставшейся у него жены. И вот уже первая жена спешит в благодарном порыве любви прильнуть к проснувшемуся мужчине, чтобы слиться с ним в совершенном и неповторимом телесном соединении, начисто свободном от любых посторонних мыслей и от всяких следов былого.
Глава восьмая
Но не настала ли наконец пора развернуть латинский треугольный парус на высокой мачте, что торчит в центре старого сторожевого судна, да поднять решительно якорь со дна парижской реки? Не пришел ли наконец час распрощаться со все более мрачнеющим небом Европы и устремиться обратно, к надежной родной гавани Танжера? При виде ветров и дождей, секущих Иль-де-Франс в ночь Симхат-Тора, даже терпению такого закаленного и опытного капитана, как Абд эль-Шафи, приходит конец, ибо кто лучше него понимает, насколько важно отплыть поскорее, пока в океане не набрал силу северный ветер. Беспокойство так гложет душу бывалого капитана, что, вопреки обычному для исмаилитов хладнокровному фатализму, который предоставляет Аллаху править бесконечным миром по своему непостижимому разумению, он подступает к Абу-Лутфи с твердым требованием поторопить еврейского компаньона – пусть стряхнет с себя наконец нерешительность и колебания, порожденные постигшим его несчастьем и скорбью, сменит надрезанную накидку на целую, поднимется из трюма на старый капитанский мостик и подаст оттуда ту единственную команду, которую с нетерпением ждут все матросы-исмаилиты, – покинуть унылую, безрадостную Европу и вернуться в родную цветущую Африку, где они снова услышат наконец сладостные призывы муэдзина.
Ибо возможно, что кровь того дальнего предка, который более ста лет назад попал в плен к викингам и провел с ними многие годы, так заостряет сейчас чувства капитана, что позволяет ему учуять те мучительные и опасные сомнения, что, сплетаясь упрямым и цепким плющом, сковывают сейчас все помыслы и поступки хозяина судна. Да, Бен-Атар страшится, и не только самого плавания, которое уже утратило для него очарование новизны и обаяние авантюры, оставив по себе, главным образом, память о трудностях и лишениях, – нет, еще сильнее отплытия пугает его расставание, и не с одним лишь любимым племянником, союз с которым ныне возрожден и скреплен страданием и кровью, но также с его голубоглазой женой, которая с неожиданной и изысканной решительностью обратила свое давнее отстранение в новое и властное влеченье.
И верно – какое-то странное, влекущее сочувствие к печальному и скорбящему мужчине так и лучится сейчас из этой женщины – к мужчине, который с исчезновением прежней двойственности ощущает теперь в себе и даже вне себя некую новую, непонятную пустоту, словно утратил руку или ногу. Но пока нельзя еще понять, подвластно или хотя бы понятно ей самой то новое отношение, с которым она теперь встречает Бен-Атара, когда, в честь праздника Симхат-Тора и Шмини Ацерет, он соглашается наконец покинуть траурную темноту корабельного трюма, помыться и привести в порядок бороду и волосы и сменить надрезанную в знак скорби накидку на новую, чтобы во всей чистоте и святости прижать к сердцу маленький, мягкий ашкеназский свиток Торы, который подает ему молодой господин Левинас для совершения заповеданного обычаем короткого танца.
Что же это за странное влечение такое, что ему под силу, протянув незримые связи меж северной женщиной и южным мужчиной, еще раз отодвинуть час разлуки, несмотря на гневное нетерпение исмаилитских моряков? Ведь враждебность к новой жене Абулафии отнюдь не исчезла из сердца североафриканского купца – нет, она все еще пылает в нем, и, когда б его молодая жена не ушла в тот мир, который предполагается лучшим, Бен-Атару и в голову не пришло бы навсегда отказаться от начатого им сражения – напротив, невзирая на отлучение и бойкот, провозглашенные рыжим кантором в Вормайсе, он непременно отыскал бы еще какую-нибудь европейскую реку, чтобы завлечь эту вормайсскую женщину на третий и решающий поединок. И там, на южном или на северном, на западном или на восточном берегу той реки, он бы уже не позволил севильскому раву назначить какого-нибудь местного судью, нет – он сам встретился бы с этой упрямой женщиной, один на один, лицом к лицу, и одолел бы ее ретию своей речью, которая на сей раз была бы соткана из жизненной мудрости, а не из высказываний мудрецов.
Да, конечно, нежданный уход второй жены принес ему, окольным путем, желанную победу, но то была горькая и жалкая победа, и она не ослабила его враждебности к новой жене. И потому природа и характер нового влеченья, неожиданно соединившего сейчас обоих противников, по-прежнему остаются неясными. Но неужто именно теперь, в преддверии отплытия из Европы и на пороге расставания Севера с Югом, разуму надлежит терзать себя странным и отталкивающим подозрением, будто длительная близость, навязанная этим двум людям долгими днями – а также ночами – совместного путешествия из Парижа в Вормайсу, зажгла в ком-нибудь из них – или даже в обоих сразу – некую безумную и запретную мечту, надежда на осуществление которой – вот что в действительности задерживает сейчас расставание? Ведь уже назначена даже и дата новой летней встречи воссоединившихся компаньонов в Барселонском заливе, и всё, что Бен-Атару остается, – это приказать своим исмаилитским матросам развернуть, на исходе второго дня Симхат-Тора, треугольный парус, и поднять якорь, и направить корабль вниз по реке до самого устья и дальше, в великий океан, который, возможно, кто знает, и сам уже мечтает снова повеселить это старое сторожевое судно, всласть покачав его на своих свирепых валах.
На вид их задерживает только болезнь мальчика Эльбаза – болезнь, которую госпожа Абулафия продолжает рисовать в самых мрачных красках, что дает ей возможность умолять не только самого рава Эльбаза, но главным образом Бен-Атара – ибо это он возглавляет всю экспедицию – пожалеть и пощадить маленького больного и взамен того, чтобы снова принести его в жертву ветрам и дождям, обождать еще немного и дать ему отлежаться под одеялами ее кровати. Но танжерский купец с его острым чутьем мигом угадывает, что за этими странными мольбами новой племянницы, да еще как раз в преддверии долгой разлуки, скрывается некий дерзкий замысел, из которого и он, Бен-Атар, возможно, сумеет извлечь пользу. А потому, прежде чем прикинуть, какой дать ей ответ, он посылает к больному свою единственную жену, чтобы та, разговорив и пощупав мальчика, выяснила, сколько правды и сколько притворства таится в его теле и душе. И эта умудренная жизнью и мягкая в обращении женщина возвращается с важной вестью. Хотя, скорее всего, мальчик ничего не выдумал, и первопричиной болезни было действительно мясо мерзостного животного, и именно оно поначалу растревожило сердце ребенка и воспламенило в нем чувство вины, – однако всё это затронуло лишь его душу, но не тело. Иными словами, сама болезнь – вот что чистой воды придумка.
Но и после этого Бен-Атар воздерживается от осуждения мнимого больного, взятого под такое нежное и деятельное крыло. Уж не говоря о том, что он испытывает даже некую жалость к своей бездетной и немолодой сопернице, в сердце которой внезапно шевельнулась тоска по ребенку, ему хочется также не второпях, детально обдумать новую мысль – как бы превратить эту мнимую болезнь в дополнительную гарантию прочности их торгового товарищества? Ибо возможно, что как раз в силу того, что товарищество это так резко и легко развалилось раньше, в нем и сейчас, после его возрождения, таятся скрытые трещины, из которых, того и гляди, вновь просочится на свет та проклятая ретия и опять примется плести свои хитрости – например, как в последний раз, отправить на летнюю встречу в Барселоне не Абулафию, а постороннего человека, какого-нибудь местного своего компаньона, поручив ему доставить североафриканцам причитающуюся им плату и взять у них новые товары. И хотя Бен-Атару и в голову не приходит задержать отплытие своей экспедиции из-за капризной увлеченности новой жены кудрявым южным мальчиком, похоже, однако, что магрибский купец начинает и сам склоняться к тому, чтобы уступить ей молодого пассажира и оставить его до следующего лета в Париже – пусть окрепнет и телом, и духом, но при условии, что племянник Абулафия даст недвусмысленное обещание – и упрочит его, поклявшись душою своей жены, причем не новой, живой, а той, первой, утонувшей, – что не только будет беречь мальчика как зеницу ока, но и возьмет его с собою, вместе с теми монетами и драгоценными камнями, которые собственноручно доставит на то старое римское подворье, что глядит с высоты холма на голубизну Барселонского залива. И только после того как они с Бен-Атаром в день Девятого ава пропоют плач в память о разрушении Храма, мальчик будет передан в руки Абу-Лутфи, который уже высмотрит к тому времени в конюшне Бенвенисти молодого скакуна, чтобы ночным галопом, через Тортосу, Толедо и Кордову, вернуть маленького Эльбаза в объятья его отца в Севилье.
Но вот что удивительно. Бен-Атар, уже увлекшийся мыслью о том, как будет взволнована госпожа Эстер-Минна, когда получит под свою опеку, безо всякой боли родов и трудностей взращивания, уже готового, чернокудрого и разумного мальчишку, с которым она сможет, взяв его за руку, неторопливо прогуливаться по улицам маленького острова, никого не стыдясь и никого не стесняясь, – этот увлекшийся Бен-Атар пока даже не дает себе труда спросить у рава Эльбаза, а согласится ли тот вообще отдать своего ребенка, и лишь ради того, чтобы его свежей молодостью упрочить тот союз между Севером и Югом, который был воссоздан одной лишь силой смерти. Впрочем, ближе узнав севильского рава за время долгого и мучительного путешествия, магрибский купец в глубине души подозревает, что тот не только обрадуется возможности уберечь единственного отпрыска от мучений и опасностей обратного пути, но и сам, чего доброго, захочет остаться с ним в Париже. Но поскольку Бен-Атар даже и помыслить не может отказаться от общества рава и слов Писания и остаться в пустыне океана с одной лишь верной спутницей рядом: два одиноких еврея в окружении коварных исмаилитов, – он пока не дает нетерпеливо ожидающим парижским родственникам никакого ответа, а решает вначале вернуться на корабль, чтобы обсудить зародившийся у него новый план со своим давним и надежным компаньоном Абу-Лутфи.
Увы – Абу-Лутфи, похоже, уже не так надежен, как прежде. Ибо в отсутствие хозяина корабля он без спроса, по собственному разумению, не только разрешил капитану Абд эль-Шафи поставить мачту и натянуть ванты, но даже велел поместить в трюм – для остойчивости, как он говорит, – новый товар взамен того, что был выпущен оттуда в широкий свет.
Новый товар? – несколько недоуменно спрашивает еврей, торговая сметка которого все же несколько притупилась после смерти второй жены. Разве в этой Богом забытой стране есть что-нибудь стоящее, что может заинтересовать жителей юга? Но Абу-Лутфи не отвечает и лишь заговорщически подмигивает, предлагая хозяину самому спуститься в трюмные недра. И уже на подходе к кормовому люку Бен-Атар чует поднимающийся оттуда чужой и незнакомый запах, к которому примешивается какой-то странный, сбивчивый шепот многих голосов. А спустившись вниз, он неожиданно для себя различает в расчищенном от товаров пространстве очертания каких-то людей, привязанных к деревянным балкам старого сторожевого судна.
Рабы? – с ужасом шепчет он при виде нового товара, который втайне от него был доставлен на корабль, – и тотчас спрашивает себя, нет ли в этом предзнаменования грядущих неприятностей. Ведь Абу-Лутфи, когда-то начинавший как мелкий, услужливый приказчик в танжерской лавке тканей Бен-Атара, никогда доселе не осмеливался проявлять самостоятельность и предпринимать что-либо, не получив разрешения и благословения еврейского хозяина. Не взимает ли он сейчас плату за свое участие во всех перипетиях тяжбы между евреями – той тяжбы, которая, несмотря на все ее мучительные превратности, косвенным образом расширила и углубила умственный, а возможно, и духовный кругозор этого исмаилита? Или же тут нет ничего, кроме свидетельства презрения, а то и гнева, возникшего при виде слабости мужчины, который позволил своей молодой и цветущей жене уйти из подлунного мира только затем, чтобы он, этот мужчина, мог понравиться новой жене – светловолосой и голубоглазой женщине с бледным и грустным лицом?
Подойди поближе… – загадочно шепчет Абу-Лутфи своему компаньону, но тот никак не решается углубляться в темноту корабельного чрева, неожиданно дохнувшего на него незнакомой, жутковатой угрозой. Исмаилит, однако, не отстает, упрямо настаивая, чтобы хозяин поближе присмотрелся к очертаниям поразительного товара, который тем временем застыл в любопытстве при виде нового хозяина, пока тот тоже стоит в молчании, размышляя о необычной натуре и стоимости этого товара. И по мере того как расширяющиеся зрачки Бен-Атара привыкают к темноте трюма, он понемногу начинает различать отдельные лица, проплывающие перед его взором, и дыхание его резко учащается, когда он понимает, что видит перед собою пятерых высоких, худых, усталых мужчин в длинных кожаных рубахах. И сердце его на миг дает сбой, когда он замечает, как веселые пятна света, просочившегося в щели корабельного корпуса, пляшут и мерцают на тусклых соломенных волосах и в блеклых голубых глазах, печаль и покорность которых не может скрыть даже темнота, царящая в трюме. Он так потрясен и растерян, что его охватывает острая тоска, и он на миг прикрывает глаза, чтобы перевести дыхание, – прежде чем обернуться к самодовольно улыбающемуся Абу-Лутфи и спросить, во что же обошелся и какой, собственно, веры этот поразительный новый товар, привязанный к закопченным старым деревянным балкам.
И удивительно, как врожденное коммерческое чутье позволяет этому еврею, еще не углубившемуся даже как следует в проблемы работорговли, правильно связать два этих коротких и точных вопроса. Ибо Абу-Лутфи немедленно начинает с гордостью рассказывать, как он, оставшись один, пока евреи возносили в Вердене свои горестные мольбы о милосердном приговоре и отпущении грехов, вышел в Париже на человека, торгующего рабами, и после погребения второй жены тайком сговорился с ним, что в обмен на пять мешков пахучих специй и десять медных горшков тот даст им пятерых северных рабов, причем столь выгодная для приезжих сделка объясняется отнюдь не тем, будто новый товар страдает какими-то физическими или умственными недостатками, а исключительно недостатками его веры, точнее, отсутствием веры вообще. Ибо эти светловолосые люди с голубыми глазами происходят из самых диких, отдаленных мест на безотрадном севере европейского материка – из таких отдаленных мест, что их и за тысячу минувших лет не успела достичь благая весть о рождении, смерти и воскрешении Распятого бога. А говоря проще, они тоже идолопоклонники, разве что северные, а не южные, светлые, а не черные, и загадочность и случайность их мыслей и действий делает их настолько непредсказуемыми, а потому и опасными, что не приходится удивляться их низкой цене на местном рынке.
Идолопоклонники? – шепчет в отчаянии Бен-Атар, и Абу-Лутфи, весь сияя, утвердительно кивает. А чем же мы будем их кормить? И кто будет их охранять? Но исмаилит настолько рад необычайно выгодной сделке, которую совершил по собственному почину, что тут же клянется своему еврейском другу и хозяину взять на себя всю ответственность за сохранность нового товара и всю заботу о нем и обещает, что будет не только неотступно и зорко следить, чтобы от них не произошла какая-нибудь неприятность, но также попытается научить их, за время долгого плавания, начаткам арабского и пониманию приказов на нем и этим увеличит их привлекательность в глазах будущих покупателей, а значит, повысит и их цену. Ибо он, Абу-Лутфи, ни на миг не сомневается, что соломенные волосы, светлая кожа и зеленовато-голубые глаза тотчас разожгут пылкий интерес жителей Андалусии и Магриба и те сразу же возжаждут новых партий этого товара.
Бен-Атар молчит, но странная печаль сжимает его сердце с такой силой, что ему хочется лишь побыстрее выбраться из трюма. Поэтому он торопливо поднимается на палубу, но там Абд эль-Шафи и несколько здоровяков-матросов, которые доныне всегда уважительно сторонились почтенного хозяина, теперь вдруг грубо хватают его за одежду и требуют отчалить сей же час, пока океаном не завладели северные штормовые ветры, которые превратят их корабль в смертельный капкан. И Бен-Атар вновь ощущает, что эта их необычная дерзость и необузданность речей вызваны не только его непонятной медлительностью, но также отсутствием второй жены, к смерти которой, по их убеждению, он сам косвенным образом приложил руку. Он поспешно и сбивчиво бормочет очередные обещания, но похоже, что его обещания уже не имеют в их глазах никакой цены, коль скоро они совершенно открыто угрожают ему, что если он немедленно не соберет всех своих еврейских пассажиров, то команда сама, с зарею, поднимет якорь и отплывет не только без пассажиров, но и без самого хозяина.
И хозяин понимает, что это не пустая угроза и если он не согласится на отплытие, то потеряет свой корабль. И он вдруг ощущает, что с его души свалился тяжкий груз, как будто этим исмаилитам удалось раз и навсегда раздавить своими грубыми подошвами все те колебания и сомнения, которые томили его с первого дня прибытия в Париж. И он спешит на северный берег, в дом Абулафии, чтобы поторопить свою жену и рава Эльбаза на корабль и обсудить с племянником и его новой женой как условия, на которых маленький мнимый больной будет сдан в их дом на временное хранение, так и, главным образом, тот способ, которым этот заклад будет возвращен следующим летом. Ибо Бен-Атар все еще не в силах полностью освободиться от сомнений в прочности срастающегося сейчас товарищества. Как будто вонзенный в него кинжал отлучения так и застрял в его сердце и до сих пор не возвращен в свои ножны, даже со смертью второй жены, а всего лишь обернут старой мягкой тканью и с его, Бен-Атара, исчезновением из Европы немедля найдется предлог повторно вонзить этот кинжал в его тень, которая будет витать в комнатах этого мрачного дома, как нежеланное привидение. Ибо он подозревает, что госпожа Эстер-Минна вовсе не отказалась от своей прежней враждебности к их товариществу, которое вновь отнимет у нее Абулафию, извлечет его из-под ее власти и опять отправит странствовать по далеким южным дорогам, где он будет то и дело встречаться с дядей, – а кто может поручиться, что дядя этот, оказавшись на своем далеком черном материке, не исхитрится снова вернуться, пусть даже втайне, к своим прежним любовным повадкам.
Вот почему, быстро шагая с берега на берег по очаровательным улочкам маленького острова, Бен-Атар снова думает, что было бы, пожалуй, лучше всего примириться с неожиданным капризным желанием бездетной женщины заполучить временного приемного сына и таким обходным путем упрочить восстановленное товарищество. Но поразительно, что даже теперь его ничуть не беспокоит мысль, что рав Эльбаз может отвергнуть любую попытку отделить от него единственного сына и передать его в заклад. Неужто этот еврейский купец и вправду полагает, что, наняв себе в помощь этого рава, он тем самым приобрел права не только на его ум и знания, но также на его душу и чувства? А может, в нем говорит тайное желание наказать этого андалусца за его самоуверенность и неуемную страсть к ученым спорам, которые соблазнили Эльбаза согласиться на дополнительный суд в топких болотах Рейнской земли?
Но когда евреи окружают постель маленького пассажира, который в ожидании приговора смотрит на Бен-Атара расширившимися от страха черными глазами, и когда тот торжественно объявляет о своем согласии оставить мальчика в Париже, внезапно обнаруживается, что авторитет главы экспедиции крошится уже не только среди исмаилитов, но и среди евреев. Ибо тут выясняется, что рав Эльбаз не только не стал дожидаться хозяйского согласия оставить у госпожи Эстер-Минны своего единственного сына, но и сам уже решил присоединиться к нему в качестве гостя и опекуна.
И вдруг Бен-Атара впервые охватывает доселе никогда не испытанный панический страх, и ему в его отчаянии кажется, что отныне этот страх будет следовать за ним всю оставшуюся жизнь, как будто занял место второй жены. Его лицо багровеет, и он весь дрожит от гнева, вызванного изменой маленького рава, который, оказывается, готов, не задумываясь, бросить на произвол судьбы своего нанимателя вместе с его единственной женой – которая между тем тихо сидит тут же, в углу комнаты, с непокрытым лицом, и молча, испытующе следит за мужем своим мягким взглядом, – пускай себе плывут, подвергаясь всем опасностям в одиночку, не защищенные ни святостью, ни молитвой, да еще на старом сторожевом судне, на палубе которого крутятся наглые исмаилиты, а в трюме связаны идолопоклонники, и один Господь знает, какие темные замыслы кроются в светлой голубизне их глаз. Однако с чего вдруг этот рав так осмелел, что решился пренебречь авторитетом и достоинством своего хозяина? Быть может, его внезапное предательство вызвано не только мрачными предчувствиями в отношении их возвращения на родину, но также наличием какого-то очередного, втайне состряпанного коварного плана, направленного на подрыв только что восстановленного товарищества с помощью еще одного хитрого обмана, в котором раву, собирающемуся следующим летом вернуться с сыном в Севилью, отведена роль посланца Абулафии, меж тем как самого Абулафию его жена будет по-прежнему удерживать возле себя, в Париже?
А если так, тут же проносится мстительная мысль в уме магрибского еврея, то, может, нужно пригрозить раву, что, покинув хозяина, он потеряет право на то вознаграждение, что было обещано ему за мудрость и ученость, тем более что в конечном итоге ни эта мудрость, ни ученость никакой пользы так и не принесли. Однако тотчас мелькнувшие в его уме дополнительные соображения побуждают этого бывалого, опытного купца воздержаться от желания высказать уже теснящуюся в горле угрозу. Сдерживает его не только уверенность, что Абулафия и его жена найдут способ возместить Эльбазу утраченное вознаграждение, но также ясное понимание того, что сейчас, на исходе праздничного дня, уже тонущего в грустных сумерках, куда действенней окажутся не шумные угрозы, способные лишь обострить разрыв и усилить одиночество и страх обратного плавания, но, напротив – спокойный, тонкий и мудрый расчет, благодаря которому близкая разлука северного и южного компаньонов сохранит в своем лоне дополнительный залог, надежно гарантирующий, что в начале месяца ава полуразрушенное римское подворье, глядящее на Барселонский залив, действительно станет местом сердечной встречи любящего дяди с любимым племянником.
И Бен-Атар старается заглянуть в самую глубину прекрасных лисьих глаз, чтобы понять, какой залог следует потребовать от этой решительной и умной соперницы, чтобы кровь его молодой жены, пролитая на алтарь восстановленного товарищества, не оказалась пролитой впустую. Но госпожа Эстер-Минна не избегает пронзительного взгляда смуглого мужчины, и не опускает своих глаз, и не пригашает их сияние – она лишь прикрывает их в каком-то мягком, одновременно порицающем и предостерегающем призыве, как будто безмолвно приглашает охваченного тревогой южного соперника не столько вглядываться, сколько вслушиваться. И видимо, не зря эти смелые и сильные противники провели вместе столько часов – это научило их читать друг у друга в душе и правильно толковать прочитанное, тем более что магрибский купец все еще не забыл, как эта женщина упала в обморок в ночь своего поражения на Виль-Жуиф и как он наклонился, и поднял ее с земли, и понес на руках к далекому костру. Что ж удивительного, если сейчас он понимает ее молчаливый намек и подчиняется безмолвной просьбе отвести свой взгляд и навострить уши, прислушиваясь к ее залогу, который как раз сейчас начинает завывать за перегородкой.
Ну, конечно, ведь если все согласны оставить южного мальчика на далеком севере, в самом сердце Европы, во все более сгущающемся мраке приближающегося тысячелетия, в качестве залога и гарантии летней встречи компаньонов в Барселонском заливе, то будет лишь справедливо подкрепить это согласие параллельной гарантией и противопоставить ему другого мальчика, взятого с севера на юг! А коли нет мальчика, то сойдет и девочка – лишь бы побудить молодого кудрявого супруга одолеть любые уловки, которые с приходом весны может придумать бездетная и решительная, гордая и подозрительная женщина, чтобы помешать его воссоединению с местом, откуда он родом. И тогда Бен-Атар будет уверен, что Абулафия действительно явится в Испанскую марку собственной персоной – забрать свою дочь из страны очарований обратно в страну убожества.
Да, как это ни удивительно, но именно такая странная мысль вспыхивает вдруг одновременно у обоих участников тяжбы, этих жестких и трудных соперников, которые столкнулись друг с другом сначала на расстоянии двух континентов, а потом в схватке лицом к лицу и вот сейчас, в преддверии разлуки, когда их сердца полны сомнений и взаимных подозрений, связанных с будущим возрожденного товарищества, слились воедино, в своей тревоге и усталости, в этой новой идее – обменять ребенка на ребенка, чтобы гарантировать не только осуществление летней встречи в Барселонском заливе, как этого хочет Бен-Атар, но также ее кошерность, как того хочет госпожа Эстер-Минна.
Ибо всякий, кто дал бы себе труд навострить ухо да внимательно прислушаться к возобновившимся стенаньям несчастной девочки, мог бы заметить, что со времени встречи с южными подростками вой бессмысленного отчаяния сменился у нее воплями тоски. И именно поэтому человек, который, как и госпожа Эстер-Минна, напрочь не верит, будто к рождению этого ребенка приложили руку наговоры и бесы, будет, разумеется, только рад вернуть ее, хоть ненадолго, в город ее детства, на голубые берега, где она могла бы вновь окунуться в уже повыцветшие в ее памяти ароматы и краски и утолить мучения своей тоски их сладостной явью. Тем более что в таком случае госпожа Абулафия, освободившись от надобности присматривать за ней, сможет присоединиться по весне к странствиям своего супруга, чтобы вместе с ним порадовать душу встречей с компаньонами в уединенном и радушном подворье над Барселонским заливом и поглядеть вблизи, как проходит тысячелетие в землях исмаилитов, уже не опасаясь столкнуться с двоеженством танжерского дяди, а заодно, кстати, глянуть собственными глазами, каким образом этот мудрый дядя делит между партнерами доходы их заморской торговли.
И вот все складывается так, что в этот осенний парижский вечер, под гулкие удары колоколов монастыря Сен-Жермен-де-Пре, стены которого тянутся по самому берегу, прежняя ретия окончательно испаряется и в сумрачной комнате, освещенной дрожащим мерцанием свечей, былое торговое товарищество, возрожденное из праха, захороненного в недалекой могиле, сплачивается и упрочивается с такой силой, что на мгновение кажется даже, что отныне оно будет куда прочнее и сплоченнее, чем до того злополучного вечера на постоялом дворе в Орлеане, когда Абулафия впервые повстречал свою будущую жену. И пока сам Абулафия все еще силится проникнуть в суть сдвоенного замысла жены и дяди, за перегородкой уже отдается торопливым шепотом надлежащий приказ, и тевтонская служанка начинает поспешно собирать девочку в плавание, а ее каморку убирать для мнимого больного, который меж тем продолжает лежать в постели, сжимая ногами одеяло, как на море сжимал ими конец корабельной мачты. И даже молодой господин Левинас, который способен от каждой новой мысли отпочковать еще и еще одну, тут же, не отвлекаясь на восторги по поводу действий старшей сестры, начинает прикидывать, какую пользу можно извлечь из сокровищниц мудрости рава Эльбаза, чтобы тому не пришлось, упаси Боже, вплоть до следующей весны есть у них хлеб из милости.
Но вот усталый и измученный Бен-Атар подает жене знак подняться и следовать за ним и, так и не глянув ни на рава, ни на Абулафию, поспешно покидает дом, словно опасаясь, что новая жена попытается стянуть возрожденные узы их сотрудничества еще сильней, вплоть до полного удушья. Он выходит в вечернюю прохладу, пересекает реку по наплавному мосту и быстро, сноровисто прокладывает себе путь по переулкам парижского острова, что за минувший месяц стал ему вроде второй родины, торопясь возвестить Абу-Лутфи и Абд эль-Шафи, что вожделенный приказ уже пританцовывает на кончике его языка. Однако, подойдя к небольшому причалу на правом берегу, где в темноте, еле видимые, теснятся вплотную друг к другу мачты и паруса, он внезапно ощущает сильнейший страх – ему вдруг чудится, что, приведя свою угрозу в исполнение, исмаилиты и впрямь отчалили без его разрешенья, и на какой-то миг у него даже перехватывает дыханье. Но нет – вот оно, его старое сторожевое судно, покачивается себе на мелкой волне, и хоть уже много времени прошло с тех пор, как южные путешественники стали на якорь в порту Иль-де-Франс, а оно так и не слилось с окружением и по-прежнему явственно выделяется среди стоящих вокруг христианских лодок и кораблей.








