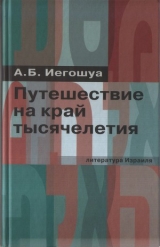
Текст книги "Путешествие на край тысячелетия"
Автор книги: Авраам Б. Иегошуа
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
И вот она лежит возле осиротевшего севильского мальчика, чутко и напряженно следя, чтобы не пропустить ни один вздох или бормотанье, ни один стон или жалобу, чем бы они ни были порождены, сном или болью. А тем временем снаружи милосердная луна уже скрылась за тучами, и черный бархат ночи медленно плывет над поверхностью Сены, которая ласково обнимает берегами своих раздвоенных рукавов островное сердце маленького Парижа. И внезапно новая и страшная тревога, смешанная с каким-то нежным и непонятным счастьем, заливает душу этой бездетной, немолодой женщины, и она клянется себе, что не даст Ангелу смерти вторично обездолить тех смуглых южных людей, которых вытащила в Европу ее враждебная ретия, но, напротив, использует всю силу своей праведности и ума, чтобы спасти лежащего перед нею маленького сироту, которому она не только должна, но и сама сейчас страстно жаждет стать второй матерью, взамен покойной.
Она так взбудоражена этой мыслью и так лелеет и разжигает ее в своем воображении, что отказывается не только от сна, но даже от того, чтобы хоть немного вздремнуть. Наоборот, она встает с постели и стоит, как часовой, над больным ребенком, который ворочается и вздрагивает во сне, преследуемый своим ужасным грехом, который оборачивается всё новыми кошмарными виденьями. А ночная тишина вокруг так глубока, так безмолвна, что госпоже Эстер-Минне кажется, будто она не только слышит каждый, самый слабый, шорох и звук в своем доме, но даже может правильно его опознать. Вот за стеной поднимается неровное, быстрое дыхание Абулафии, который пытается спать, не обращая внимания на кошмары растревоженной души лежащей рядом с ним девочки. А вот внизу, в крошечной сукке, рав Эльбаз шепотом изливает тревогу в тихих молитвах, стараясь не разбудить молодого господина Левинаса, которого и во сне пьянит радость исполнения «заповеди сукки». И так блаженна и восхитительна эта тишина вокруг, что, кажется, открой она сейчас окно и напряги слух, она услышала бы не только мерные пошлепывания маленькой шлюпки, привязанной к борту причаленного на противоположном берегу корабля, но даже звук шагов молодого идолопоклонника, который в этот миг пробирается, охваченный желанием, в хижину старого резчика, что на северном холме за рекой. А если она постарается еще сильнее и, зажмурив глаза, склонит голову и погасит внутри любую мысль и любое желание, то, возможно, до нее донесутся даже едва слышные рыдания первой жены, которая в эту минуту вымаливает любовь своего мужа в темных глубинах корабля.
Глава седьмая
Она ворошит посыпанные лавандой угли в жаровне и вновь разглаживает положенный на пол ковер, устраивая уютное место для сна, которому уже не терпится обнять скорбящего человека. И прежде чем выйти из крохотной каюты, поворачивается к масляной лампе – засыпать золой ее пламя, чтобы тени деревянных балок, пляшущие на стенах тесного помещения, не тревожили сон супруга, глаза которого меж тем сопровождают каждое ее движение. Но не успевает она протянуть руку к светильнику, как слышит два приказа, звучащих друг за другом в легко угадываемой связи: «Не гаси» – и тотчас за ним: «Не уходи». Словно бы североафриканский еврей уже ощутил, что в первой и теперь единственной его жене появилась какая-то новизна, которая не может выявиться в темноте и требует яркого света, чтобы обнаружить всё, что в той новизне сокрыто. И не удивительно поэтому, что эти четыре коротких слова, произнесенные с такой решительностью, хотя печально и мягко, заставляют большую, спокойную женщину вздрогнуть и медленно приспустить веки.
Она конечно же знает, что сидеть траурную шиву в праздничные дни запрещено, и, стало быть, всё, что делает Бен-Атар здесь, в каюте на дне корабля, – это бунт и своеволие, недаром же рав Эльбаз предостерегал его, что небеса не зачтут ему этот траур, – и, тем не менее ее слегка пугает нежданное вожделение супруга, ибо, будучи галахически вполне законным, оно почему-то чудится ей родившимся не только из его бесконечной скорби и тоски, но, быть может, также из некого безумного желания соединить обладание живой женой с обладанием женой мертвой в едином совокуплении, прямо здесь, на этом ковре. И потому она смотрит на мужа с безмолвной мольбой и робким неуверенным жестом пытается намекнуть ему, что если пробудившееся в нем желание порождено лишь потребностью тела, но не души, то, быть может, лучше обождать еще несколько дней, пока корабль снова выйдет в плавание, мерные покачивания которого, возможно, сумеют смягчить его тело, ожесточившееся и окаменевшее за время мучительного и все еще не завершенного пути.
Но Бен-Атар в действительности думает сейчас вовсе не о своем теле, а как раз о теле своей единственной жены, о той теплой мягкости, которая сейчас обнимает, гладит и наполняет собою каждую пору его плоти. И хотя он не прикасался к ней касанием мужчины с того самого времени, когда они ночью, в полусознательном состоянии, въехали в узкие переулки Вормайсы и у него сразу же выхватили и забрали обеих жен, но он знает – даже просто поглядывая на нее время от времени, – что она-то нисколько не ожесточилась и не окаменела за время их погребального пути с берегов лотарингской реки к берегам реки франков, но, напротив, стала еще мягче и щедрее, и в ней даже, возможно, открылись какие-то новые горизонты, которые он и намерен сейчас исследовать – не только со всей серьезностью, подобающей акту любви, но даже и с некоторым неприязненным интересом, который его самого удивляет как своей неожиданностью, так и силой.
Но хотя эта неприязнь обращена не к присутствующей жене, к которой уже тянутся со страстным желанием его руки и губы, а к жене отсутствующей, той, что так поторопилась отчаяться из-за своей неединственности, что не захотела более оставаться на земле, но лишь упокоиться в ней, сама его первая жена тем не менее ощущает, что эта неприязнь каким-то образом затрагивает также и ее, и впервые с тех пор, как она почувствовала себя женщиной, вдруг ощущает желание отстраниться от мужа, тоже своего рода ретией, как будто тяжелый путь от одной большой европейской реки к другой и обратно превратил и ее в новую жену. И несмотря на то что в тесном пространстве этой крохотной каюты, стиснутой закопченными в былых сражениях деревянными балками, любая попытка такого отстранения может быть лишь мысленной, а не реальной, Бен-Атару тем не менее приходится что есть силы обнимать и удерживать свою жену все то время, пока он сам, собственными руками, снимает с нее, одну за другой, ее одежды, чего ему прежде никогда делать не приводилось, ибо эта теплая и мягкая нагота со всеми ее тайнами всегда преподносилась ему во всей своей щедрости и полноте сразу же и безо всяких его стараний.
Увы, эта их странная горячечная борьба лишь окончательно утверждает первую жену в подозрении, что супруг, с такой лихорадочной поспешностью высвобождающий сейчас ее тело из пестрой шелухи одежд, хочет не только соединиться с тем новым, что появилось в ней теперь, когда она стала его единственной женой, но и впрямь отыскать в ней следы второй жены. Но уверенность эта, потрясая ее душу горечью и болью, одновременно, к ее изумлению, пробуждает в ней такое острое и незнакомое наслаждение, что на какой-то миг ей кажется, будто та пара грудей, что рвется наружу из-под яростно разрываемой его рукою рубашки, – не только ее груди, но также и груди той, другой женщины, и желание, от которого набухают и отвердевают соски и пупок той другой, усиливает и разжигает ее собственную страсть.
И пока язычок пламени выхватывает из темноты то полные ягодицы, то руки и бедра, заметно пополневшие и округлившиеся в результате долгих трапез у костра во время ночных стоянок меж Иль-де-Франс и Лотарингией, все более воспламеняющийся супруг тоже утверждается в своем мнении, что пророческие догадки его сердца были верны. И что в те же самые печальные и проклятые дни, когда его вторая жена постепенно угасала, первая тайком распрямлялась и расцветала, да так пышно, что теперь он, волнуясь, спешит развязать одну из тех пеньковых веревок, которыми Абд эль-Шафи стянул корабельные балки, но на сей раз не для того, чтобы связать самого себя, как поступал в те ночи на море, когда хотел успокоить и утешить молодую жену, оскорбленную тем, что она не первая, а вторая, – а затем, чтобы стянуть этой пенькой, пусть не очень сильно, руки лежащей перед ним большой и грузной женщины, своей единственной теперь жены, от которой требуется отныне успокаивать и удовлетворять его страстное желание, которое и после всего происшедшего никак не хочет отказаться от прежней пылкости, рассчитанной на двоих.
И разве не по велению такой же страсти, как та, что заполняет сейчас крохотную каюту на дне корабля, пытается в эту минуту молодой черный язычник пробраться по еле различимым во тьме тропинкам обратно в ту хижину с деревянными идолами, в которую он был заточен лишь сегодня пополудни, вместе с двумя еврейскими детьми? Ведь его влечет туда вовсе не одно лишь внезапно пробудившееся в нем, странное желание распластаться, хоть однажды, перед своим собственным, а не перед чужими изображениями, но еще и то, что он не в силах забыть, как смеялись те три незнакомые франкские женщины и как они, ничуть не смущаясь, касались своими руками его обнаженного члена, который с тех пор так и остался твердо стоящим навытяжку в их честь. И хотя желания этого черного юноши совсем еще девственны и неотчетливы, как в своих границах, так и в своей цели, но осенняя ночь над Парижем, затянувшая звезды легкой туманной дымкой, таит в себе столько томлений и соблазнов, что их одних вполне достаточно, чтобы благополучно провести этого сына пустыни, унаследовавшего к тому же от предков нюх следопыта, мимо спящих хижин, через темные поля, под хоровое кваканье лягушек и отдаленный вой шакалов и лис, прямиком в хижину старого резчика, маленькое оконце которой, как он с радостью видит, всё еще освещено.
Его лицо, повисшее в рамке открытого окна, кажется таким черным, что хозяин хижины поначалу даже не различает, что кто-то глядит на него снаружи почти в упор, хотя именно этот образ он пытается в эту минуту воссоздать с помощью своего воображения. Даже сейчас, в глубоком мраке ночи, когда он бодрствует один, в окружении трех женских тел, сонно распластавшихся среди разбросанных по комнате идолов, старого мастера не оставляет страстная одержимость своим ремеслом. Ибо ему хочется успеть – еще до того, как с наступлением тысячного года Сын Божий предстанет перед людьми в своем последнем и окончательном обличье, – приправить грезящийся ему облик Спасителя чертами сына иной расы. И потому он продолжает долбить красноватым медным долотом белое тело стоящей перед ним деревянной колоды, пытаясь вызвать из сумерек своих воспоминаний черное лицо и не замечая, что оно молча висит в окне совсем рядом. Но тут старшая из трех женщин, повернувшись на своем ложе, вдруг различает нежданного гостя, в изумлении тянущегося сквозь окно к своему собственному облику, который проступает из белой деревянной плоти, и, увидев знакомого юношу, тихо поднимается с места и, не говоря ни слова старому мастеру, с головой погруженному в свой труд, выскальзывает босиком наружу и протягивает теплую руку к обнаженной шее молодого африканца, который так пугается и возбуждается от этого возобновившегося прикосновения к своей плоти, что даже не решается пошевелить головой.
Однако эта немолодая, но все еще миловидная и, несмотря на седоватые волосы, полная жизненной страсти женщина отнюдь не намерена просто так отпускать чудную добычу, что прилетела на свет из глубины ночи, и, то ли толкая, то ли лаская, увлекает его внутрь хижины, но не спешит передать в распоряжение удивленного мастера, а сначала подводит поближе к угасающим углям выгоревшего очага, чтобы немного согреть перед тем, как снять с него рваную накидку. И хотя юноша не понимает, зачем она раздевает его догола посреди второй ночной стражи – то ли воскресить тот образ, который представляет себе старый мастер, то ли оживить тот, что томит ее собственное воображение, – но он и сам уже не в силах сдержать волнение и торопливо помогает ей, обнажаясь сам, от пояса и ниже, чтобы показать двум этим дружелюбно улыбающимся людям, мужчине и женщине, свою обрезанную, болезненно набухшую плоть, которая вот уже столько часов не может найти успокоения сама по себе.
И такая же обрезанная, разве что детская и мягкая мужская плоть, еще не познавшая ни враждебности, ни боли, обнажается в эти минуты меж ногами мальчика Эльбаза, который мечется среди ночи в лихорадке на постели Абулафии и пытается слабыми ручонками стянуть с себя рубаху и штаны. И хотя госпожа Эстер-Минна пытается осторожно прикрыть – а заодно и укрыть от собственного взгляда – этот невинный срам, мальчик все продолжает и продолжает стаскивать с себя одеяло, которым она его укрывает, как будто не эта обычнейшая ткань, а какое-то отвратительное волосатое животное цепляется за его ноги. Однако госпожа Абулафия не торопится разбудить мужа и компаньона, чтобы разделить с ним свою тревогу за здоровье мальчика, и не зовет рава Эльбаза, чтобы тот поднялся из сукки и присоединился к той молитве о выздоровлении маленького андалусца, которую она возносит сейчас к небесам. Эта женщина так уверена в себе, что предпочитает обращаться к небесам в одиночку, без компаньонов, молитвы которых, как она думает, могут вызвать лишь раздражение небес.
Поскольку, однако, она не столь наивна, чтобы ограничиться одной лишь молитвой, то вдобавок спешит разбудить старую лотарингскую служанку и велит ей подогреть в печи побольше воды, чтобы вытереть влажным, мягким и теплым полотенцем пот и остатки рвоты, налипшие на теле мальчика, а заодно ручейки слез, избороздившие его щеки. Как верная дочь своего отца, она решительно не приемлет любые попытки объяснять все события мира сего бесовскими кознями или чарами колдунов, ибо покойный рабби Левинас склонен был выискивать в каждой детали и в каждом месте, даже самом забытом и презренном, проявление Божьего духа, голосу которого надлежит внимать, – и потому сейчас, обтирая теплой влажной тряпкой тело маленького Эльбаза, сбившиеся локоны которого неожиданно вновь напоминают ей кудри Абулафии, она пытается извлечь из его сбивчивого бормотания разгадку того, что произошло с подростками во время их вчерашнего похода на правый берег. Странного похода, который разумного мальчика поверг в лихорадку и беспамятство, а неразумную девочку избавил от обычной угрюмости.
Но когда мальчик поднимает воспаленные веки и видит перед собой голубые глаза новой жены – той самой женщины, ретия которой навлекла подлинное горе на хозяина судна и привела к поражению его отца-рава, – он сразу же умолкает. И хотя эта красивая и умная женщина склоняется над ним сейчас с глубокой материнской жалостью и нет в ней по отношению к нему и тени былой ретии, а одно лишь огромное участие, он все равно уверен, что стоит ему выпустить на волю тайну кроющегося в его внутренностях поросенка, и эта раскрывшаяся тайна немедленно обратится в острие меча, который вонзится ему же обратно в нутро. Однако госпожа Эстер-Минна, которую и без того уже несколько лет мучает молчание Божьего духа, поселившегося в несчастной девочке, никоим образом не согласна терпеть еще и молчание того Божьего духа, что скрывается сейчас в этом чужом ей мальчике. Тем более что, когда она глядит на этого кучерявого смуглого ребенка, да еще в тусклом свете второй стражи, ей всё кажется, будто перед нею маленький Абулафия, которого какое-то чудо привело в ее дом, чтобы она могла воспитать его заново, с самого детства. И поэтому она решает разговорить севильского духа обходным путем. Она берет свой стул и переставляет его в изголовье кровати, так, чтобы мальчик, который лежит теперь на спине, уже вымытый и пахнущий благовониями, не мог видеть ее лица и не страшился ее присутствия, а думал бы, что размышляет вслух или разговаривает сам с собою во сне.
И действительно, тихие, вкрадчивые вопросы невидимой госпожи тотчас извлекают из наивного мальчишеского сердца надлежащие ответы, хотя, увы, не на том языке, на котором эти вопросы задаются, а на отрывистом и грубом андалусском наречии. И хотя госпожа Эстер-Минна не понимает ни единого слова в этом пылком арабском признании, которое жаждет поведать ей тайну проглоченной греховной мерзости, она не останавливает поток непонятных слов, но, напротив, вслушивается в него внимательно, в надежде и уверенности, что рассказ, начавшийся на языке исмаилитов, закончится все-таки на языке евреев.
Но тем временем эта арабская речь уже проникает сквозь занавеску, что отделяет комнату от соседней каморки, и своей издавна знакомой приятной мелодией будоражит душу несчастной девочки, потому что уже вчерашней ночью вид деревянных идолов, смех франкских женщин и вкус свинины точно мановением волшебной палочки обратили ее обычную угрюмость в изумление, а постоянную замкнутость – в тревогу. И сейчас, вместо того чтобы, по своему обыкновению, подняться и завыть, вызывая из морской пучины навеки ушедшую мать, она осторожно выбирается из кровати и внимательно глядит на своего отца, который мирно похрапывает рядом. И вместо того, чтобы, как всегда, со злобной настойчивостью потянуть его за руку, требуя извлечь из морских глубин покинувшую ее мать, она осторожно протягивает маленькую, но сильную руку, слегка касается его кудрявых волос и гладит отца по лицу, чтобы он поскорее открыл глаза и извлек из подернутых туманом глубин ночи уже не утерянную мать, а черного юношу-язычника, который снова отведет ее в дом чудес, что на противоположном берегу реки.
Но словам арабоязычной исповеди мальчика Эльбаза оказывается под силу не только проникнуть сквозь занавеску и воспламенить воображение удивленной девочки в ее каморке, но также продолжить свой путь и, спустившись по перекошенным деревянным ступеням, просочиться тишайшими, но все еще отчетливыми и внятными звуками сквозь те зеленые ветви, что покрывают маленькую, хрупкую сукку господина Левинаса, символически напоминающую о бренности любого человеческого существования в этом мире, а уж тем более – существования еврейского. А там, в сукке, рядом с пальмовой ветвью, миртом и веточкой ивы, связанными в пучок и лежащими на постели господина Левинаса, словно тонкая, благоухающая свежестью вторая жена, находится человек, которому звуки этой путаной арабской исповеди мечущегося в лихорадке мальчика не только слышны, но и понятны. Однако рав Эльбаз, чей рот тоже уже осквернила теперь та запретная мерзость, которую отведал его единственный ребенок, не решается шелохнуться или проронить хоть слово, страшась, что этот маленький и такой любимый исповедующийся поймет, что его отец страдает сейчас вместе с ним.
А то же время в крохотной каюте на днище старого сторожевого судна, причаленного в гавани Парижа, рождается в эту минуту, в мареве затуманенной ночи, совсем иное, новое представление о прегрешении и наказании. Ибо североафриканский супруг, возбужденно ласкающий взглядом грузную, трогательную наготу большой, тихой женщины, что мерцает своей белизной на полу каюты, вдруг ощущает абсолютную уверенность, что ему и впрямь удастся объединить ушедшую в иной мир молодую хозяйку этой крохотной каюты с лежащей перед ним первой женой. И потому, перед тем как окончательно подчиниться вожделению, которое все больше вскипает в его крови и вот-вот заставит упасть на колени, и обнять, и гладить, и целовать, и лизать, и кусать белеющие чистотой округлости этого тела, что сумело сохранить свою желанность даже в муках путешествия, которое с такой жестокостью убило ее подругу, – он на миг прикрывает глаза и страстной волей воображения вызывает в памяти лицо и тело своей второй жены. И вот он уже смотрит в узкие янтарные глаза, в которых мелькают желтоватые искры, гладит длинные смуглые ноги, ноги девочки, вышедшей замуж раньше, чем кончился ее детский бег, ощущает ладонями шелковистость плоского живота, твердость грудей молодой лани, колючесть розовых, взбухших от вожделения сосков. Булькающая под ним речная вода сонно качает и укачивает его, но он по-прежнему тверд в стремлении срастить обе свои страсти в едином телесном слиянии. Однако в тот миг, когда он уже тает и растворяется в волшебстве этой двойственности, сотворяющейся в нем самом, и рука его уже нащупывает шнурки накидки, чтобы жаркой наготой своего тела помочь этому рвущемуся за все пределы и безграничному в возможностях двойному обладанию, он вдруг ощущает, что его напряженно восставшая плоть уже опередила своего хозяина в поисках заветной цели и мучительного облегчения и, толкаясь в траурном разрезе его рубахи, не смогла устоять и теперь окутывает себя – но только себя! – теплым бархатом собственного семени.
Неужто это и есть то сращенное обладание, которого я так страстно желал? – раздумывает в отчаянии Бен-Атар, разочарованный тем, что семя его осквернилось, излившись всуе в пустоте темной каюты. Если так, то это не сращение, а наказание, и я навлекаю его не только на себя, но и на ту единственную, которая осталась со мною. И действительно, его старшая жена, с первой брачной ночи научившаяся распознавать любой оттенок его настроения, уже чувствует, как в полутьме каюты распространяется запах впустую извергнутого семени, и ее тяжелые бедра, радостно поднявшиеся было в предвкушении приближающегося любовного слияния, разочарованно опускаются на ковер, покрывающий ложе женщины, не исчезнувшей даже и в своей смерти, а руки, уже тянувшиеся утешить своими мягкими прикосновениями усталое и измученное тело любимого мужчины, неслышно расплетаются. И хотя теперь она как будто освобождена и отпущена, она не решается прикрыть свою обманутую наготу и только, не спросясь, по собственному почину, задувает уже бессмысленный огонек, свертывается огромным белым зародышем и пытается слиться в своей обиде не только с обидой отсутствующей жены, которую только что понуждали выпростаться из смертного савана и совокупиться противу воли, но также с обидой потерявшей голову и не достигшей цели мужеской плоти собственного супруга.
А плоть эта и впрямь выглядит сейчас неказисто – пристыженная и дряблая, обмякшая и источающая слезы. И хотя Бен-Атар страшится приближаться в таком виде к единственной жене, которая, возможно, уже отчаялась в нем, он знает, что отныне не найдет себе искупления, пока не прикоснется к этой женщине настоящим прикосновением, которое утешит ее, даже если не удовлетворит. И хозяин корабля молча опускается в темноте на колени и осторожно, одними губами, выискивает на обнаженном теле жены единственно правильное и достойное место, в котором можно – а также дозволено – спрятать стыд, горящий на его лице. Но там, в широкой лощине меж ее грудями, Бен-Атар вдруг ощущает какую-то влагу в своей бороде, и на минуту ему приходит в голову трогательная мысль, что эта женщина, отчаявшись в его мужской силе, хочет покормить его грудью, как ребенка. И он осторожно сближает ладонями ее груди и приближает оба соска к своим ушам – в надежде услышать, быть может, звуки вновь нарастающего потока. Но сладкие бугорки, нежно щекочущие мочки его ушей, сухи, и, судя по их мягкости и вялости, прилив страсти еще далек. И только тогда этот человек, так твердо возглавлявший мучительное путешествие с далекого юга на самый север, соглашается признать, что слезы, которые он упрямо сдерживал в себе все эти долгие дни, они, именно они – то, что льется сейчас безостановочно из его глаз.
Но Бен-Атар даже представить себе не может, как чудесны и сладки для женщины слезы мужчины, катящиеся меж ее грудями. Она молчит, стараясь не сделать чего-нибудь такого, что удержит и остановит эти слезы. Ибо временами как раз там, где самец в мужчине терпит неудачу и сникает, человек в нем кажется женщине особенно трогательным и желанным. И хотя первая жена понимает, что слезы эти – по второй, которую он утратил навеки и отныне и навсегда не имеет права заменить, не обиду и не гнев ощущает она сейчас, а напротив – даже некую гордость из-за того, что слезы по другой, утраченной женщине не изливаются всуе в этом темном пространстве, а стекают меж ее грудями и скользят по ее животу, пробуждая надежду, что слезинка второй жены сумеет увлажнить и ее устье и, прозрачная, чистая, проложит себе путь вплоть до обители зачатия, той самой, что сейчас уже раскрывает слегка свои бесстыдные губы, чтобы маленьким своим язычком шепнуть любимому мужчине от имени его единственной отныне жены, что ей нужны не его мужские фантазии и полет его воображения, а лишь сам он во всей своей телесности и в своей любви.
Ведь воображение наше способно не только к полету, но и к буйству – как вот у этих франкских женщин, в хижине старого резчика, что подталкивают и распаляют сейчас друг друга при виде молодого гостя, пришедшего из глубин ночи, чтобы распластаться нагишом перед своим резным подобием. Правда, поначалу они лишь хихикают да перешептываются на местном наречии, поглядывая на черную, словно вырезанную из слоновой кости фигуру юноши, который безмолвно всматривается в черты собственного изображения, сражающегося с белой плотью дерева, но мало-помалу созерцание чистой, четкой линии, что разделяет его высеченные совершенной рукой, темно сверкающие ягодицы, заставляет их глаза расшириться в сладком ужасе, и старшая наконец глубоко вздыхает и прикусывает маленький кулачок. Но вместо того чтобы вызвать веселье, или смущенье, или даже легкую насмешку ее подруг, это откровенное проявление страсти, напротив, лишь высвобождает то беспокойное вожделение, которое пробудилось в них троих при виде этого полуночного соблазна, стоящего перед ними во всем великолепии своей нетронутой мужественности. Ибо наивная настойчивость, с которой этот странный африканец обнажал себя перед старым мастером, воспламенила похотливое воображение не одной, а всех этих женщин сразу, открыв перед ними темный пролом к новым, бесконечно будоражащим, но и бескрайне греховным горизонтам.
И вот уже молния совместного распутного замысла перебегает из глаз одной женщины в глаза другой, молчаливо устремляясь затем в сторону старого хозяина – проверить, нуждается он еще в этой живой натуре, неподвижно застывшей перед ним, или юношу можно уже использовать для иной надобности, не художественной и не религиозной, зато полной чудесных и живых телодвижений. И старый резчик – душу которого так веселит это женское томление, заполнившее его тесную хижину в самой середине ночи, что, похоже, он и сам уже им заражен, – откладывает наконец свое долото, сдувает щепки с деревянной колоды, упрямо отстаивающей свой уродуемый лик, и затем покрывает ее куском ткани, словно желая скрыть от нее тот блуд, который, еще немного, объявится здесь во всем своем бесчинстве. Потом он удаляется в маленькую темную комнатку и ложится на подстилку, однако не покрывает лица, желая все-таки узнать, которая же из трех женщин окажется первой по жребию.
Оказывается, однако, что женщины не хотят, а может быть, и не в силах ждать, кого из них выберет жребий, и предпочитают разделить общую судьбу во всей тяжести ее беспутства. И, не успев даже сбросить свои одежды, они кольцом окружают юношу, черная набухшая плоть которого, разжигая их вожделение, беспрепятственно позволяет передавать себя из рук в руки, изо рта в рот и из блудилища в блудилище, как будто она принадлежит не человеку, а животному. И чем больше усиливается эта тройственная страсть, пролагающая себе путь в самые глубины третьей стражи, чем более дерзкой и необузданно дикой становится она, тем больше печали и боли примешивается к той восхитительной дрожи наслаждения, что провожает крошащуюся девственность сына пустыни. И когда срывающиеся с его губ страстные стоны начинают напоминать вопли дикого верблюда, он уже понимает и чувствует, что отныне и далее, до конца своих дней, ему не избавиться от тоскливой ярости желаний, которые всегда будут понуждать его самого и его потомков пробивать себе путь с юга на север.
И что удивительно – когда туманная полоска рассвета, прочертив горизонт, отделяет землю от неба, те же боль и печаль заволакивают мысли госпожи Эстер-Минны, и сердце ее сжимает новая острая тоска. Только, в отличие от черного раба, которого там, в хижине резчика, что на правом берегу реки, три разнузданные женщины швыряют друг другу своими поцелуями и укусами, – здесь, в еврейском доме, что на улице Ля-Арп, рядом с фонтаном Сан-Мишель, здесь тоска эта вкрадчиво и нежно пролагает себе путь в противоположном направлении, с севера на юг. И хотя с той ночи, когда Бен-Атар впервые появился в ее доме вместе с маленьким Эльбазом, госпожа Эстер-Минна вроде бы только и ждет минуты избавления от того кошмара, что вторгся с юга, чтобы перевернуть ее жизнь, – теперь, когда миг отплытия южных путешественников становится все ближе, ей как будто бы даже жаль расставаться с этими побежденными людьми, и прежде всего, быть может, – из-за тревоги за судьбу андалусского мальчика, уснувшего сейчас наконец глубоким, спокойным сном на постели ее мужа. Ибо после того как мальчик этот, рыдая и запинаясь, кончил исповедоваться в своем грехе на чужом, неизвестном ей языке исмаилитов, он начал рассказывать, на сей раз уже на святом и понятном языке евреев, о том, как его пугает и страшит предстоящее обратное плавание.
А ведь госпожа Эстер-Минна никогда доселе не имела в своем распоряжении реального, из плоти и крови, ребенка, которого она могла бы обучать добрым делам днем и чей сон она могла бы охранять ночью. Вот почему, едва лишь вместе с первым утренним ветерком у входа в ее спальню вырисовывается силуэт рава Эльбаза, она тотчас спешит навстречу, чтобы помешать ему отнять у нее этого трогательного кудрявого мальчика, который наконец-то обрел желанный покой и сон. И с этой затаенной целью она усердствует в преувеличенных описаниях ужасов миновавшей лихорадки и страстно заклинает рава позволить ей искупить своим преданным уходом и надлежащей заботой все, чему она была в прошлом причиной. Да, сейчас она ощущает раскаяние в жестком упрямстве своей ретии – хотя, конечно, не в ней самой. И севильский рав с изумлением смахивает с глаз паутину сна, ибо с тех самых пор как он сошел на берег в парижской гавани, он еще ни разу не слышал от своей утонченной соперницы слов раскаяния. И внезапно голубизна ее глаз воскрешает в его душе воспоминание о небесах далекой Андалусии. Доведется ли ему снова их увидеть?








