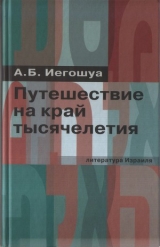
Текст книги "Путешествие на край тысячелетия"
Автор книги: Авраам Б. Иегошуа
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
Да и то сказать, все семьдесят дней с начала путешествия не было ни единого дня, когда бы обе его жены ни находились на расстоянии протянутой им для прикосновения руки или, по крайней мере, брошенного им взгляда. А ведь вся притягательность и сладость тройственной любви как раз в том и состоит, что она заставляет каждого из ее участников время от времени разлучаться с партнером, предоставляя ему возможность как следует ощутить вкус того, что было получено, прежде чем попросить о добавке. Однако за время долгого пути от Сены к Рейну, в сумраке закрытого, трясущегося фургона, погоняемого татуированными руками Абд эль-Шафи, постоянно видя обеих своих жен, устало лежащих рядом друг с другом, а иногда, на крутом повороте, – и просто друг на друге, Бен-Атар уже начал опасаться, что отныне в его любовных фантазиях они так уже и будут всегда представляться ему слившимися воедино, и поэтому сейчас он, по правде сказать, отчасти даже доволен, что не видит их и не знает, где они в эту минуту. Может быть, за этой стеной, в маленькой женской синагоге? Или же заперты в одном из мрачных деревянных домов на сваях и прислушиваются из-за занавесок к доносящемуся сквозь окна хору лягушек, громкое кваканье которых разносится по всему болотистому простору Рейнской земли?
Кваканье шумное, многоголосое и упрямое, которое рыжеволосый кантор, возглавляющий богослужение, изо всех сил старается заглушить своим высоким, но уверенным голосом, твердо ведя за собой молитву и не поддаваясь капризам молящихся, которые всё пытаются либо замедлить, либо ускорить песнопения, то пропустить что-то, а то и вернуться по собственным следам. И рав Эльбаз все больше укрепляется во мнении, что человек, привыкший изо дня в день с такой уверенностью вести за собой молитву столь набожной и ученой общины, сумеет так же уверенно повести эту общину за собой в качестве единственного и последнего арбитра в предстоящем судебном разбирательстве, даже если он и не почитается самым ученым и авторитетным среди местных знатоков Торы. И севильский рав уже ощущает даже какую-то близость к своему избраннику с его золотистой бородой и побагровевшими глазами, словно встретил в нем родную душу. Но когда по окончании молитвы молодой господин Левинас торопливо подходит к южным гостям, широко улыбаясь своим соперникам в ожидании похвал и восхищения духовным богатством родного города, рав Эльбаз по-прежнему остерегается открыть ему, хотя бы малейшим намеком, свое намерение потребовать, чтобы их дело рассматривал один третейский судья, а не собрание многих или даже община в целом, и ограничивается лишь тем, что осторожно расспрашивает его о рыжеволосом канторе, который меж тем медленно и неохотно складывает свой талит, как будто сожалея об окончании молитвы.
И выясняется, что господин Левинас, который хорошо знает и помнит здесь всех и вся, может рассказать и о канторе, которого, как оказывается, зовут рабби Иосеф, и хотя к его имени тоже прибавляют «Бен-Калонимус», как именуют себя чуть не все евреи Вормайсы, ведущие свой род от тех евреев, что прибыли сюда сто лет назад из Италии по желанию императора Оттона, но этот Иосеф является Калонимусом лишь частично, только по отцу, тогда как со стороны матери он потомок древней местной семьи, которая, если верить легенде, пришла сюда вместе с легионами Юлия Цезаря, воевавшими здесь более тысячи лет назад. Кроме того, этот Иосеф – вдовец, но, в отличие от рава Эльбаза, после смерти первой жены не остался в одиночестве, а поспешно женился снова, на вдове из собственного рода, чтобы объединиться с ней в заботе о своих и ее осиротевших детях. И, возможно, именно потому, что его дом и без того полон детей, господин Левинас решил отправить к нему на постой самого молодого из южных путешественников.
Только тут рав Эльбаз понимает, почему его мальчик не сводит глаз с этого рыжеволосого человека и даже свою маленькую черную шапку сдвинул набок точно на такой же манер, как тот. И он вдруг ощущает; будто рука незримого доброго ангела любовно ложится ему на плечо, и мысль его уже спешит укрепиться в сделанном выборе. Ведь куда лучше изложить свою жалобу судье, который, как и сам Бен-Атар, имеет опыт супружеской жизни с двумя женщинами, пусть и не с двумя одновременно! У него даже мелькает мысль, не присоединиться ли и ему к сыну да погостить в доме своего «избранника», чтобы выявить слабые места его характера и ума, но он тут же отвергает эту идею, опасаясь, что слишком большая близость вызовет подозрения, и решает лишь предложить этому Иосефу для завтрашней утренней молитвы свой маленький черный шофар, чтобы тот попробовал извлечь из него более мягкие и приглушенные южные звуки, когда настанет время перейти к молитве «мусаф».
Но вот уже приходит пора развести гостей поодиночке в отведенные им дома для участия в приготовленной хозяевами праздничной трапезе, и тогда рав Эльбаз спешит наконец поделиться с Бен-Атаром своей новой идеей и просит его согласия представить их дело на рассмотрение одного-единственного судьи, которого они, южане, выберут сами. И магрибский купец, до сих пор всегда вынужденный задним числом соглашаться со всеми решениями, которые навязывал ему маленький андалусский мудрец, и на сей раз, хоть и не без удивления, соглашается с ним, потому что и сам уже понимает, что восторженную наивность невежественного суда под Парижем сменит здесь, на Рейне, суровая, слитная и неуступчивая разумность уверенной в себе общины, и поэтому здесь лучше вести спор перед лицом одного человека, но зато такого, который обладает отзывчивым сердцем и к тому же привык стоять во время молитвы так, что вся община находится за ним, а не впереди него.
Заручившись этим согласием, рав Эльбаз подходит к молодому господину Левинасу, который тем временем высматривает свою сестру среди выходящих из синагоги женщин, и впервые дает ему понять, и притом не от своего имени, а от имени истца, что в Вормайсе они хотят сократить состав суда настолько, чтобы он состоял всего из одного судьи. И проницательный господин Левинас, которого горький опыт Виль-Жуиф тоже научил, что тот, кто определяет состав суда, определяет и его приговор, немедленно навостряет уши и переспрашивает: один судья? Но почему? Ведь в Вормайсе можно насладиться совместной мудростью многих?
Однако рав Эльбаз – в своей наброшенной на плечи черной накидке и заостренной шапке он сейчас выглядит в точности как местный еврей – упрямо стоит на своем. Именно потому, что вормайсская община изобилует знатоками Торы, которые учатся друг у друга, но при этом также зорко следят друг за другом и остро соперничают один с другим, им, южанам, желательнее один-единственный судья, даже если он возьмет на свою совесть вину окончательного разрыва между дядей и племянником, между Севером и Югом. Но кто будет этим единственным? – нарастает в душе господина Левинаса тревога, теперь уже подогреваемая теплой близостью сестры, которая сейчас, после вечерней молитвы, в окружении своих соотечественниц, выглядит особенно радостной и цветущей. Неужто и здесь, как под Парижем, выбирать его опять будет мальчик и опять вслепую? Но нет, рав Эльбаз, оказывается, вовсе не хочет снова полагаться на судьбу – на сей раз он требует права прямого выбора, а право это, по всем законам справедливости и человечности, должно, разумеется, принадлежать истцам, ибо именно они, будучи уверены в своей правоте, доверили тела и души бурному океану, дабы прибыть в далекую Европу и потребовать возмещения нанесенной им обиды. И разве, выиграв дело в первом суде, они не согласились, со всей душевной щедростью, на второй, дополнительный суд, в глуши этой далекой страны Ашкеназ со всеми ее лесами и болотами, в темном и бедном городке, где у ответчиков полным-полно родственников, причем все они, как один, высокообразованны и остры умом? А посему человечность и справедливость требуют, чтобы истцам было предоставлено право самим выбрать того, кто вынесет окончательный приговор.
На эти веские доводы господину Левинасу нечего ответить, и он только гадает, поняла ли его старшая сестра, в сверкающих глазах которой мелькает легкая улыбка, хитроумный план андалусского рава, который всю свою вдохновенную речь изложил на святом языке и с большой горячностью. И уже во время праздничной трапезы в доме своего хозяина, престарелого вормайсского раввина, севильский рав узнает, что право выбора, которое он сам себе присвоил, – дело решенное, и ему остается лишь снова и снова проверить выбранного им тайком кандидата. Поэтому в перерывах между обсуждением различных разделов Торы он пытается извлечь из хозяев дополнительную информацию о рабби Иосефе бен-Калонимусе, и когда ему, как бы между прочим, рассказывают, что много лет назад родители рабби Иосефа хотели просватать за него госпожу Эстер-Минну из дома Левинас, но взыскательные родители девицы предпочли Калонимусу половинчатому Калонимуса полного, душа рава вздрагивает так сильно, будто на сей раз рука доброго ангела не просто коснулась, а прямо-таки приласкала ее. Не означает ли это, что в выбранном им судье соединились, возможно, сразу два достоинства и справедливость его приговора будет добавочно подкреплена давним желанием воздать за обиду былого отказа?!
Но и назавтра, во время утренней молитвы, рав Эльбаз все еще не открывает имя избранного им судьи никому, даже своему нанимателю, что стоит сейчас, напряженно выпрямившись, в густой толпе молящихся рядом с любимым племянником, своим «условным компаньоном», который в силу врожденной музыкальности и тут ухитряется так точно вплетать свой мелодичный голос в самые сложные молитвенные рулады общины, что кантору Иосефу бен-Калонимусу на мгновенье кажется, будто у него появился конкурент. Но когда на канторской подставке разворачивают свиток Торы и рабби Иосеф бен-Калонимус начинает извлекать из узкого горла огромного витого позолоченного шофара звуки ткиот, шварим и труа, рава Эльбаза вдруг охватывает какой-то неясный страх, словно хриплый, громкий и требовательный голос ашкеназского козлиного рога таит в себе какое-то неожиданное и грозное предостережение. Но он тут же собирается с духом и снова приободряется, особенно после того, как рабби Иосеф бен-Калонимус укладывает свиток Торы обратно в ковчег и обращается к андалусскому гостю с просьбой почтить молитву «мусаф» звуками ткиот из того маленького южного шофара, который рав ухитрился скрыть от глаз начальника верденской таможни.
И вот так, неспешно, со сдержанным волнением, проходит первый день праздника, а за ним, весь в тонких, надоедливых струях дождя, проходит и день второй, за предвечерней молитвой которого, «минхой», мягко следует по пятам вечерняя молитва Покаянной субботы. А Бен-Атар всё еще не знает – а может, не хочет знать, – в каком из этих покосившихся домишек, поднятых на высоких деревянных сваях и схваченных потемневшими балками, хозяева укрывают его жен. Беспросветно серое осеннее небо маленького ашкеназского городка словно высосало из души магрибского купца его постоянную двойную страсть и взамен заполнило каким-то ватным отчаянием, которое так мутит его мысли, что на миг возникает даже опасение – а не махнет ли он вдруг на всё рукой, и не пойдет ли в конюшню за синагогой, чтобы выбрать там самую лучшую и сильную из тех лошадей, что так верно провезли их от Сены к Рейну, и не помчится ли на ней в одиночестве через всю Европу обратно в родной Магриб?
Ибо если поначалу Бен-Атар хотел молча, на деле, доказать, как доказал в Париже, свою способность сполна и без предпочтений выполнять права и обязанности двойного супружества, то теперь, увидев, как местные евреи с первого же мгновения отделили его от обеих жен, он понимает, что не от мужчины ожидают здесь доказательств, а как раз от женщин. Но доказательств чего? – вновь и вновь задается он вопросом. Что это, только ли бескорыстное благочестие, спрашивает он себя уже с некоторым раздражением, или же в этом странном поведении вормайсцев присутствует также скрытое желание заронить в сердца двух южанок страх, а то даже и чувство вины, как если бы та большая любовь, которая услаждала и услаждает их обеих, уже изначально была греховна?
И он не знает, что с того момента как молодой господин Левинас передал общине требование рава Эльбаза изложить все дело перед одним-единственным судьей, евреи Вормайсы весьма приуныли, потому что вот уже несколько дней они развлекали себя мыслью о том, что обсуждение судьбы трех женщин позволит им развеять скуку, ожидавшую их после исхода праздника и субботы. Но, даже собравшись в синагоге после гавдалы – уже не как будущие судьи, а просто как пассивные наблюдатели – и ожидая известия, кого же из ученых мужей выбрал на роль судьи маленький и энергичный андалусский рав, они еще не могут себе представить, что он собирается навязать им еще одно ограничение, с новой решимостью потребовав суда при закрытых дверях, дабы сочувственное дыхание непримиримой общины не успокаивало совесть выбранного им судьи, буде он все-таки решится навеки оторвать Север от Юга.
И потому теперь от вормайсских евреев требуется, вопреки их воле, разгородить синагогу двойным занавесом, чтобы тем самым отделить общину от помещения суда. Но даже упрямый рав Эльбаз не может запретить им в таком случае осветить синагогу поярче, добавив в нее свечей и масляных ламп, чтобы от собравшихся не ускользнул облик тяжущихся, когда они будут по вызову проходить в маленькое, скрытое занавесом помещение рядом с Ковчегом Завета. В Виль-Жуиф под Парижем, на первом суде о двух женах, просторное помещение винодельни было освещено горящим факелом, который отбрасывал в углы огромные, таинственно двоящиеся тени, и судьям на их винных бочках могло показаться, будто они находятся в глубинах ада, где все до единого, и мужья, и жены, раздвоены и разорваны пополам, но тут, в Вормайсе, андалусский рав хочет, напротив, выгородить для суда небольшое, хорошо освещенное пространство, где тяжущиеся и свидетели будут находиться в тесном соседстве друг с другом и с самим судьей – тем единственным судьей, которого теперь наконец пора уже выделить из толпы евреев, заполняющих синагогу.
И хотя тот, которому предстоит стать избранным, рабби Иосеф бен-Калонимус, сидит себе пока в углу, с рассеянным, отсутствующим видом, то ли мельком прислушиваясь к болтовне окружающих, то ли вообще ее не замечая, он, похоже, уже предчувствует, что будет избран, – об этом свидетельствует не только то, с какой готовностью он по вызову передает свою свечу соседу и с какой поспешностью поднимается с места, но главное – талит, который он так и не снял с себя со времени последней вечерней молитвы. И сейчас ему, возможно, хочется оправдать перед окружающими оказанную ему честь, всем своим видом подчеркивая, будто кресло судьи, занять которое он теперь вызван, – не более чем продолжение канторского пюпитра, мимо которого он идет в эту минуту за разгораживающий занавес, и, что бы там ни случилось, он по-прежнему остается, как был, рядовым членом общины, и по-прежнему держится тех же мнений, что все остальные, и по-прежнему, когда надо, будет трубить для своей общины в шофар.
Шепоток разочарования проходит по рядам благочестивого собрания, когда эти проницательные люди осознают, что их андалусский гость ухитрился выбрать из их среды самого мягкого и не особо острого умом человека, которого, однако же, никак нельзя забраковать, ибо, хотя вся его сила лишь в песне души, а не в особой учености или мудрости разума, но кто же решится заявить, что человек, который достоин быть посланником общины и кантором на молитвах, не достоин представлять ту же общину в качестве судьи? Но есть среди присутствующих и такие, и среди них, конечно же, молодой господин Левинас, которых тотчас охватывает новая тревога, ибо они помнят и знают, что избранник рава Эльбаза – не только вдовец, познавший тела двух женщин, пусть даже одну за другой, а не двух попеременно, но вдобавок также бывший претендент на руку той самой госпожи Эстер-Минны, которая сейчас обвиняется в ретии, а в таком случае сознание, что ему было недодано в прошлом, может повлиять на его судейское решение в настоящем.
Поэтому молодой господин Левинас немедленно устремляется за перегородку, где рав Эльбаз уже усаживает смущенного рабби Иосефа бен-Калонимуса на судейское место и располагает Бен-Атара и Абулафию друг против друга, торопясь использовать накат вызванного им потрясения и тут же, молниеносно, начать судебное разбирательство, которое, вероятно, и закончится так же молниеносно, потому что будет проходить на одном лишь святом языке, без всякого перевода. Но молодой господин Левинас, со страхом понимая, что ситуация неожиданно осложнилась и что в результате их с сестрой излишней самоуверенности хитрый севильский рав, того и гляди, снова повернет судебный приговор против них, да еще в их родной твердыне, разражается стремительной речью, причем, то ли из экономии времени, то ли для того, чтобы рав его не понял, говорит на тяжелом ашкеназском диалекте с примесью смятых и изувеченных ивритских слов, где все твердые «т» заменены дряблыми, с кислинкой, звуками «с», и эту свою речь он решительно обращает прямо к судье, который всё это время беспокойно кутается в свой сероватый от старости талит.
Но вся взволнованная речь господина Левинаса сводится, оказывается, к одному простому требованию – допустить к участию в суде его сестру, госпожу Абулафию, которая считает себя участницей тяжбы в той же мере, что и своего мужа. И хотя сердце рабби Иосефа бен-Калонимуса мягко вздрагивает, когда он слышит это неожиданное предложение, он не соглашается с ним сразу, а сначала обращается к чужому раву, который выбрал его судьей, чтобы спросить, не возражает ли тот добавить к участникам суда женщину, которая вроде бы не принадлежит напрямую к торговому товариществу. И рав, как будто на миг растерявшись, не может сразу найти подходящего возражения, однако, не желая ничего дарить безвозмездно, неожиданно требует, сам не понимая почему и зачем, уравновесить участие госпожи Абулафии присутствием трех исмаилитов, этих моряков-кучеров, ибо не только по милости Господа, но и благодаря труду этих простых людей истцы добрались в такую даль, до самой Вормайсы, целыми и невредимыми.
И вскоре уже почтенное вормайсское общество в волнении встает, чтобы получше разглядеть, как трех исмаилитов, срочно доставленных в синагогу из отведенных им домов, будут одного за другим вводить за перегородку. И пока евреи таращатся на проходящего мимо них черного юношу и в набожном страхе шепчут про себя: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, владыка вселенной, создавший столь различные творения», – госпожа Эстер-Минна незаметно, за их спинами, проскальзывает в помещение суда через заднюю дверь. И хотя сердце господина Левинаса теснит раскаянье, что он позволил раву Эльбазу заполнить маленькое помещение суда слугами-неевреями, ему по-прежнему верится, что он поступил правильно. Ибо давно уже его старшая сестра не выглядела такой цветущей и привлекательной, как сейчас, на исходе субботы, стоя рядом с ковчегом Торы в тонком шелковом чепце на светлых волосах. Сон в давней супружеской постели как рукой снял с нее усталость от переезда и раздражение, вызванное южными гостями, так непрошено ворвавшимися в ее жизнь, а ласкающие слух молитвы, плывущие во влажном воздухе болотистой земли детства, разгладили тонкие морщинки и вернули блеск ее порозовевшему лицу и голубым глазам, которые сейчас дружелюбно улыбаются побагровевшему судье, который все еще не забыл, как двадцать лет назад ее родители отказали ему в сватовстве.
И вновь, как тогда, в сумрачном зале винодельни, молодой господин Левинас исполняет обязанности церемониймейстера и первым делом вызывает главного истца, Бен-Атара, чтобы тот изложил свою жалобу, которая с таким упорством стремилась сюда с самого западного края земли. А поскольку на сей раз обвиняемый Абулафия уже не может служить переводчиком, ибо в своих торговых странствиях никогда не добирался до Ашкеназа и потому не знает местного языка, то господину Левинасу поневоле приходится согласиться с тем, что переводить с языка исмаилитов на святой язык и обратно будет рав Эльбаз, хотя господин Левинас прекрасно понимает, что расторопный рав наверняка использует любую возможность усилить и приукрасить нужные слова на их извилистом пути от языка к языку.
Но первые же слова Бен-Атара изумляют не только всех вормайсских евреев, но даже андалусского рава и переводчика. Ибо вместо того чтобы повторять произнесенный им в винодельне под Парижем плач по поводу страданий своего мусульманского компаньона и тяжелого ущерба от потери товаров, вызванной предательством отстранившегося партнера, который выискал у мудрецов сомнительный талмудический предлог для ретии, желая на самом деле просто увеличить свои доходы, упрямый магрибец внезапно возвращается вспять в Виль-Жуиф, словно не было никаких двенадцати суток тяжелой «сухопутной добавки» от реки Сены до реки Рейна и весь теперешний второй суд – лишь прямое и немедленное продолжение первого, а потому он намеревается сейчас ответить на те резкие и суровые обвинения, которые выдвинула тогда, в полумраке винодельни, госпожа Эстер-Минна, его истинный соперник в этой тяжбе, заявив, будто бы истинной причиной того, что несчастная первая жена Абулафии связала себе руки и ноги цветными лентами, помогая морским волнам в их страшном деле, были не стыд и позор из-за ворожбы и порчи, которые были насланы на ее лоно, а ужас при мысли, что теперь Абулафия почувствует желание взять себе вторую жену – то желание, безоговорочного осуждения которого госпожа Эстер-Минна хочет теперь добиться у святой вормайсской общины.
И, несмотря на полную неопытность в судейских делах, рабби Иосефу бен-Калонимусу, с помощью пылко-витиеватого, но подробного перевода рава Эльбаза, удается понять, что этот смуглый, сильный человек, прибывший с другого края земли, намерен здесь, в Вормайсе, возобновить все разбирательство с самого начала. Ценой раскрытия давней семейной тайны он хочет защитить не только свой собственный двойной брак, но и двоеженство вообще, которое атаковала новая жена Абулафии, самонадеянно и непрошено присвоившая себе право говорить от имени его первой, лишившей себя жизни жены, якобы с целью отомстить за эту несчастную женщину. И только теперь, к удивлению всех присутствующих, выясняется, что согласие Бен-Атара взвалить на себя «сухопутную добавку» и отправиться на дополнительный суд в Рейнскую землю было вызвано вовсе не отчаянием Абулафии или страстным стремлением рава Эльбаза повторить свою замечательную речь, но прежде и более всего – его собственным желанием изобличить и опровергнуть, причем именно в родном городе своей противницы, те клеветнические обвинении, которые новая жена высказала перед судом на винодельне Виль-Жуиф.
Ибо кто, как не он, Бен-Атар, может свидетельствовать об истинных намерениях той грешной женщины? Ведь в тот горький и горестный день, когда несчастная пришла в его лавку тканей, чтобы оставить своего младенца на попечение Абулафии, а самой, ненадолго освободившись, сходить на рынок и поискать на лотках кочевников амулет, который принес бы ей утешение или благословение Господне, она не сразу ушла на берег моря с купленным на рынке удилищем, как думают все, а вначале вернулась в лавку, чтобы забрать своего ребенка. Но обнаружив, что Абулафия не смог вынести присутствия своей порченой дочери даже самое короткое время и бросил ее, одну, на рулонах ткани, под тем предлогом, что его ждут на «минхе» у Бен-Гиата, она впала в такое отчаяние и печаль, что, не сдержавшись, сорвала с себя чадру, чтобы на глазах у любимого дяди осушить свои слезы. Так вот, эта молодая красивая женщина не только не страшилась, что ей придется делить ложе своего мужа с другой женой, но напротив – в те свои последние часы сама предложила себя во вторые жены дяде Бен-Атару, чтобы тем самым помочь своему мужу насовсем избавиться от нее, потому что боялась, что родит ему еще одного порченого ребенка. Но Бен-Атар доподлинно знал, что любовь Абулафии никогда ее не покинет, и потому со всей мягкостью и осторожностью отклонил ее странное предложение, а чтобы успокоить несчастную, предложил, что сам присмотрит за ее «заговоренной» дочкой, пока Абулафия не вернется с молитвы, она же тем временем может поискать себе амулет получше, – ибо как он мог подумать, что вместо того, чтобы снова отправиться на рынок, она повернет прямиком к городским воротам и станет искать утешения в морской пучине?
И когда североафриканский купец роняет последние слова своего признания, они падают на пол вормайсской синагоги, словно бы превращаясь в маленьких ядовитых змей, так что не только отстранившая и отстранившаяся, но и ее рассудительный брат в ужасе отшатываются от них. И лишь Абулафия, который только сейчас и здесь, в далеких глубинах рейнских болот, впервые узнал эту страшную правду, продолжает стоять, как окаменевший, разве что губы его сильно бледнеют. А смешавшийся судья, не уверенный, действительно ли то, что он понял, – это именно то, что было произнесено, видит лишь, что слова истца парализовали всех, находящихся в маленьком судебном помещении, и поэтому беспомощно поднимается со своего места и направляется к занавесу, словно намереваясь спросить совета у своей благочестивой общины. Но рав Эльбаз торопится предотвратить это намерение и легким, хотя и уважительным прикосновением старается вернуть этому растерявшемуся, но в его глазах по-прежнему подходящему человеку ту уверенность, которая позволит ему, Эльбазу, рассчитывать, что здесь, в Вормайсе, приговор первого суда будет подкреплен.
И мягкой силы этого прикосновения действительно оказывается достаточно, чтобы рабби Иосеф бен-Калонимус передумал и вернулся на место. И тут он, ранее опасавшийся даже искоса глянуть на женщину, к которой его когда-то не допустили, впервые поворачивается в ее сторону и видит на ее лице чуть заметную дрожь тревоги, порожденной странным молчанием и оцепенением ее мужа. Тем молчанием и оцепенением, которые рав Эльбаз тут же решает использовать, чтобы ошеломить судью и тем самым направить его мысль по совершенно новому руслу. И хотя рав по-прежнему испытывает сильнейшее желание повторить ту замечательную речь, которую он произнес в винодельне, в присутствии густобородого купца из Эрец Исраэль, чье отсутствие он сейчас болезненно ощущает, он понимает, что синагога ревностной и благочестивой общины Вормайсы – не самое подходящее место для речей в защиту непокорного, упрямого мужского воображения, в котором, вопреки любым и всяким постановлениям мудрецов, всегда будет жить образ второй жены. Поэтому он меняет тактику и неожиданно устремляет свою мысль к отдаленным горизонтам, а чтобы сделать эту даль зримой и осязаемой, подзывает к себе обоих моряков-исмаилитов и черного язычника, которые все это время продолжают молча стоять рядом с Ковчегом еврейского Бога, ничего не понимая в происходящем.
Ибо если, несмотря ни на что, рассуждает, как бы про себя, рав Эльбаз, существуют все же на свете такие истовые в своей вере евреи, как те, что в напряженном молчании стоят сейчас за занавесом – евреи, воля которых настолько сильна, что способна полностью изгнать из воображения образ второй жены, вплоть до самых кончиков пальцев на ее ногах, – то эту необыкновенную силу воли дает им, видимо, то, что они горят желанием освободить в своем воображении почетное место для образа возлюбленного спасителя нашего, Царя-Мессии, который не нуждается в тысяче лет, чтобы прийти к своему народу, а требует лишь исполнения всем народом всех заповедей Торы. Но видите ли, начинает рав с жаром развивать эту свою новую мысль, обращаясь вроде бы к сидящему против него взволнованному судье, но, судя по громкости голоса, явно желая, чтобы его услышали и за занавесом, где община, затаив дыхание, ловит каждое слово, видите ли, уважаемые учителя и собратья, священное вормайсское сообщество, ведь еще немного, и мы все до единого вернемся в Страну Израиля, страну, текущую молоком и медом, где нет бульканья болот и кваканья лягушек, а струятся прозрачные ручьи и звучат соловьиные трели. И в те последние дни, в конце времен, там, в Земле Израиля, соберутся не только такие далекие евреи, как вы, но также, как предписано и обещано, все прочие, пришедшие в этот мир народы, тоже жаждущие Божьего слова. И первыми среди них будут, разумеется, наши ближайшие соседи, магометане. И тогда эти люди, желая угодить избранным и спасенным евреям, которые почитают одну-единственную жену, как если бы она была самим Господом Богом, могут подумать, что им тоже следует прогнать от себя лишних жен, вторых, и третьих, и четвертых.
С этими словами рав подходит совсем близко к трем крепким исмаилитам, которых местные евреи уже успели нарядить в черные накидки и заостренные шапки, что, впрочем, нисколько не изменило их суть и не смягчило их душу, разве что еще более подчеркнуло их всегдашний дикий вид, – и голосом, в который вплетается нотка жалости, спрашивает и тут же сам себе отвечает на свой вопрос: так подобает ли нам, евреям, омрачать радость нашего спасения печалью, болью и обидой столь многих исмаилитских женщин, которые внезапно окажутся в безутешном одиночестве? Но, с другой стороны, сумеем ли мы убедить наших добрых соседей, жаждущих присоединиться к еврейской геуле, не слишком усердствовать в этих попытках изменить свою натуру, если сами не покажем им, что на свете есть и другие евреи, вполне благочестивые и верно следующие Закону, но, как и они, исмаилиты, имеющие двух жен, что, однако, нисколько не уменьшает их веру и праведность в глазах остальных?
И тут занавес слегка приподымается. Это маленький сын рава Эльбаза, услышав издали громкий голос отца, осторожно приподымает одно из крыльев красного занавеса и, тихонько войдя в помещение суда, останавливается между своим гостеприимным хозяином, рабби Иосефом бен-Калонимусом, и родным отцом, равом Эльбазом, как будто явился их примирить. И рав Эльбаз с изумлением глядит на сына, сдвинувшего свою маленькую заостренную шапку на новый, франтоватый манер, потом переводит взгляд на судью, на лице которого при виде мальчика пробегает легкая улыбка, и думает с надеждой: быть может, это знак, что пора прекратить всякие речи и попытаться извлечь из ласковой улыбки этого ашкеназского судьи такой просвещенный и исполненный терпимости приговор, который позволит естественно сложившемуся товариществу существовать и далее – как в силу прежнего братства, так и в преддверии грядущего спасения?








