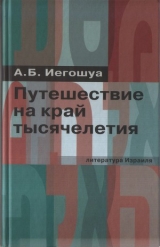
Текст книги "Путешествие на край тысячелетия"
Автор книги: Авраам Б. Иегошуа
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
И поскольку ни боль, ни судороги не нарушают сон магрибского купца, микстура верденского врача действует на него с удвоенной силой, так что он час за часом продолжает лежать в глубине маленькой рощи под монастырем, недвижный и безмолвный, как будто некий божий сон сковывает сейчас все его члены. И на следующее утро, когда Абд эль-Шафи запрягает двух лошадей в большой фургон, чтобы, как обещано, вернуть семерых евреев Меца в их общину, рав Эльбаз решается, на собственную ответственность, с превеликой осторожностью снять два золотых браслета с холодных и гладких щиколоток умершей женщины и передать их этим семерым, согласившимся дополнить их миньян, – конечно, не в виде платы за доброе дело, ибо они совершили его, разумеется, ради самого доброго дела, но лишь для того, чтобы сделать еще слаще их возвращение домой. И, зная уже, насколько твердо настроен Бен-Атар предотвратить погребение любимой жены на заброшенном верденском пустыре, он велит временному черному еврею, этому последнему из уже распавшегося миньяна, собрать валяющиеся на монастырском дворе потемневшие доски, чтобы сколотить из них прочный закрытый ящик, в котором можно будет с надлежащим уважением и надежностью довезти вторую жену до кладбища в Париже.
И только удары молотка в тишине послеобеденного воскресного часа извлекают наконец Бен-Атара из пропасти его желткового сна. И в сладкой, тяжкой истоме пробуждения ему чудится, что все это сон и что никогда он не отправлялся ни в какое плавание, ни с первой женой, ни со второй, а лежит сейчас, с наслаждением развалившись на своей большой кровати в своем голубом танжерском доме, а голоса, которые доносятся до него из внутреннего двора, говорят ему, что старшие сыновья спешат выполнить заповедь постройки сукки. Но паутина глубокого сна продолжает рваться вокруг него, и вот он уже ощущает жесткость своего ложа, и меж порыжевших листьев, трепещущих перед его глазами, ему открывается свинцово-серое небо Европы – той Европы, которой удалось превратить отстранение в отлучение, а отлучение – в смерть.
И память вдруг вонзается в него своими когтями, и острая боль голода и утраты с такой силой обрушивается на него, что он торопливо поднимается и идет к ближайшему ручью сполоснуть лицо, но по пути чует запах костра и, посмотрев в ту сторону, видит, что его живая жена, которая, очевидно, все это время оставалась с ним рядом, чтобы никто не потревожил его сон, теперь и сама в конце концов заснула – как была, в измятой одежде, подле тлеющих головешек, на которых греется его миска с едой. И, не занимаясь поисками рава и прочих спутников, он, точно голодный зверь, набрасывается на слегка подгоревшую пищу, вкус которой обостряет приправа двухдневного поста, и долго ест, стоя в тишине рощи, а затем, не желая будить подругу своей юности, направляется к дому врача, над трубой которого вьется голубоватый дымок, посмотреть – не свершилось ли там какое-нибудь чудо и не вернулся ли кто-нибудь снова к жизни?!
И вот он входит в дом, в который все последние дни входил и выходил так свободно, словно это было его собственное жилище, и первым делом видит стоящую возле плиты жену врача. Она помешивает большой деревянной ложкой в дымящемся под вытяжной дырой горшке, и ее маленькие голубые глазки смотрят на него с легкой укоризной, словно говорят: давно пора было проснуться. Он виновато склоняет голову, с бьющимся сердцем входит во внутреннюю комнату и там, потрясенный, обнаруживает, что его вторая жена уже завернута и запакована в саван, словно посылка, приготовленная к отправке. Кто осмелился, не спросясь, так запаковать то, что ему всего дороже и любимей?! Врач? Или андалусский рав, с нетерпением ждущий продолжения пути?
Не раздумывая ни минуты, он быстро закрывает за собою дверь, лихорадочно, горящими от возбуждения пальцами высвобождает вторую жену из полотняных оков и снова вглядывается в ее прекрасное лицо, так заострившееся за минувшую ночь, что теперь она похожа на какую-то большую и странную птицу. Его дрожащая рука нерешительно приближается к ее векам, чтобы осторожно приподнять их и в последний раз увидеть в скошенных, как плавник, глазах то былое янтарное мерцание, которое всегда заставляло его сердце биться учащенней. Он еще продолжает медленно и бережно, чуть трогая ее своими поцелуями и прикосновеньями, прощаться с этим телом, дарившим ему столько наслаждения и радости, как вдруг слышит позади шаги рава Эльбаза, который, не постучав, входит в комнату и без всякого смущения, совершенно свободно, смотрит на лежащую перед ним женщину, как будто смерть и впрямь превратила его наконец в ее второго мужа.
А затем рав принимается докладывать Бен-Атару, какие действия он предпринял в течение дня, при этом не извиняясь и не оправдываясь, словно само собой понятно, что именно он должен был взять на себя главенство, пока хозяин спал. И снова, как и в тот день, когда решено было отправиться на дополнительный суд в Вормайсу, Бен-Атар удивляется душевной отваге этого маленького человека, который не только снял, собственными руками и на свою ответственность, золотые браслеты с ног умершей жены, чтобы подсластить возвращение евреев Меца, истребление которых, быть может, действительно близко, но также по собственному почину отдал врачу мула, приобретенного в Шпейере, в уплату за лекарственные травы, постель для больной, желтковую микстуру и кровопускания и за ночлег, предоставленный мертвому телу. Даже и этот почин не вызывает у Бен-Атара упрека, потому что он с удовлетворением и благодарностью догадывается, что рав Эльбаз уже согласился на его просьбу и больше не возражает против отсрочки погребения. Вот, он уже сам приказал исмаилитам поторопиться с сооружением прочного, закрытого ящика.
Теперь у магрибцев нет уже никаких причин задерживаться и далее в Вердене, и уже в полночь, когда Абд эль-Шафи возвращается с большим фургоном из Меца, они погружают на него тяжелый ящик, и рав с Бен-Атаром устраивают себе по обе стороны от него сиденья поудобней, чтобы всю дорогу сопровождать усопшую чтением псалмов, умиротворяющих и укрепляющих отошедшую душу, уже заслужившую последнее отдохновение, а тем временем оба исмаилита еще раз проверяют подковы лошадей и подтягивают упряжь, и маленький Эльбаз смазывает колесные оси, и молодой язычник, которого Абд эль-Шафи еще не успел освободить от вериг еврейства, пакует, под наблюдением единственной оставшейся жены, продовольствие и посуду и укладывает их в малый фургон. Похоже, однако, что врач-вероотступник, привязавший тем временем полученного мула к дереву возле дома, никак не может найти себе места и явно не в силах просто так расстаться с компанией еврейских путешественников. Он то и дело подходит к ним, вновь и вновь вычерчивает на земле самую удобную и безопасную дорогу в Париж, и в его глазах, кажется, даже блестят на мгновенье слезы. А когда с первыми лучами зари раздается первый всхлест кнута, его вдруг прорывает, и он с большим волнением восклицает: вы будете жить. И на беглой латыни обещает путникам: вы вернетесь к своим исмаилитам и там останетесь в живых. И, как будто желая усилить свое пророчество, повторяет еще раз, на священном языке: там – жизнь.
Медленно вращаются колеса, увлекая повозки все дальше и дальше на запад, и душу Бен-Атара саднит печаль, потому что он навсегда расстается с тем местом, где его вторая жена улыбнулась ему своей последней улыбкой. И первые слезы наконец проступают на его глазах, когда он слышит, как рав произносит то, что прежде всего необходимо произнести, начиная всякое дальнее путешествие: ныне, возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя, помощь от Господа, сотворившего небо и землю. И не даст он поколебаться ноге твоей, и не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. И Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь будет охранять восхождение твое и вхождение твое отныне и навек.
И вот так, под звуки псалмов, движутся они из Вердена к Шалону, а из Шалона к Реймсу, а из Реймса к Мо и из Мо к Парижу, по дорогам, которые глубоко врезались в память возниц и запомнились ноздрям черного язычника. А ночи все прохладней, и время от времени хлещут осенние дожди, и теперь уже они предпочитают ночевать на постоялых дворах или в крестьянских домах. Но нигде и никогда не оставляют ящик с телом второй жены под присмотром одних только исмаилитов: рядом с ним всегда остается кто-то из евреев – Бен-Атар, или рав, или первая жена, или хотя бы маленький Эльбаз. Однако на третий день, в канун праздника Суккот, из наглухо заколоченного ящика начинает подниматься тяжелый сладковатый запах, и, подняв голову к небу, можно различить, что вот уже несколько часов над ними неотступно кружит черный стервятник. И потому, из уважения к любимой умершей, которая хочет вернуться в прах, рав Эльбаз решает использовать свои права вероучителя и на время объявить сушу морем, а фургон приравнять к кораблю, с тем, чтобы путники смогли продолжать движение и во время праздника, поскольку в этом случае заповедь «жить в сукке» они будут выполнять, даже оставаясь внутри фургонов. И благодаря этому путники сокращают свои остановки на сон и еду и весьма ускоряют свое движение. И даже когда Абд эль-Шафи видит по дороге у одного из крестьян новый вид плуга, снабженного дополнительным, изогнутым лемехом, который отбрасывает поднятую землю в сторону и этим расширяет и углубляет борозду, Бен-Атар не позволяет ему задержаться, чтобы поближе рассмотреть новинку и зарисовать ее форму для земледельцев Танжера и окрестностей, а настаивает, чтобы тот продолжал нахлестывать лошадей, неустанно подгоняя их бег.
Тем не менее утром второго дня Суккот, когда во время утренней молитвы караван пересекает мост через Марну и резко поворачивает на запад, чтобы дальше следовать вдоль шумного северного берега Сены, им все же приходится поднять черный верх фургона и распахнуть его настежь, чтобы свежий запах прибрежной растительности хоть немного перебил тот тяжелый дух, что стоит внутри. И хотя из-за этого они вынуждены теперь непрестанно воевать то со стервятником, то с воронами, что так и норовят усесться на ящик, душа их радуется, потому что вот уже вдали появляется знакомый остров с тем маленьким франкским городком, что так привлекательно распростерся на самой середине реки во всей красочной пестроте своих крыш и башен неподалеку от белеющих развалин Лютеции, своего маленького, ныне безлюдного предтечи. И какое-то приятное тепло разливается в душах североафриканцев при въезде в Париж, как будто то короткое время, которое они провели здесь тридцать дней назад, уже связало их с ним узами тесной привязанности. И чем дальше они углубляются в город, двигаясь навстречу опускающемуся вечернему солнцу, тем острее не терпится им высмотреть среди толпящихся в гавани кораблей светло-зеленый флаг старого сторожевого судна.
Однако они различают его только тогда, когда лошади останавливаются наконец чуть ли не рядом с его нависающим бортом. И даже капитан поражен теми огромными переменами, которые претерпел его корабль. Ибо за время их тридцатидневного отсутствия оставшийся без дела компаньон Абу-Лутфи решил временно превратиться из купца-покупателя в купца-продавца, чтобы выяснить, какова ценность товаров пустыни в глазах местного люда, и с этой целью надумал украсить старое сторожевое судно разноцветными лоскутами, а пятерых оставшихся с ним матросов нарядить в причудливые праздничные одеяния, рассчитывая привлечь этим сердца охочих до зрелищ парижан. И вот сейчас эти пятеро здоровяков в ярких шелковых накидках и в тюрбанах всех возможных расцветок суетятся меж наваленными по всей палубе горшками с маслинами и грудами сушеных фруктов, белыми пчелиными сотами и горами медной посуды, точно заправские торговцы на уличном рынке, и даже, кажется, выкрикивают какие-то зазывные слова на местном певучем языке.
И видимо, Абу-Лутфи тоже не сразу опознает своего еврейского компаньона, когда тот появляется со своими спутниками на берегу, – бледный, исхудавший, в сильно потрепанной одежде, – потому что поначалу не обращает на него никакого внимания и продолжает энергичными жестами объясняться с каким-то местным покупателем. Но когда он чувствует на своем плече горячую руку черного раба, проворно взобравшегося тем временем на палубу, у него перехватывает дыхание, и он роняет медный таз, который держал в руках, и падает на колени, и простирается ниц, чтобы возблагодарить еврейского Бога за то, что тот не помешал великому Аллаху благополучно привести близких людей, что евреев, что исмаилитов, обратно из темных лесов Ашкеназа. И, судя по бесконечным поклонам, объятьям и поцелуям, а также благодарениям судьбе, милостиво уберегшей искателей приключений от своих жестоких ударов, похоже, что Абу-Лутфи вовсе не интересует, чем же, собственно, кончилось их путешествие и удалось ли его еврейскому компаньону, с помощью мудрого рава, сокрушить своих конкурентов в дополнительном суде на Рейне. Видимо, исмаилит по-прежнему уверен, что все это их великое путешествие, что по морю, что по суше, с самого начала было совершенно напрасным, потому что евреи по самой их природе не способны прийти к какому бы то ни было окончательному и бесспорному решению.
И чтобы рассказать ему о решении, к которому евреи тем не менее пришли, хотя и не в силу мудрых речей рава Эльбаза, Бен-Атар отводит своего верного исмаилитского компаньона к борту и там, среди мешков с пряностями и ящиков с сухими фруктами, стоя у лестницы, ведущей в спрятанную в глубине трюма каюту той женщины, что не вернулась обратно, он окольным путем рассказывает ему о поразившей их руке Ангела смерти и под конец указывает на одиноко лежащий на причале ящик, возле которого, как маленький часовой, стоит сын рава Эльбаза. И хоть Бен-Атар и представлял себе, что известие о смерти молодой женщины будет тяжелым и болезненным ударом для этого исмаилита, который каждый год, во время своих торговых странствий в пустыне, выискивал для нее какой-нибудь особенный подарок, он не мог себе представить, что Абу-Лутфи будет так потрясен, что, взмахнув руками, в отчаянии вцепится в волосы, словно вдруг испугавшись, что смерть, дерзнувшая похитить у них такую любимую спутницу, может заодно снести и такую большую лохматую голову, как у него. И когда магрибец видит, как этот араб в своем горе выхватывает кинжал и надрезает свою одежду в знак глубокого сочувствия, у него тоже – быть может, впервые за все эти дни – вырывается страшный крик горя, который он доселе таил в глубине своей души.
Увы, ласковое осеннее солнце Парижа не останавливается в небесах, чтобы дождаться, пока успокоятся и смягчатся все те чувства боли и скорби, радости и надежды, которые смешались в этой великой встрече на палубе старого корабля. И поэтому рав Эльбаз, окончательно потеряв терпение при виде двух компаньонов, которые снова и снова принимаются обнимать и утешать друг друга, как если бы они были двумя мужьями одной и той же жены, объявляет об отмене того согласия на отсрочку погребения, которое он дал, когда их караван вышел из Вердена, и решительно подступает к Бен-Атару с требованием безотлагательно совершить эту неизбежную церемонию. И всем очевидно, что для этого необходимо немедленно проследовать к дому, расположенному на противоположном берегу реки, и объявить отстранившим и отлучившим их парижским родичам, что всё, что они считали окончательно решенным и подписанным, перевернулось с головы на ноги и теперь они должны, еще нынешней ночью, приготовить участок для погребения умершей жены.
Но сразу же возникает вопрос, вернулись уже упомянутые родичи в Париж или решили остаться на берегах Рейна и провести Судный день и праздник Суккот в Вормайсе, чтобы вместе со своей общиной порадоваться отлучению, которое они провозгласили. И сначала рав думает послать своего разумного сынишку в сопровождении одного из матросов, чтобы разведать обстановку в доме молодого господина Левинаса, но тут Абу-Лутфи вдруг заявляет, что в этом нет никакой нужды, потому что он уже два дня назад различил среди парижан, прохаживавшихся по палубе корабля, фигуру бледного и печального Абулафии, переодевшегося в платье старой крестьянки. А коль скоро так, продолжает исмаилитский компаньон, который еще по Испанской марке хорошо знает привычку своего молодого партнера к такого рода переодеваниям и уловкам, то нет смысла в задержке и нужно немедля отправляться в дорогу. И они решают, что во главе их похоронной процессии будет выступать сам рав, тогда как отлученный супруг укроется позади, чтобы предотвратить какое-нибудь новое, уже непоправимое отстранение. Тотчас приказывают пяти матросам-торговцам сменить цветастые накидки на чистые, строгие одеяния, в которых они могли бы пристойно пронести тяжелый темный ящик по улицам Сите до еврейского дома на южном, левом по течению, берегу реки.
И вот, в последнем свете сумерек они выходят на улицу Ля-Арп, к тому месту, где статуя Давида смотрит на фонтан Сан-Мишель, и андалусский рав в одиночку открывает ту железную дверь, которую, как ему хорошо помнится, он открывал тогда с таким трудом, и во дворе дома, на углу первого этажа, вблизи колодца, видит небольшую сукку, сложенную из веток, в которой его недавние противники по суду вкушают праздничную трапезу при свете маленькой масляной лампы. Он, однако, не входит туда, а лишь негромко покашливает, чтобы известить сидящих о своем присутствии. Первой слышит его именно госпожа Эстер-Минна, но, выглянув из сукки, она не узнает гостя и потому зовет Абулафию, который тотчас появляется у входа, в вормайсской шапке с бархатным рогом, весь в черном, словно уже предчувствуя приближение траура. И немедленно, несмотря на полутьму, признав в незваном госте маленького андалусского рава, он вздрагивает, как будто понимая, что что-то случилось, и торопится обнять пришедшего. Но Эльбазу не нужны ни объятья, ни приветствия – он хочет лишь выяснить местонахождение ближайшего кошерного еврейского кладбища, где можно было бы захоронить принесенный ими ящик. Ящик? – удивленно и встревожено переспрашивает Абулафия. Какой ящик? И тогда рав выводит его на улицу, где пятеро матросов стоят вокруг опущенного на плиты мостовой грубо сколоченного деревянного ящика.
Что там внутри? – с ужасом шепчет Абулафия, и голос его прерывается – возможно, потому, что его ноздрей уже коснулся страшный и сладковатый запах смерти. И рав Эльбаз с жалостью смотрит на этого испуганного слабого человека, который стоит сейчас, дрожа, перед большим деревянным ящиком и с ужасом думает, не лежит ли там его отлученный дядя. Но в эту минуту из ворот дома появляется новая жена, госпожа Абулафия, глянуть, что могло так надолго задержать ее молодого мужа. Похоже, что сначала она не замечает ни ящик, ни стоящих посреди улицы матросов, а одного лишь рава Эльбаза, и при виде этого хитроумного севильского мудреца, который когда-то победил ее, но в конце концов сам оказался побежденным, ее маленькое нежное лицо вспыхивает от удовольствия, и она спрашивает, легко поклонившись, с приветливой улыбкой: вы вернулись?
Но тут магрибский купец появляется из своего укрытия – с всклокоченными волосами и бородой, в рваной одежде, с глубоко запавшими тазами, – и не успевает еще госпожа Эстер-Минна от неожиданности отшатнуться, он сам громко отвечает на ее вопрос: да, мы вернулись, но не все. А затем, с каким-то скорбным отчаянием, к которому примешивается некое безумное торжество, он бросается к ящику и рывком выдирает из него одну доску, чтобы представить стоящей перед ним женщине недвусмысленное свидетельство, что отныне можно восстановить прежнее товарищество, не нарушая никакого нового установления. И в то время как Абулафия, покачнувшись, хватается за стену, чтоб не упасть, Бен-Атар, не отрывая темного взгляда от расширившихся в испуге голубых глаз, с неприкрытой ненавистью спрашивает:
– Ну что, теперь наконец новая жена довольна?
Глава шестая
И вполне окупилась, оказывается, настойчивость севильского рава. В ту же ночь вторая жена была погребена на крохотном еврейском кладбище, втиснувшемся в узкий зазор меж обширным виноградником принца Галанда и небольшой часовней в честь святого Марка-Затворника. Поначалу Бен-Атар требовал похоронить умершую жену прямо во дворе у племянника, чтобы парижские родственники могли следить и ухаживать за могилой, и Абулафия даже загорелся выполнить желание любимого дяди, но молодой господин Левинас вежливо отклонил эту идею, продиктованную, как ему показалось, одной лишь мстительностью, и сумел убедить магрибского купца и особенно андалусского рава, что негоже оставлять покойницу в одиночестве во дворе еврейской семьи, которая сегодня здесь, а завтра может перекочевать в другое место, и поэтому лучше похоронить ее на настоящем кладбище, рядом с другими усопшими, где она не будет забыта во время воскрешения из мертвых. И вот теперь, покуда матросы, на сей раз превращенные в могильщиков, расчищают полянку в диких кустах и роют просторную и аккуратную яму, мрачный, изможденный и томимый скорбью Бен-Атар рассеянно прислушивается к похвалам, которые молодой господин Левинас расточает тому месту, где магрибский купец согласился оставить свою жену. И странно – молодой господин Левинас, этот, как правило, ясно и трезво мыслящий еврей, который с трудом выносит даже еврейские небылицы, не говоря уж о небылицах христианских, на сей раз так увлекается собственным красноречием, что начинает пространно излагать Бен-Атару старинную местную легенду об охотнике Марке, который, как рассказывают, с жестоким бессердечием убил когда-то на этом месте олениху с ее олененком на глазах у потрясенного оленя, и тогда олень отверз уста и людским голосом вымолвил горькое пророчество, что человек, не пожалевший чужую мать с ребенком, кончит тем, что непреднамеренно убьет также свою жену с собственным сыном. И вот, этот молодой охотник, пытаясь предотвратить осуществление страшного пророчества, добровольно и навеки заточил себя в маленькой келье меж могилами древних Меровингов, соорудил там прочную железную дверь на засовах, поставил на окне железную решетку и стал кормиться пищей, которую ему по доброте душевной подавали христианские паломники, проходившие здесь по дороге Сен-Жака, следуя в южные земли к священным могилам. И поскольку этот грешник одной лишь силой своей воли сумел отвести от себя такое недвусмысленное и ужасное пророчество, произошло так, что его несчастье обратилось к его же благу, его грех превратился в святость, а его келья стала впоследствии называться капеллой святого Марка и служит теперь исходным пунктом для всех паломников, начинающих отсюда свой длинный и многотрудный путь в Сантьяго-де-Компостела.
Скорбящий супруг никак не может проникнуть в смысл этого туманного иносказания, но одно становится ему все более ясным, уже с самого начала этих ночных похорон, – да, действительно, кончина второй жены – и теперь это совершенно очевидно – проломила скорлупу бойкота и отлучения, которой окружил его рыжий судья, сладкоголосый и бессердечный посланник вормайсской общины. Ибо вот – не только Абулафия, подавленный жалостью и чувством вины за смерть молодой женщины, жмется теперь к мрачному угрюмому дяде, как жмется к хозяину провинившийся раб, но даже обычно скрытный и осторожный господин Левинас тоже понимает, что не может, ни нравственно, ни галахически, пренебречь той бедой, что обрушилась на этих побежденных людей, и потому прилагает сейчас все силы, чтобы показать, с каким сочувствием и симпатией он вслушивается в историю последних дней и кончины второй жены, проникновенно излагаемую равом Эльбазом.
Зато на красивом, похожем на лисье лице госпожи Эстер-Минны можно приметить не только сочувствие и симпатию, но также первые признаки новой тревоги. Именно сейчас, на краю могильной ямы, по щиколотку утопая в рыхлой земле и прислушиваясь к тому, как рав Эльбаз выпевает молитву цидук га-дин, она вдруг с пронзительной ясностью сознает, что дерзкая, полная препятствий затея североафриканского дяди в конце концов, как ни странно, увенчалась успехом. Ибо вместе с этим мертвым, окутанным тонкой бледно-зеленой шелковой тканью телом, которое соскальзывает сейчас, словно по собственной воле, к месту последнего успокоения меж виноградником и капеллой, исчезает и то последнее препятствие, которое могло помешать ее, госпожи Эстер-Минны, молодому кудрявому супругу, с его душой вечного бродяги, возобновить свои торговые кочевья.
Положим, она заупрямится и заявит, что тоже хочет взять в руки дорожный посох и присоединиться к своему мужу; согласится ли он взять ее в спутники? – лихорадочно размышляет она. Не потребует ли, напротив, чтобы она оставалась дома и выполняла свое обещание заботиться о его несчастном ребенке, которого она сама, поддавшись минутной слабости, поторопилась когда-то отобрать у исмаилитской няньки и взять под свое покровительство? Но кто же тогда будет согревать по ночам ее холодные ступни, уже привыкшие к нежности рук этого южного мужчины? – терзается госпожа Абулафия. И кто тогда даст ей хоть искру надежды, что горячее мужское семя все-таки оживит и оплодотворит когда-нибудь ее бесплодие – затем, хотя бы, чтоб доказать бывшей вормайсской свекрови, вечно упрекавшей ее в бездетности, что не ее, не Эстер-Минны, была в ту давнюю пору вина? А если так, значит, сейчас, пока еще не прояснилось, как повернется отныне ее борьба с магрибским купцом, она должна постараться елико возможно смягчить и умерить его ненависть – ибо глубину этой ненависти не может скрыть даже темнота окружающей ночи. Вот почему в самом конце погребения госпожа Эстер-Минна собирается с духом, подходит к Бен-Атару, произносит надлежащие утешительные слова и даже отваживается обратиться к нему с настойчивой просьбой – вызвать с корабля первую и теперь единственную жену, которая дорога и ей, Эстер-Минне, как уважаемая и почитаемая ею тетка, чтобы Бен-Атар, вместе с этой женой, и с почтенным равом, и с его маленьким сыном, могли бы со всем положенным им почетом и удовольствием погостить в ее доме и выполнить священную заповедь «жить в сукке». Ибо если она и раньше, когда у него была двойная семья, не отказала ему в гостеприимстве, то уж тем более не откажет сейчас.
Но Бен-Атар, на одежде которого севильский рав только что сделал длинный и безжалостный разрез, решительно отклоняет это предложение и жестко отказывается войти в ее дом. Он непреклонен в своем намерении немедленно вернуться на корабль и скорбно укрыться в трауре именно в той крохотной каюте, которая служила прекрасной покойнице последним жилищем. И нет ни малейшей надежды, что настояния белокурой голубоглазой женщины или мольбы племянника изменят это намерение. Холодно и мрачно приказывает он матросам поднять опустевший ящик на плечи и возвращаться на их старое сторожевое судно – только там он готов будет принять любого, кто пожелает выполнить заповедь утешения скорбящих.
И вот, уже назавтра, после долгой и полной терзаний ночи, госпожа Эстер-Минна действительно собирает самую изысканную еду и питье, нагружает всем этим свою тевтонскую няньку-служанку и вместе с ней присоединяется к Абулафии, который с самого раннего утра спешит на корабль, где все уже погружены в глубокий траур, хотя скорбящий, по закону, только один. Ведь даже первая жена, при всем ее желании, не может сидеть шиву и справлять траур по второй, ибо вторая жена, хоть и была ее удвоением, все же не приходилась ей кровной родственницей. Вот почему Абулафия и госпожа Эстер-Минна первым делом встречают именно ее. Стоя на носу корабля, на старом капитанском мостике, она с ясным и строгим выражением лица осторожно и бережно стирает тонкие шелковые платья покойной подруги, которые Бен-Атар хочет передать осиротевшему сыну умершей, чтобы тот смог со временем нарядить в них свою невесту и тем самым хоть немного возместить себе то, что он с детства остался без матери и даже без ее могилы и памятника.
Абу-Лутфи встречает ранних утешителей глубоким уважительным поклоном, с благодарностью принимает из рук христианской служанки большой кожаный сверток с едой и ведет своего восстановленного в правах молодого партнера вместе с его взволнованной женой на корму. Для госпожи Эстер-Минны это первый визит на магрибский корабль, и поэтому она ступает маленькими, осторожными шажками, особенно когда ей предлагают спуститься по веревочной лестнице в темную глубину корабельного трюма, где прыгают крохотные солнечные зайчики и витают запахи разнообразных товаров североафриканской пустыни, которые благодаря ее заносчивой ретии так надолго застряли меж Югом и Севером. А когда новая гостья, спустившись наконец в трюм, озирается вокруг, удивляясь, какое, оказывается, глубокое брюхо у этого небольшого на вид корабля, рядом с ней, заставляя ее вздрогнуть от неожиданности, вдруг раздается хрипловатое пофыркивание верблюжонка, который медленно и с большим достоинством поднимается на длинных ногах, чтобы приветственно кивнуть своей маленькой головкой навстречу уважаемой гостье. И женщина, которая родилась и выросла под близкое кваканье лягушек и далекий вой волков, вдруг ощущает какое-то влекущее спокойствие в облике этого длинноногого существа из пустыни, такого тихого и терпеливого и с такой маленькой головкой, размеры которой хоть и свидетельствуют, быть может, о малом уме, но никак не о злобном характере.
А затем эта северная женщина входит наконец, пригнувшись, в крохотную каюту второй жены, где все еще продолжает витать дух покойной женщины. Ибо неутешный супруг усопшей, Бен-Атар, и впрямь заупрямился и настоял на том, что принимать соболезнования будет именно в этом темном укрытии, под звуки булькающей подо дном воды, меж старинными деревянными балками, что давно расшатались в былых морских сражениях и были заново укреплены для этого путешествия руками капитана Абд эль-Шафи и его матросов. А так как за месяц судебной тяжбы, во время совместных поездок в Виль-Жуиф и особенно в Вормайсу, госпожа Эстер-Минна уже усвоила пару-другую арабских слов, она понимает, что разговор, который тут же заводят дядя с племянником, вовсе не обращается вокруг боли утраты и воспоминаний о замечательных достоинствах покойной, как она ожидала, а устремляется прямиком к будущим торговым надеждам, которые оба они возлагают на возобновляемое во всей своей силе сотрудничество. И вот уже Абу-Лутфи, этот немногословный исмаилитский компаньон, тоже увлекается разговором и с помощью выразительных жестов живописует количество и качество всех тех товаров, которые, вот уж почти три месяца, только и жаждут, что вырваться наконец из мрака корабельного трюма и широко рассеяться по всем уголкам простирающегося вокруг, залитого ярким светом мира. И при звуках этой деловой арабской речи, да еще льющейся таким неудержимым потоком, голубые глаза госпожи Эстер-Минны грустно темнеют, и она выбирается из крохотной каюты, чтобы побродить по трюму, меж рядами больших кувшинов и пузатых мешков с пряностями – там остановиться и пощупать мягкой рукой кипы кож или тканей, тут постучать кончиком туфли по сверкающим медным горшкам, тихо звенящим ей в ответ, – пока не натыкается на маленького Эльбаза и черного язычника, которые кормят печального одинокого верблюжонка одним из хлебов, принесенных ее служанкой на корабль.








