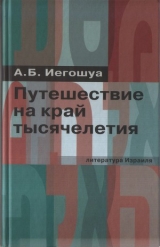
Текст книги "Путешествие на край тысячелетия"
Автор книги: Авраам Б. Иегошуа
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Глава четвертая
Плач рава Эльбаза
(Пиют на сефардский манер)
Ты покинута в одиночестве. Паруса
одеяний твоих помертвели.
Ты ушла, вторая жена. Безутешно
плачет муж у твоей постели.
Ты корабль обратила в ложе. И тебе веслом
нога обнаженная стала
Мы ж уходим дорогой темных скитаний.
Да минуют нас бури и скалы.
Драгоценность моя! Ты сейчас
снова становишься мертвым прахом.
Умирают надежды мои. И душа
вновь наполняется страхом.
Не искуплена ты! И голубка твоя
не получила прощенья.
Вот, она возвращается мстительно,
наполняя ядом наши моленья.
Как любовь моя ласкала тебя,
как тайком боготворила!
Прикоснуться к милой ноге
пределом моих мечтаний было.
Даже когда ты отдавалась ему —
я был с вами незримо рядом.
Точно пламенной страсти мечом
разделял вас завистливым взглядом.
Окружает нас серый, угрюмый Верден,
чужой христианский город.
И Танжер далеко. И громовой океан
надвое черною бурей расколот.
Не проси, чтобы я, даже скорбя,
покаялся в этой горькой страсти.
Я тоже плачу, как он, твой муж. Я,
росивший и не удостоенный счастья.
Как трусливо, с поджатым хвостом,
подкралось подлое отлученье!
Точно пес, сторожа свой закон,
рыжий судья пролаял свое решенье,
немедля и навсегда рассечь
ваш двуединый союз с супругом —
твой и первой его жены, что была
тебе и соперницей, и верным другом.
Ты уходишь от нас лабиринтами очищенья,
дорогой далекой, новой.
Кутаясь в наши молитвы, твоя душа
горит, не сгорая, точно куст терновый.
Я же здесь остаюсь, твой вдовец,
жалкий двойник твоего мужа.
Подожди, я пойду тебе вслед! Пусть и меня
вместе с тобой обнимет смертная стужа.
Глава пятая
Уже на следующее утро, приступив к молитвам и увидев, какую глубокую озабоченность вызывает у магрибского купца болезнь молодой свояченицы, укрытой в маленьком доме по соседству, семеро прибывших из Меца евреев начинают догадываться, что речь идет о женщине, почему-то крайне близкой и дорогой его сердцу. Но поскольку они не знают, как истолковать то, о чем догадываются, то им трудно отделаться от подозрения, что они являются свидетелями кровосмесительства и что свояченица купца – в то же время его тайная, горячо любимая наложница. И поэтому они принимаются копать дальше, и, как только им удается развязать язык маленького Шмуэля Эльбаза, им открывается подлинный статус больной, которая оказывается и не свояченицей, и не наложницей, а еще одной женой магрибского купца – хоть и вполне законной, но второй. Но не эта правда лишает их сна и покоя, а прежде всего та ложь, с помощью которой рав Эльбаз заманил их в Верден. И потому, прежде чем приступить к молитве седер га-авода, которую рав Эльбаз намерен вести в ее южной, пространной и пышной версии, составленной великим вавилонским гаоном, они отходят посовещаться на край рощи, к стене расположенного поблизости монастыря, а закончив свое совещание, зовут к себе андалусского обманщика с требованием объяснить, зачем он им солгал. Вначале рав пытается извернуться так, чтобы не открывать им тайну отлучения, наложенного на Бен-Атара, опасаясь, как бы и они не присоединились к своим собратьям в Вормайсе и не покинули бы южан посреди молитвы, вернувшись в Мец вместе с привезенным ими свитком Торы. Но поскольку он не до конца уверен, что могущество отпущений Судного дня достаточно велико, чтобы отпустить грех лжи, которая будет произнесена в самый разгар молитвы, то в конце концов сдается и открывает им истинное положение дел, хотя и весьма кратко, сухо и деловито.
Пораженные его словами, семеро евреев из Меца с великим изумлением, но одновременно с явным удовольствием приветствуют известие о той решимости, которую проявили их ашкеназские собратья с рейнских болот, однако сами всё же не решаются объявить недействительными те молитвы, которые они уже успели произнести вместе с отлученным евреем и лживым равом, потому что знают, что у них нет никакой возможности дважды повторить уже наступивший и идущий к концу Судный день и, вернувшись вспять, исправить то, что было испорчено. И поэтому они решают сделать вид, что хоть и услышали, но не совсем поняли, а все дополнительные выяснения отложить до окончания последней молитвы, к которой они и требуют безотлагательно приступить. Но теперь для миньяна опять не хватает одного человека – самого отлученного, который использовал этот короткий перерыв, чтобы снова поспешить к своей второй жене, о выздоровлении которой не перестает молить его встревоженная душа. Уже с восхода он передал дежурство у постели больной первой жене, но сейчас не уверен, правильно ли будет, чтобы именно ее лицо было последним, что увидит в этой жизни вторая жена, если к ней приблизится Ангел смерти.
Ибо уже в полночь, перестав тешить себя иллюзиями, Бен-Атар впервые назвал наконец полным именем того врага, который со злобным умыслом прокрался в его свиту. Но с рассвета им овладело ощущение, что здесь, в Вердене, его преследует даже не один злобный ангел, а целый рой посланников зла, и все они легко и бесшумно скользят в этом холодном сером тумане, что плывет сейчас по переулкам города и стелется над окрестными полями и долинами, и тайком окружают собравшийся на лугу маленький и печальный еврейский миньян, и толпой обступают нового, временного, черного еврея, который стоит тут же, кутаясь в белый талит, и с глубочайшей серьезностью вслушивается в незнакомые и странные слова, описывающие порядок богослужения в Святая святых ныне разрушенного Иерусалимского Храма, в те далекие дни, когда первосвященник, возлагая руки на козла отпущения, говорил, обращаясь к Всевышнему: Господь, – говорил он и произносил великое Имя. – Ошибался я, совершал беззакония, грешил перед Тобой, я и дай мой… О, Господь, прости ошибки, беззакония и грехи, которыми грешил я и дом мой… – как написано в Торе Моисея, раба Твоего, воспринятой из уст славы Твоей: ибо в день этот Он искупит вас, очистив от всех грехов ваших перед Богом.
Но сам Бен-Атар не в силах дожидаться, пока рав Эльбаз мелодичным своим голосом закончит выпевать покаянную молитву древнего первосвященника, и потому, украдкой покинув миньян, снова направляется к дому врача, который тем временем оставил больную на попечение первой жены, а сам поспешил к своим христианским пациентам, знатным и простолюдинам, – еще и для того, быть может, чтобы не навлечь на себя подозрение, что он слишком уж долго и близко общается с компанией евреев, расположившихся для молитвы прямо подле его жилища. И, едва войдя в полутемную врачевальную комнатку, окошко которой занавешено талитом, магрибский купец видит, что его молодой жене стало намного хуже. Тело ее снова вывернуто судорожной дугой, невидящие глаза прикрыты кисеей, уши заткнуты воском, и ко всему этому за ночь добавилось еще тяжелое, прерывистое дыхание. И в сердце Бен-Атара вползает леденящий страх, ибо он не знает, что ему сказать и как оправдаться перед ее отцом, другом своей молодости, который когда-то доверился ему и до срока отдал в жены эту молоденькую девочку в первом цвете ее юных лет. Ведь он даже не сможет указать осиротевшему отцу могилу или надгробье, на котором тот мог бы распластаться в горе. А чем он утешит своего собственного сына? Не того, что зародышем таится сейчас в ее чреве, а его старшего братика, который остался с дедом и бабкой в Танжере и наверняка предъявит отцу свой детский счет за обиду тех долгих дней, когда он мечтал о возвращении матери, не зная, что она к тому времени давно уже покинула мир живых.
Между тем в комнату тихо входит хозяйка дома, и Бен-Атар, оборотившись к ней, внимательно вглядывается в ее лицо – быть может, опыт, накопленный этой женщиной рядом с супругом-врачом, подскажет ему, оправдано ли то страшное отчаяние, которое овладело его душой. Но глаза низенькой бледной женщины не подсказывают ему ничего, и их выцветшая голубизна лишь напоминает ему глаза другой, новой жены, оскорбительное отстранение которой навлекло на него ту смерть, что сейчас нащупывает убийственный путь к постели второй жены. И впервые с тех пор как у костра над Барселонским заливом он услышал о существовании этой женщины, он чувствует, какую тяжелую ненависть к ней он несет в своем сердце все эти дни и как страшна будет потом его месть. Но в сознании святости нынешнего великого дня прощения и искупления он изо всех сил старается подавить нахлынувшие на него злобные чувства и с глубокой нежностью и жалостью подходит к постели своей больной.
Там, стоя у столика с разноцветными лечебными флакончиками, он снимает тонкую кисею с ее чистого, изможденного лица, чтобы она могла прочесть жалость и страдание в его глазах, и вытаскивает мягкий воск из ее ушей, чтобы она могла услышать звуки молитв, что взывают о помощи в маленькой роще возле дома, и все это для того, чтобы она убедилась, что ни он, и никто иной из путешественников даже не помышляет покинуть ее в этот страшный час, но напротив – все они объединяются сейчас душой и телом, чтобы противостать Ангелу смерти, и даже если тот уже приблизился к дому, то наверняка застынет у входа, прислушиваясь с таким же удивлением, как те семь ашкеназов из Меца, к изливающемуся из уст рава Эльбаза образному, поэтичному, сверкающему красками описанию того, как в этот грозный и страшный день вел службу в Храме древний первосвященник.
А затем, сознавая свои обязанности перед собранным специально для него миньяном, Бен-Атар прерывает полную сострадания и утешения речь, которой он пытается успокоить вторую жену, с глубокой благодарностью, но безмолвно кланяется первой жене, которая снова осторожно укрывает глаза больной тонкой шелковой вуалью и вновь затыкает ей уши пробками из мягкого воска, и спешит выйти из полутемной комнатки, чтобы присоединиться к молящимся. И делает это как раз вовремя, потому что рав Эльбаз остро нуждается сейчас в помощи Юга, поскольку именно в эту минуту пытается убедить семерых евреев Севера, собранных им в Меце, не давать себе послабления и не ограничиваться лишь формальным коленопреклонением, как это делают христиане, а набожно пасть ниц и простереться перед Всевышним на земле в знак полной покорности, как если бы Святая святых слилась со стоящим перед ними домом врача, маленькая роща внезапно превратилась во двор Иерусалимского Храма, а сам Верден – в возлюбленный Град Давидов. Ибо только так смогут они не только духом, но и телом воссоединиться с памятью о священниках и народе, что стояли на своих местах во дворе перед Храмом и когда слышали славное и грозное… Имя Бога, исходящее из уст первосвященника во всей его полной святости и чистоте, сгибали колена и падали ниц, возглашая: благословенно Имя славы царства Его во веки веков!
Поначалу северные евреи затрудняются в точности воспроизвести полное простирание рава Эльбаза, его сына, Бен-Атара и черного раба, которые, стоя на коленях, прижимаются лбами к земле с такой же быстротой и ловкостью, как это делают молящиеся мусульмане. Но постепенно их захватывает величавая образность вьющихся рифмами и изукрашенных сравнениями слов молитвы, и, подчиняясь указаниям пламенного рава, они и сами многократно, хотя и не без робости, прикасаются лбами к рыжей земле Вердена в надежде, что это их унизительное простирание на земле в компании одного отлученного еврея, одного лживого еврея и одного черного, совсем уж сомнительного еврея будет присоединено на небесах к мучениям поста и усилит мицву, которую они совершили, дополнив собою магрибский миньян. И тогда усилится также их чистота в этот странный Судный день и удвоится их стойкость в только что начавшемся новом году – в новорожденном 4760 еврейском году, во чреве которого таится устрашающий дракон христианского тысячного года.
И словно для того чтобы укрепить это новообретенное чувство праведности, наполняющее семерых северных евреев, когда они, по завершении молитвы «мусаф», расходятся на краткий отдых меж деревьями рощи, та сплошная серая пелена, что с утра затягивала небо, внезапно разрывается, и осеннее солнце приоткрывает просвет такой сладостной голубой наготы, что в сердце Бен-Атара тотчас вползает тоска по оставленным в Танжере детям, родичам и друзьям, которые в этот самый час наслаждаются, наверно, послеполуденным покоем сурового поста, раскинувшись на белых кушетках в просторных и тихих комнатах своих домов. Но в ту же минуту ноздрей североафриканца достигает мерзостный запах жареного мяса, который подымается вместе с дымом, вьющимся над трубой маленького дома, и он догадывается, что выкрест-врач, наверно, уже возвращается домой и жена готовит ему обед, и торопится выйти за угол монастырской стены – посмотреть, не появилась ли вдали фигура долгожданного вероотступника. И он действительно видит приближающегося к дому Карла-Отто Первейшего, как тот себя называет, и спешит ему навстречу, как будто хочет поторопить его шаги, но на самом деле, возможно, и затем, чтобы, даже не сознавая того, отсрочить, насколько ему удастся, необходимость самому вернуться во врачевальную комнатку, в эту его собственную, горестную Святая святых, где, быть может, невинная душа второй жены уже готовится к обряду расставания со страдающим телом.
Эта женщина выживет? – тревожным шепотом спрашивает подошедшего вероотступника на своей ломаной латыни стоящий на пороге дома рав Эльбаз. О да, она будет жить, снова подтверждает врач с той же решительной уверенностью, что накануне. Но эти, не может сдержаться он и опять указывает на дремлющих под деревьями евреев Меца, эти не выживут. Ни они, ни их сыновья, и губы его сжимаются с какой-то мрачной решимостью, и, войдя в дом, он крепко прижимает к себе двух своих сыновей – быть может, утешая себя за то, что променял такой святой день на христианские будни. Потом он смывает с рук уличную пыль и кровь аристократов и простолюдинов, которую выпускал все это утро, и вытирает руки мягким полотенцем, собираясь приступить к трапезе, которую приготовила его жена, но страдальческий взгляд Бен-Атара, видно, тревожит его, потому что он не садится за стол, а проходит прямиком в маленькую комнатку, где приказывает первой жене освободить ему место рядом с больной, голова которой по-прежнему запрокинута назад, а рот широко и беззвучно открыт, словно ей не хватает воздуха.
И на мгновенье кажется, что врач смущен и не знает, что делать. Однако он тут же берет себя в руки и начинает копаться в своем деревянном ящичке, а затем, достав оттуда тонкую мягкую камышинку, осторожно проталкивает ее в горло второй жены и вливает через нее немного своего желткового напитка, явно способного успокаивать всякую боль. И действительно, изогнутое дугою тело на миг расслабляется, и янтарные глаза раскрываются во всю свою ширь. Потом ресницы устало опускаются, и губы раздвигаются в слабой улыбке, как будто именно сейчас, на вершине своих мучительных страданий, она на миг ощущает острейшее счастье. И внимательный врач немедленно использует это милосердное мгновение, чтобы достать из ящичка нож и большую иглу и еще перед тем, как она погрузится в сон, снова обнажить ее прелестное округлое плечо и в очередной раз выпустить изрядную порцию отравленной крови в железный таз, в котором уже белеют новые, чистые речные камни.
Похоже, что тело второй жены снова расслабилось и обрело покой, а ее мучительные судороги без следа канули в пропасть сна. И Бен-Атар чувствует, что сейчас он наконец вправе улизнуть от запахов еды, которую жена врача подает своему крещеному супругу, и присоединиться к остальным евреям, дремлющим в маленькой роще в ожидании, пока вечерний свет созреет для новой молитвы. А когда Абд эль-Шафи и его матрос приводят с пастбища четырех лошадей и мула, гордо машущих хвостами, вымытых и лоснящихся после отдыха и преданного ухода, полученных в священный день, а врач-вероотступник снова выходит из своего маленького дома, направляясь в очередной кровопускательный обход по улицам Вердена, Бен-Атар поднимается, подзывает к себе молодого раба, временного еврея, который все эти часы простоял на коленях перед свитком Торы, лежащим меж ветвями одного из деревьев, и они вместе присоединяются к раву Эльбазу, который уже собирает молящихся, чтобы произнести нараспев слиху, открывающую вечернюю молитву такой бесконечно печальной мелодией, что у Бен-Атара все внутри разрывается от заново вернувшегося страха: Исчезли мужи достойные. Своею храбростью известные. Щитами владеть умевшие. Отменявшие приговоры молитвами. Служившие нам стенами крепкими. Прибежищем в дни страха и уныния. Когда грозили нам гнев и негодование. Усмирявшие ярость просьбами. Ответь им, прежде чем призовут тебя. Умеющим молить и умилостивлять своими молитвами.
Истовый плач разбитого сердца, возносимый этой вечерней молитвой, проникает сквозь окошко в маленький дом врача, вторгаясь в затуманенное сознание второй жены, и в ее спине тут же просыпаются новые судороги, которые опять изгибают позвоночник, и голова ее вновь запрокидывается назад, так что тело превращается в жесткую, одеревеневшую дугу. Она с огромным усилием открывает глаза, и перед ней, как в тумане, мелькает чья-то всклокоченная грива волос – наверно, Ангела смерти, который тайком прокрался за спину первой жены и теперь притворяется, будто тоже дремлет вместе с нею. И неожиданно на нее нисходит какой-то покой, словно взмывающая и опадающая мелодия отдаленной мужской молитвы в близлежащей роще умеряет тот страх, что сотрясает ее душу. И сквозь боль судорог, вгрызающихся в ее спину, как вампир, она вдруг с грустной тоской вспоминает женский молитвенный дом в Вормайсе и стоящую на возвышении посланницу общины, закутанную в талит, с повязанными на руке тфилин. Вот, не стану мешать тебе забрать меня из этого мира, заливает ее душу печаль и жалость к самой себе, смешанные, как ни удивительно, со сладким ощущением странной гордости, и в сумеречном свете этой новой мысли, которая упрямо клубится в ее сознании, она все пытается понять, кто же этот «ты» – ее ли муж или, быть может, тот рыжеволосый судья, к ногам которого она упала? Или маленький рав из Севильи, который усталым, надтреснутым голосом продолжает читать слихот? А может, полнотелый Ангел смерти, принявший облик первой жены, которая с состраданием наклоняется над ней и качает головой, как будто не только понимает новую благую весть, родившуюся в душе своей подруги, но и вполне с ней согласна.
И в то время, как вторая жена все силится вытолкнуть из груди дыхание, которое грозит ее задушить, и тоненький лучик света, ухитрившийся проскользнуть сквозь занавеску, отражается в ее угасающих глазах меркнущей искрой удовлетворения при виде того, как рыдает над ней ее Ангел смерти, – из ворот бенедиктинского монастыря появляются две молодые монахини, которых мать-настоятельница послала проследить, как бы молящиеся поблизости евреи не зашли слишком далеко в своих молитвах и не осквернили своими вздорными мыслями все мироздание, готовящееся сейчас к вечерней мессе наступающего святого воскресенья. И поразительно, но одного лишь надменного, самоуверенного появления этих двух женщин оказывается достаточно, чтобы северные евреи тут же прекратили свои молитвы и в полном молчании выслушали предъявленное им на местном языке недвусмысленное требование немедля перенести свое богослужение из рощи на усеянный надгробьями пустырь, а заодно и просьбу одолжить монастырю на некоторое время этого молодого раба, худоба и чернота которого делают его вполне пригодным, чтобы спуститься в монастырский колодец и вытащить упавшее туда ведро. Но евреи Меца, видимо, хорошо знают, с кем имеют дело, потому что эту странную просьбу они даже не удосуживаются перевести раву и Бен-Атару, и сами, на собственную ответственность, весьма почтительно, но твердо отказываются отпустить этого временного еврея, ибо его смиренное, но пылкое присутствие дополняет обязательную численность миньяна, и предлагают вместо него двух здоровяков-исмаилитов, которые укрепляют неподалеку колеса фургонов, готовя их к предстоящему пути.
Услышав это щедрое предложение, монахини переглядываются с тонкой улыбкой, прекрасно понимая, насколько чудовищна сама мысль допустить двух таких мужчин в женский монастырь, обитательницам которого и без того приходится непрестанно сражаться со всякого рода соблазнами и видениями. Отказавшись от своей дерзкой просьбы, они исчезают в воротах монастыря, не преминув, однако, предварительно убедиться, что евреи действительно забрали свой свиток Торы и отправились на пустырь, чтобы завершить там вечернюю молитву.
Но вот уже заходящее солнце начинает покалывать иглами своих лучей нижние ветви покинутой рощи, и наступает час молитвы «неила», знаменующей закрытие небесных ворот и близкое завершение праздника, и семерых евреев Меца охватывает такой страх и трепет, что они просят разрешения сменить южного рава в роли кантора, чтобы отсюда и далее вести эту важнейшую заключительную молитву на манер их далекой возлюбленной общины. И Бен-Атар подает севильскому раву скрытый знак не упрямиться и уступить свое место одному из северных евреев – может быть, молитва, произнесенная на их привычный лад, сумеет предотвратить тот дурной приговор, который нависает над ним в эту минуту. Сам же он торопливо подзывает к себе черного африканца, надеясь найти утешение своей скорби в ароматах пустыни, источаемых его телом, и в тех запахах сухих колючек и дымных давних костров, которых так и не сумели изгладить ни долгое морское путешествие, ни изрядная «сухопутная добавка». Но в ту минуту, когда посланник семерых ашкеназских евреев начинает рыдающим голосом выпевать на привычный мотив стражников Меца скорбные слова «неилы»: Что нам сказать пред Тобой, восседающий на высотах, и что нам поведать Тебе, обитающий в небесах? Ведь все сокрытое и явное Ты знаешь, – Бен-Атар вдруг начинает раскачиваться взад и вперед в горестном отчаянии, поняв, что отныне и вовек ему придется жить с сознанием двуликости Обитающего в небесах, ибо именно в эту минуту первая жена, спутница его юности, тяжело и устало выходит из дома врача-вероотступника и, скорбно опустившись на ступеньку у крыльца, издали подает мужу, еще окутанному звуками заключительной молитвы, безмолвный знак, что двойственности его супружеского существования пришел непреложный конец.
И хотя магрибскому купцу совершенно ясно, что никакая покаянная исповедь в ходе заключительной молитвы не в силах снять с него вину за смерть, которую он сам навлек на свою вторую жену, – и не столько тем упрямым путешествием, которое предпринял, чтобы доказать возможность тройственной любви, сколько отчаянной попыткой эту любовь оправдать, – он тем не менее не покидает миньян и не спешит к мертвой жене, но продолжает упрямо домогаться сочувствия от Всевышнего, умоляя, чтобы Владыка прощения пожалел хотя бы его единственную оставшуюся теперь жену и вписал ее в Книгу живых, ибо ей, потерявшей подругу, вскоре понадобятся не только утешение в горе, но и новые супружеские заверения. И лишь по завершении вечерней молитвы, знаменующей собою исход праздника, он же исход субботы, когда надлежит зажечь свечи, и вдохнуть благовония, и произнести над сладким вином разделительное благословение, проводящее надежную границу меж святым и будничным, – лишь после окончательного завершения праздника он медленно направляется в маленький дом и уже на подходе видит стоящую у двери жену врача, которая преграждает путь своим детям, чтобы они ненароком не вошли туда и не оказались вдруг наедине с покойницей, – а неподалеку от нее, на некотором расстоянии, стоит начальник матросов, он же начальник кучеров, бравый капитан Абд эль-Шафи, и глаза его налиты слезами, ибо этот бывалый моряк хорошо понимает, каким тяжелым и печальным будет отныне их путешествие, когда с ними не будет второй жены. И он обнимает еврейского купца и произносит слова утешения, напирая, главным образом, на то, как замечательна и прекрасна судьба той, что ступает сейчас своими маленькими босыми ногами по золотой лестнице, ведущей в рай, и как трудна судьба тех, которые вынуждены протаптывать себе дорогу в земном мире. А поскольку Абд эль-Шафи весь день наблюдал за долгим постом евреев, то теперь он чуть ли не силой заставляет Бен-Атара съесть кусок еще горячего хлеба, который испек для путешественников с помощью своего матроса, и лишь затем позволяет хозяину войти в дом для последнего прощанья с той, что покинула их без его разрешения.
И вот Бен-Атар стоит в полной темноте и в полном молчании подле тела своей молодой жены, и взгляд его скользит по едва видимым очертаниям этой ужасной закоченевшей дуги, и он видит широко и изумленно раскрытый рот и размышляет об этом последнем прощании, на узкой постели, в чужом неприветливом доме, в хмуром и мрачном пограничном христианском городе, ужасное воспоминание о котором будет отныне сопровождать его в течение всей его жизни, даже если он сюда никогда не вернется, и вдруг мысли его неожиданно обращаются к Абулафии, который наверняка даже представить себе не может, где бы он сейчас ни находился, что конец того содружества души и тела, в которое его дядя вступил, дабы искупить грех самоубийства бывшей жены любимого племянника, возобновляет теперь, во гневе и в ярости, но и с удвоенной мощью, их повторно расторгнутое товарищество, силой новой реальности отменяя не только то отлучение и тот бойкот, которые были провозглашены в Вормайсе, но и все былые основания для парижской ретии. Но тут Бен-Атар ощущает, что рядом с ним кто-то копошится в темноте. Это рав Эльбаз, который уже спешит снять талит, занавешивающий маленькое окошко, но не затем, чтобы оказать почет лежащей во тьме покойнице, озарив ее бледным светом взошедшей луны, а, напротив, чтобы побыстрее скрыть под тканью этого талита все более стынущее в мертвенной белизне лицо и тем самым отделить вторую жену от ее мужа. И тогда, повернувшись к маленькому раву, который торопится произвести все положенные по закону действия, Бен-Атар сурово и решительно извещает его, что он не собирается ни отпевать, ни хоронить свою любимую вторую жену в этом проклятом городе, но намерен доставить ее тело в Париж, чтобы предъявить упрямой отстранительнице и ее брату, господину Левинасу, неоспоримое доказательство, что отныне, будучи обладателем единственной жены, он является, по закону, вполне безупречным деловым партнером, и, следовательно, их расторгнутое товарищество, хоть и во гневе и с болью, может быть теперь восстановлено и даже навеки скреплено свидетельством могилы и надгробья прямо во дворе их дома.
И Бен-Атар чувствует, что рав так потрясен и разгневан его намерением, что, кажется, готов даже нарушить верность хозяину и дерзко бросить ему в лицо тяжелые слова в осуждение этой затеи, которая не согласуется с уважением к мертвой. А поскольку он и слышать не желает какой бы то ни было, даже украшенный фразой или словом Галахи, ответ, который противоречил бы тому, что он задумал, то, ничего не говоря, быстро хватает с полки флакончик с желтковым напитком, разом проглатывает все его содержимое, выходит, покачиваясь, из маленького дома и, столкнувшись у входа с врачом-вероотступником, вернувшимся в сопровождении своего христианского наставника, молча, в полном отчаянии, отстраняет их обоих с дороги и продолжает шагать, как лунатик, в направлении евреев Меца, которые украдкой едят в стороне свою скудную пищу и в ужасе таращатся на него, когда он проходит мимо. Но когда он входит в глубину маленькой рощи, ноги его подкашиваются и он валится навзничь среди деревьев с единственным желанием – нет, не умереть, но заснуть и больше не просыпаться.
Она умерла, с упреком и горечью сообщает рав Эльбаз врачу, но тот и не думает смутиться или попросить прощения за то, что все эти дни так упорно вселял в них ложные надежды, но лишь спокойно обращается к священнику и переводит ему на местный язык известие о смерти пациентки, чтобы у того не оставалось сомнений, что его заботливый уход за больной еврейской женщиной был продиктован всего лишь обычным врачебным долгом, а не каким-либо пристрастием и что на его лечебной постели умирают не только христиане, но и евреи тоже. И чтобы подкрепить эти слова, он приглашает своего ученого спутника в дом, в залитую лунным светом внутреннюю комнату, где показывает ему больную, чьи страдания так милостиво сократил Ангел смерти. Маленький андалусский рав входит за ними следом – проследить, чтобы, воспользовавшись беспомощностью мертвой женщины, с лица которой врач сейчас приподымает талит, над ней не совершили какого-нибудь недостойного или неуважительного действия, например осенили ее крестом или произнесли христианскую заупокойную молитву. Похоже, однако, что даже этому священнику не под силу изменить веру покойника с тем, чтобы открыть перед ним врата спасения, и поэтому он нисколько не заинтересован в иноверческой душе, которая уже ушла из мира сего навстречу своей судьбе, и хочет только узнать историю потерпевшего поражение тела и тайну тех могучих судорог, которые врач, на ученом языке древних греков, называет tetanus, столбняк, как будто бы это название придает болезни, вдобавок к ее безнадежности, некое величие и благородство.
И тогда рав Эльбаз, сердце которого разрывается при виде маленькой, застывшей ступни исчезнувшей женщины, снова обращается к врачу и голосом, сдавленным от слез и горя, резко упрекает его за обиду ложных обещаний, но на этот раз не на выученной у севильских христиан ломаной латыни, а на древнем языке евреев, придающем особую силу всему, что говорится на нем в гневе или разочаровании. И похоже, что на сей раз вероотступник весьма встревожен той древней формой, в одеянии которой ему брошено в лицо это повторное обвинение, и, словно пытаясь защитить Ангела смерти, как если бы тот просто допустил ошибку, подходит к окошку, открывает его настежь, смотрит на семерых евреев из Меца, устало и смущенно окруживших первую, теперь уже единственную, жену, которая нарезает выпеченную исмаилитами буханку, и, четко пометив пальцем каждого из них, вновь повторяет, на сей раз тоже не на латыни, а на вымученном и странном иврите, вторую часть своего пророческого проклятия: но эти не выживут. И хотя рав Эльбаз уже не единожды слышал эти слова, они вновь вызывают у него дрожь, как будто полная ошибочность утешительной части обещаний врача усиливает правдивость их устрашающей и гневной части.
Но в это время он замечает, что его маленький сын, забытый всеми сирота, стоит в дверях комнаты и его темные глаза прикованы к мертвой женщине, возле занавешенной каюты которой он так привык искать сладость ночного сна на корабле, и, придя в себя, торопится увести мальчика отсюда, чтобы смерть этой чужой женщины не слилась в его воображении со смертью его собственной матери. Снаружи он передает его в руки первой жены, чтобы та дала ему кусок того теплого черного хлеба, что по доброте своей испекли исмаилиты, и, хотя сам не ощущает ни малейшего голода, заставляет и себя съесть горячий кисловатый ломоть, чтобы набраться побольше сил, ибо сейчас, когда его хозяин позволил себе свалиться в богатырском сне, ему, Эльбазу, видимо, придется превратиться на время из советника в компаньона, а может быть, даже и в нового главу всей их компании.








