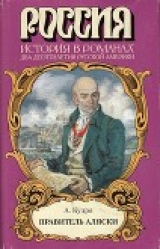
Текст книги "Правитель Аляски"
Автор книги: Аркадий Кудря
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц)
– Не знаю, – с сомнением покачал головой Гагемейстер, – удастся ли управиться до начала апреля. Боюсь, что нет.
– Как знаешь... Кстати, я хотел спросить тебя, кто такой господин Баранов, который возвращается в Россию на твоём корабле. На том приёме у Ван Достена о нём почему-то много говорили.
Гагемейстер вернулся к небольшому столику подле кресла, взял недопитую рюмку с вином, медленно выпил.
– О нём говорят больше, чем он того заслуживает. Да, он кое-что сделал на посту главного правителя американских колоний России. Ему не откажешь в предприимчивости. Он сумел расширить владения Российско-Американской компании, вёл крупные дела с американскими купцами. Но, – жёстко прервал полупанегирик Гагемейстер, – он правил деспотическими методами, и его действия принесли компании не только пользу, но и немалый вред. Компания потерпела значительные убытки из-за его авантюрных действий на Сандвичевых островах. Посланный им туда человек, некто доктор Шеффер, немец на службе компании, умудрился столкнуть между собой двух тамошних королей. Из-за этого для наших людей, помогавших Шефферу, начались большие неприятности. Прошлым летом одновременно со мной в Русской Америке находился капитан Головнин на шлюпе «Камчатка». Среди других вопросов он занимался ревизией некоторых дел компании, проверкой многочисленных жалоб на Баранова и его подручных, поступивших от служащих компании в Петербург. Баранов смещён, но, думаю, на родине ему не избежать неприятных для него объяснений.
Гагемейстер вытащил из кармана швейцарские часы на серебряной цепочке, щёлкнул крышкой:
– О-о, мне пора на корабль! Спасибо, Роберт. Приятно было посидеть в твоём доме. У тебя очень милая жена, очаровательные дети... Что же касается господина Баранова, то, ты понимаешь, я искренне ответил на твой вопрос, но отнюдь не намерен удовлетворять праздное любопытство к этой теме местных нуворишей.
– Подожди, – поднялся Стенсон, – позову Кэрол.
Стенсон вышел и вскоре вернулся с женой.
– Как, Леон, – с милой улыбкой сказала она, протягивая ему руку, – вы уже покидаете нас?
– Увы, пора. – Гагемейстер коснулся губами её пальцев. – Спасибо, Кэрол, за чудесный вечер. Я словно побывал дома.
– Приходите, Леон, ещё.
– Обязательно.
Роберт Стенсон вышел вместе с гостем на улицу, чтобы помочь ему взять экипаж.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Батавия,
март 1819 года
Баранов постепенно привыкал к размеренной жизни в отеле «Морской». Как и большинство немногих здешних постояльцев, он вставал рано, в пять утра: только раннее утро и вечер позволяли наслаждаться в Батавии прохладой. Выпивал на террасе чашку крепкого кофе и шёл прогуляться по окрестным улицам.
В канале уже с визгом плескались служанки с малолетними детьми, по каменной мостовой цокали нарядные экипажи, совершали свой моцион голландские дамы в платьях из муслина, в каких-то чепчиках, кокетливых шляпках. Каждую обычно сопровождал молодой слуга. Он шёл чуть сзади, держа в вытянутой руке пёстрый солнцезащитный зонтик над головой хозяйки.
Дедье относился к Баранову с подчёркнутым уважением. Но удивительно, что его уже знали и многие из постояльцев и почтительно приветствовали при встречах в ресторане, в саду или на террасе. Пожилые супруги, по виду немцы, лет пятидесяти или чуть больше, обращались к нему «герр Баранофф»; толстый, круглолицый англичанин, должно быть купец, непременно раскланивался и сиял благодушной улыбкой, бормоча каждый раз дежурную фразу о том, надо думать, какой нынче прекрасный денёк.
Но по-настоящему трогало Баранова внимание к нему прелестной девушки лет пятнадцати, азиатского типа, с нежным овалом лица и живыми тёмными глазами. Она жила здесь то ли с матерью, то ли с тёткой. Её быстрый взгляд, лёгкий наклон головы при встрече и слегка смущённая улыбка напоминали Баранову оставшуюся в Ново-Архангельске дочь Ирину.
Он часто думал о них – об Ирине и о сыне Антипатре, плывущем сейчас на шлюпе «Камчатка» под командой Головнина к берегам России. Капитан Головнин обещал оказать протекцию Антипатру, помочь ему поступить в Морской корпус в Петербурге. Как бы хотелось, чтобы затея удалась. Его мальчик, выросший в гавани, куда приходили суда со всех концов света, бредил морем и ещё в детстве твёрдо решил стать моряком.
Вспоминалась и оставшаяся на Кадьяке Анна Григорьевна. Разве не диво, что гибкая, пугливая, как горная козочка, дочь кенайского вождя, дарованная правителю в знак дружбы и уважения, стала ему женой и родила троих детей – Антипатра, Ирину и Катеньку.
В то лето девяносто седьмого года, когда сын появился на свет, он лишь силой обстоятельств, из-за травмы ноги, задержался на Кадьяке. Но уже в мае следующего года поплыл на лёгком судёнышке в Кенайскую губу, оставив младенца и мать, окрещённую Анной, на попечение горничной девки. На Кенае бунтовали племена, оскорблённые нападками на них людей из компании Лебедева – Ласточкина, враждовали меж собой и сами промышленники. Уладив дела на полуострове, он немедля отправился в Константиновскую крепость на острове Нучек, где принял под своё начало отряд, не желавший более служить у Ласточкина. Великий шторм обрушился тогда на остров. Буря, не утихавшая несколько дней, валила и вырывала с корнем могучие ели вокруг крепости, трещал под порывами бешеного ветра крепостной палисад, страшные молнии озаряли ночь, и он молился в горенке, стоя на коленях перед образом Спасителя.
Перед отъездом с Нучека он отправил экспедицию на материк, на реку Медную, где так много погибло посланных ранее разведчиков, чтобы всё ж пройти её и установить дружбу с жившими по реке племенами. И когда в октябре вернулся обратно на Кадьяк и вновь взял в руки маленькое тельце сына с глазами, распахнутыми на мир, и уже тёмной головкой, тот, увидев прямо перед собой обветренное, заросшее щетиной лицо отца, вдруг истошно завопил. «Чего горланишь? – сказал малышу Баранов. – Привыкай к родителю твоему».
Но много ли внимания мог уделять он сыну, если вскоре опять пришлось идти в морской поход – сначала в Якутат, где закрепились в заливе, у подножия высоченной горы Святого Ильи, а затем далее – к Ситхе, в места, богатые морским бобром, где столковались о мире и добрых отношениях с туземцами и начали строить Михайловскую крепость. Немало пришлось помахать топором в ту зиму. И где теперь его соратники, с кем рубил вековые деревья, корчевал пни, стрелял для пропитания дичь, пока возводили первые строения крепости? Мало кто из них уцелел, умер своей смертью...
Аляска, река Медная,
5 апреля 1799 года
Позади осталось семь месяцев похода, сотни вёрст, пройденных по реке, тундре, снегам. Местами байдару и другие лодки тащили бечевой, а там, где пройти мешали льды и пороги, поднимали байдары и груз на плечи и переносили на себе.
Путь назад, к устью Медной, был веселее. Теперь река уже была знакома, вспоминали: вот здесь, когда шли к верховьям, с ледяного припая оторвалась и упала в воду здоровенная глыба, едва не потопившая их лодку; у этого впадавшего в Медную ручья спугнули рыбачившего медведя, тот бежал от них в лесистый распадок; на той отмели Тараканов подстрелил оленя, и несколько последующих дней они лакомились нежнейшим мясом.
Сегодня прошли мимо щёк – сдавивших реку с обоих берегов высоких гор. У их подножия голубовато светились толстые ледяные наросты. Из-за обилия порогов и быстроты течения это место считалось самым опасным на реке, и когда стремительный поток одну за другой благополучно вынес лодки за пределы каменного ущелья, Ефим Поточкин размашисто перекрестился: самое страшное осталось позади. Теперь, вплоть до устья, опасаться особо нечего.
Вечерело, решили остановиться на ночлег. Байдары вытащили на берег, привязали к лежавшим у воды смытым половодьем деревьям, сами поднялись на угор, покрытый еловым лесом. На мшистой лужайке развели костёр, стали сушиться. Поодаль устраивали свой лагерь сопровождавшие их проводники-туземцы.
– Ну что, Тимоха, – весело сказал Поточкин, – глядишь, за пару недель и до Нучека доберёмся.
– Думаю, и поскорее, – уверенно сказал Тараканов.
Он уже успел вдвоём с Калахиной поставить на лужайке, поближе к деревьям, конусообразный шалаш из жердей, обтянутых парусиной, и сейчас рубил топором еловый лапник, чтобы настелить пол. Калахина между тем принесла с реки налитый водой котёл, укрепила над костром. Поджав под себя ноги, села чистить рыбу для ухи.
Вместе с вечерней тишиной умиротворение снисходило на душу Ефима Поточкина. Поход заканчивался. Слава Богу, живы, возвращаются целые и невредимые, всё, что намечено, сделано. Посетили и описали селения медновцев по реке, вели торговлю с ними, договорились дружить. Пытались разыскать, как наказывал Баранов, те места, где собирают дикие самородную медь. Можно считать, почти достигли их – на притоке Медной, Читине: по словам живших там племён, рыба не шла в Читину из-за плохой воды. Тогда и задумались: а не из-за меди ли вода на Читине особый вкус имеет?
В селении, где зимовали, сказали им, что далее идти опасно: живущие на реке племена не хотят пропускать их, готовятся убить. И сказала об этом дочь местного тоена Калахина. Не ему, Ефиму, сказала, а симпатии своей Тимохе Тараканову. Как-то незаметно любовь у них закрутилась, пока жили более месяца в селении, где старшим тоеном был отец Калахины.
Видел Ефим, что встречался Тараканов с темноглазой тоенской дочкой, а главное-то, как сговорился его товарищ с отцом Калахины, пропустил. Лишь когда стал Тимоха потрошить их запасы и паковать в отдельный мешок оставшиеся от торговли топоры, зеркальца, медный чайник, одеяла, бисер, Ефим подозрительно спросил его: «Ты что это, Тимоха, затеял, в одиночку на Читину идти? Сказали ж, нельзя – убьют». А тот спокойно ответил: «Калым, а по-нашему выкуп, за Калахину готовлю, хочу в жёны её взять». – «Да ты, Тимоха, сдурел, что ли? – поразился Поточкин. – Да на кой ляд она тебе сдалась?» – «Ничего-то ты, Ефим, не понимаешь, – с досадой сказал Тараканов. – Любовь у нас». – «Вот те на-а!» – озадаченно протянул Поточкин. Но, поразмыслив, решил, что не так уж плохо будет, ежели отдаст местный тоен свою дочь за Тараканова. Тогда будут связаны они с местными племенами кровными узами, а через ту связь и дружба их с русскими укрепиться должна. «Что ж, с Богом! – согласился Поточкин и проявил деловитость: – Водка-то, кажись, у нас есть ещё на веселье?»
Вниз по реке отправился Тараканов уже с тоенской дочкой Калахиной, и Поточкин скоро увидел, что остался он как бы сбоку припёка. Если на пути к верховьям каждый, считай, сухарь делили они с Таракановым пополам, то теперь на привалах Тимоха сооружал отдельный шалаш для себя и Калахины, а Ефим должен был заботиться сам о себе.
У молодых всё вроде образовалось ладно и согласно. Единственное, что раздражало Поточкина в их отношениях, так это неумеренная нежность друг к другу, слишком уж явно выдававшая себя хмельная, буйная плотская страсть. И зачем, с недовольством думал Поточкин, баловал Тимоха тоенскую дочь? Мог ни с того ни с сего схватить её на руки и закружить вокруг костра. А то подойдёт сзади и молча гладит по волосам или закроет её глаза руками. Многим бесстыдным любовным фокусам научил бесшабашный Тимоха тоенскую дочь, и скромная поначалу чернобровая девица с нежным румянцем на щеках словно вдруг оттаяла, разморозилась и теперь и сама могла подкрасться сзади к Тараканову и втихаря пощекотать его щёку травинкой, будто сел комар, а когда он с размаху шлёпал себя по щеке, счастливо, заливисто хохотала. Они уже не стеснялись Ефима, могли и в его присутствии, лишь отойдя для приличия в сторону, вдруг обняться и соединить губы в долгом поцелуе, и всему этому тоже научил недавно ещё дикую и, казалось, неприступную Калахину беспутный купецкий сын и сибирский охотник Тимоха Тараканов. Вот уж воистину блажной так блажной!
Странности своего спутника заметил Ефим ещё в начале похода. Бывало, гребут они вверх по реке и вдруг уставится Тимоха на горный изгиб над головой, смотрит, не сводя глаз, и улыбается. «Что там, Тимоха?» – обеспокоенно спрашивал Ефим. «Да, глянь, медведь», – шептал Тараканов. «Где, где медведь?» – силился увидеть Поточкин. А Тараканов лишь смеялся: «Да вот эта гора и есть натуральный медведь – по профилю. Видишь, передние лапы подняты и нос вверх торчит». – «Ну ты, Тимоха, прямо блажной!» – в недоумении от такого мальчишества крутил головой Поточкин.
А то увидит ещё стаю гусей над рекой и опять задерёт голову и смотрит, смотрит, как летят они узким клином встречь восходящему солнцу. «Стреляй! – орал Поточкин. – Что пялиться-то на них!» Нет, не шевелится, смотрит и даже до ружья не касается, только говорит нараспев: «Ты глянь, Ефим, лепота-то какая!» Ну чем же, право слово, не блажной!
А стрелком Тимоха оказался удивительным, каких до того и видеть Поточкину не приходилось. Он, прежде чем ружьё схватить, примерялся глазом, достанет дробь или пуля цель, а уж если целился, то, считай, на привале свежатинкой угощать будет, просто так заряды не расходовал.
Как-то, когда оленину вкушали, выпытывал у него Поточкин о том, что раньше-то, до приезда в Америку, Тимоха делал. Тараканов, до того скрытничавший, вдруг разговорился: пять лет, мол, рассорившись с батей своим, купцом второй гильдии, зверя в тайге промышлял. «Чего ж тебя сюда-то, за тридевять земель, потянуло?» – удивился Поточкин. «А так, – неопределённо сказал Тараканов, – прослышал, что в Америке промыслы богатые, мир захотелось посмотреть». – «Стало быть, – уточнил Ефим, – по доброй воле, охотником, сюда явился?» – «Охотником», – подтвердил Тараканов.
Подыскивая напарника в трудный поход, назначенный ему на Нучеке Барановым, старовояжный Поточкин пробовал одного за другим уговорить близких людей, и все отказались. О реке Медной слава у промышленных была плохая: не раз гибли там прошлые экспедиции, рисковать ради будущих видов компании собственной шкурой любителей не находилось. Кто-то посоветовал: да ты попытай Тимоху Тараканова, он парень удалой, крепкий, да и блажной к тому ж. Может, и согласится. С Таракановым Поточкин дела раньше не имел, тот больше в промысловых партиях находился. Но о нём говорили, что парень хваткий, любое дело у него в руках горит. Поточкин всё же сомневался: молод ещё, неопытен, всего-то с виду двадцать шесть – двадцать семь лет, лишь два года, как в колонии из Охотска приплыл. И всё ж его убедили: ежели Тимоха согласится, с ним не пропадёшь.
Разговор с рыжебородым молодцем был на удивление коротким: «На Медную, говоришь? – глядя на Поточкина слегка прищуренными голубыми глазами, переспросил Тараканов. – На ту самую Медную, где, сказывают, медь по берегам лежит?» – «На ту самую», – подтвердил Поточкин, уже чувствуя, что парень наслышан о реке и погибших там и потому откажется, струсит. Но Тараканов неожиданно согласился: «На Медную так на Медную. Когда выступать будем?»
Подготовив всё нужное для похода, они двинулись из Константиновской крепости на Нучеке в начале сентября, взяв с собой для помощи группу медновских жителей с двумя тоенами, чтоб помогали выгребать вверх по реке, а более всего содействовать в установлении дружеских отношений с населяющими реку народами.
Всё хорошее, что слышал Поточкин о Тараканове, оказалось правдой. Парень был спокоен характером и привычен ко всякой работе: даже порванную камлейку Поточкина починил сам, да так ловко, что другая женщина позавидовала бы. По молодости своего спутника Поточкин многое прощал ему: и неумеренную лихость, когда преодолевали на реке гиблые стремнины, и наивную восторженность взгляда, каким озирал Тараканов величественно-дикие берега и встречаемых на реке людей. Ничего, успокаивал себя Поточкин, помаленьку отешется и поймёт, что в местах, где каждый неверный шаг и резкий жест, который дикие могут истолковать по-своему, грозят смертью, восторженные слюни распускать не стоит, и тогда будет смотреть на окружающий мир так, как давно смотрел на него сам Поточкин: всё ли спокойно, не притаилась ли рядом опасность?
Всем устраивал Тараканов Поточкина, если б только не эта его беззастенчивость в чувствах, когда рядом с ними оказалась Калахина. Надо ли так баловать их, с глухим протестом в душе думал Поточкин. Сам он давно жил вместе с крещёной алеуткой Матрёной. Она обстирывала его и обшивала, научилась готовить русские пельмени, да и рыба по рецептам её племени получалась у неё недурно. А что ещё нужно от бабы? И уж никаких таких придурковатых шалостей, улыбочек, томных взглядов Ефим ей не позволял. Когда же стала как-то Матрёна подмазываться к нему со своими ласками, он в сердцах вколотил ей крепкую затрещину, чтоб знала своё место и поперёд мужа не высовывалась. Бабу распустишь – потом сам нахлебаешься.
И хоть не по душе были Ефиму все эти нежности Тараканова с его подругой, он всё же понимал, что присутствие в их отряде Калахины значительно упростило обратный путь. Теперь, когда они подходили к расположенным в низовьях реки селениям, Калахина с одним из медновцев первая отправлялась делать визит местному тоену, а возвратясь, говорила, что всё в порядке, их ждут, и Поточкина с Таракановым встречали как дорогих гостей, угощали рыбой, мясом, кто что имел, и наказывали, какие товары желательно получить им в будущем от русских. А значит, главное, ради чего они предприняли этот поход, было достигнуто.
Стоявшая у костра Калахина что-то сказала Тараканову на своём языке, и Тимоха весело крикнул:
– Достаём миски, Ефим! Калахина говорит: уха готова!
Вот же чёрт, на сей раз с восхищением подумал о спутнике Поточкин, уже и языку её обучился. А когда они сели подле костра и начали трапезу, он едва не поперхнулся: зачерпнув из котла, Калахина с важным видом поднесла полную ложку Тараканову, вроде бы на пробу. Тот, вкусив варево, одобрительно поднял вверх палец и что-то сказал Калахине. Темнобровая смуглянка улыбнулась, открыв ровные и удивительно белые зубы.
Чтобы не смотреть на них и не портить себе аппетит созерцанием их нежностей, Поточкин, налив миску, отошёл в сторону и уселся на большом камне, отвернувшись от костра. Глядя на темнеющее небо, неторопливо начал хлебать густой рыбный отвар. Из-за спины доносился разговор Тараканова с Калахиной.
– Небо, – говорил Тараканов, и Ефим знал, что он показывает сейчас пальцем вверх.
Калахина неуверенно повторила это слово по-русски, он поправил её, потом она произнесла, надо думать, то же слово на своём языке, и теперь Тараканов повторял вслед за ней. Ну прямо как дети, угрюмо подумал Ефим Поточкин.
Остров Кадьяк, Павловская гавань,
22 марта 1801 года
Ещё один день уходил, со своими заботами и тревогами. В затихшем доме отзвучал медный бой часов. Десять вечера. Баранов засиделся в кабинете за письмом правителю компании на Уналашке Емельяну Григорьевичу Ларионову, коего почитал старинным и добрым своим приятелем. Хотелось излить душу, выговориться.
«...Провидению угодно сталось наказать печальным томлением и испытать терпение прискорбными беспокойствами, ибо духовные с чиновными вышли совсем из пределов своих должностей, вооружились против нас всесильными нападениями, до половины зимы старались всячески, но неявно расстраивать многих из промышленных, а более настраивать островитян к мятежу и независимости, но в канун Нового года явно открыли удивительный театр явления неблагомысленного ко мне и всей компании расположения...»
Хотелось изложить события коротко и понятно. Встал из-за стола, подкинул в печь еловое полено. Не закрывая дверцу, с минуту смотрел на мерцание углей в печи – и вот уже языки пламени жадно охватывают сухое дерево.
Думы о подрывных кознях монашеской братии вкупе с принявшим их сторону подпоручиком Талиным вызывали в душе мрачное ожесточение. По его же просьбе и настоянию прислали сюда святых отцов из Валаамского монастыря, чтобы наставлять диких на путь истинный, нести слово Божие и тем смягчать грубые нравы. Так нет же, мало им душеспасительных бесед с дикими, теперь и за него взялись, и за Анну, всех промышленных будоражить начали. Разговорами своими о грехе прелюбодеяния, о младенце, зачатом без освящения брака церковью, окончательно разум Анны помутили, так, что из-за её безумных действий и младенца чуть не потеряли. И того понять святые отцы не хотят, что законная жена, оставленная в России, давно ему нелюбима и уж не один десяток лет, с тех пор как вёл он дела в Сибири, живут они врозь. А ведь он обет безбрачия не давал. Почему же монахи, в слепой чёрствости своей, отказывают ему в праве на женскую ласку, на потребность иметь детишек?
Заступниками алеутов себя считают и потому подбивают их в промысловые партии более не ходить. Им, видите ли, диких, гибнущих в морских вояжах, жалко. А ему своих промышленных, тоже гибнущих от рук колошей и в морскую непогодь, не жалко? Да только как же будут дела компании делаться, как промыслы будут вестись, ежели этому чувству жалости волю дать? Что же им останется тогда? Всё свернуть, бросить крепости, здесь воздвигнутые, и селения и бить челом в Петербург, что нет, мол, сил наших и возможностей далее промыслы и торговлю на американских берегах развивать. Не к тому ли враждебные намерения монахов клонятся?
Ишь что с подпоручиком Талиным надумали – к присяге новому государю Александру Первому всех промышленных и алеутских служащих компании торжественно привести! Будто невдомёк им, что не время зимой собирать людей с отдалённых селений, везти их сюда по бурному морю, кормить и содержать здесь, на Кадьяке, несколько дней, когда и у самих-то съестных припасов нет. Стоило же дать твёрдый ответ: «Нет, не допущу никакой присяги, нечего попусту людей будоражить!» – как тут же заерепенились и изменником государевым обозвали. Вот какое титло оскорбительное заработал за все труды свои неустанные для пользы компании, за всю ревность к выгодам Отечества и монаршей славе!
Да как они смели, всё с большим ожесточением думал Баранов, неторопливо меряя комнату шагами, не допускать промышленных в Божий храм лишь потому, что кое-кто из них, как и он сам, семейной жизнью без церковного благословения живёт, да ещё и детишек завёл. Не положено, мол, по духовному регламенту на церковную службу таких пущать! Не смешили бы людей своими каверзными выдумками, способными лишь окончательно от церкви промышленных отлучить. И тысячу раз прав он был, заявив твёрдо и откровенно, что, ежели не уймутся, не прекратят мятежные проповеди свои и действия, то будут посажены под замок, а то и высланы, чтоб не мешались здесь, на Уналашку. Не понравилось, обиделись, в оскорблённую позу встали, теперь и службы служить не хотят. Боятся, как бы насилие против них не учинили.
Слишком тепло им здесь, отъелись на казённых харчах. Пора отправить всех на дальние земли, чтобы сами шли в селения диких со словом Божиим и на местах младенцев крестили. Поскитаются, как наши промышленные, глядишь – и поумнеют...
Что там Анна? Уж спит, наверное, не дождалась... Тихо ступая по половикам, прошёл в спальню, где теплился лишь огонёк лампады под образом Богоматери. Да, Анна спала, разметав по подушке длинные, цвета воронова крыла, волосы. Всмотрелся в черты её лица, со слегка выступающими скулами, с маленьким, точёным носиком. Американские капитаны, кто видел его вместе с Анной, поздравляли с красивой молодой женой. Он и сам знал все её достоинства лучше, чем кто-либо, дорожил ею. Во сне лицо Анны разгладилось, с него сошло обычное в последнее время выражение затаённой глубоко в сердце печали. И ведь это они, снова вспыхнул мрачной яростью Баранов, эти чернорясые проповедники, внушили ей скорбные мысли о совершаемом ею смертном грехе прелюбодеяния, о неизбежной каре за презрение заповедей Божиих. Но разве Господь запрещал любовь, запрещал деторождение?
Он прошёл в другую комнату, поменьше, где спал Антипатр. Сын был, как и Анна, черноволос, но в очертаниях рта явно прослеживалась его, барановская, кровь, его наследие. Летом малышу стукнет четыре. Растёт, шельмец, глядишь, и на охоту вместе ходить будут. Есть, есть в нём что-то приятное взгляду и благонравное, обещающее характер добрый и стойкий. В чём же и искать здесь опору, как не в налаженной, слава Господу, семейной жизни? И за это ещё упрёки и оскорбления выслушивать приходится.
Нежно дотронулся рукой до головки сына, погладил по волосам.
Вернулся в кабинет, присел к столу, глядя на лист бумаги с начатым письмом.
Придётся написать и о Талине, что опять тыкал ему и нагло заявлял, что бесчиновному правителю подчиняться не обязан. Вздумал попрекать купецким званием! Однажды уже было сказано «его благородию» штурману Талину, что купецкое звание не есть подлое и бесчестное и что корпус оных составляет важную государственную подпору, и потому именоваться купцом он в честь себе вменяет и никогда никому не позволит с презрением к этому званию относиться.
И было б с чего важничать и представляться этому Талину, считающему себя опытным мореходом, а «Орёл»-то разбил на Чугацких берегах, одних мехов на двадцать две тысячи рублей погибло. И по пути в Ситху уклонялся от встречи, самовольничал, да грозился ещё привязать к рее, коли осмелится правитель ступить на палубу его корабля, и зверски мучить. Вот уж истинно дурак, не хотелось связываться с ним, чтобы в грех себя не вводить. И такого-то буйного нравом предводителя выбрала себе в главари монашеская братия!
Письмо всё же надо было закончить. Баранов вновь взял перо и, подвинув ближе подсвечник, продолжил писанину.
Остров Кадьяк,
25 апреля 1801 года
В апреле, к радости Баранова, на Кадьяк нежданно-негаданно пришло американское судно «Энтерпрайз». Представилась возможность выменять на меха остро необходимые товары: продовольствие, сукна, кое-что из оружия. На этом корабле, заходившем по пути в русские поселения, ему было доставлено письмо от начальника Михайловской крепости Василия Медведникова. Медведников сообщал, что строительство поселения на Ситхе идёт успешно, в проливах много морских бобров, но вести промыслы из-за нехватки людей весьма затруднительно. Просил прислать муку, крупы, но более всего хоть немного людей в подмогу.
Помощь продуктами и, желательно, людьми была необходима не только Медведникову, но и поселению в заливе Якутат. Надо было срочно посылать туда корабль «Екатерина». Баранов решил, что экспедицию в Якутат и Ситху возглавит Иван Кусков. С ним же и обсуждал, кого можно направить на Ситху. Найти людей было тяжело: вот уже три года из России не было ни одного транспорта, а значит, и людского пополнения. Между тем промышленники гибли и в дальних походах, и в стычках с дикими, русское население колонии сокращалось.
Прикидывая с Кусковым и так и сяк, подыскали всё же пять человек, которых можно направить на Ситху отсюда, из Павловска. Трёх человек решили взять из Константиновской крепости на Нучеке, куда «Екатерина» зайдёт по дороге в Ситху.
– Вот бы кого ещё уговорить, – вдруг оживился во время беседы Кусков, – Тимофея Тараканова с Нучека. Он ведь здесь сейчас, оказией «Энтерпрайза» воспользовался и приплыл по своим делам.
– Что это за Тараканов? – недовольно переспросил Баранов.
– Имя было ему как будто знакомо, но человека этого припомнить не мог, из-за чего и испытал раздражение, что память подводит.
– Да слышал ты, Александр Андреевич, о нём, – энергично заговорил Кусков, – рассказывал я тебе. Тот самый удалец, что с Ефимом Поточкиным на Медную ходил, а обратно с тоенской дочкой вернулся. – Худощавое лицо Кускова расплылось лукавой улыбкой.
– Припоминаю, – облегчённо подтвердил Баранов. – И тоенская дочь ещё отговорила их на Читину идти, где, мол, злонамеренные действия против наших вояжёров готовились...
– Вот-вот, – подхватил Кусков. – В тот же год, когда на Нучек они вернулись, крестил он медновскую свою девку здесь, на Кадьяке. В церкви нашей и обвенчались. С тех пор вместе на Нучеке живут. Поточкин хорошо о нём отзывался: лихой, работящий, на все руки мастер.
– Так, – одобрительно сказал Баранов. – И говоришь, Иван, здесь он сейчас, этот Тараканов?
– Здесь, встретил его намедни на берегу. Ружьё, сказывал, поломалось, надобно в нашей мастерской ремонтировать.
– Что ж, – энергично сказал Баранов, – я Тараканова видеть хочу, сегодня же. Пусть разыщут и приведут ко мне для разговора.
После полудня Кусков вернулся в сопровождении рыжебородого мужика лет около тридцати.
– Это и есть, Александр Андреевич, Тараканов, о котором мы с тобой толковали, Тимофей Осипович.
Тараканов был несколько выше среднего роста, плотного сложения, в чертах его открытого лица проглядывало что-то молодецкое, сразу располагающее к себе.
Баранов встал из-за стола, протянул промышленнику руку.
– Будем знакомы, Тимофей Осипович, маленько наслышан о тебе. Ты, Иван Александрович, иди, – сказал он Кускову, – делай свои дела. Мы уж сами побеседуем. – Подождал, пока тот закроет дверь. – Как жизнь твоя семейная, Тимофей Осипович, как жёнка твоя медновская поживает? По родичам не скучает?
– Да всё вроде путём, обвыклась немного, – сдержанно отвечал Тараканов.
Он размышлял, зачем понадобился главному правителю. Но встрече был рад: сам собирался на днях прийти, поговорить о своих нуждах.
– Как же зовут твою симпатию? – продолжал неторопливо выпытывать Баранов.
– Анфисой крестили.
Тараканов не стал говорить, что сам по-прежнему предпочитает называть её Калахиной: это необычное имя почему-то нравилось ему больше.
– Сам-то давно ли здесь? Ты уж извини меня, Тимофей, всех не упомню, когда кто к нам прибыл.
– На «Фениксе» пришёл я, четыре года назад, и сразу почти на Нучек был направлен.
– Так, – с удовлетворением констатировал Баранов, – значит, не из ссыльных ты поселенцев...
– Бог миловал, – усмехнулся Тараканов. – Охотник я сибирский, из Иркутской губернии.
Не зная, понравится ли Баранову упоминание, что не хотел он по стопам отца идти, оттого и подался в охотники, о купеческом роде своём Тараканов промолчал.
– Не надоело ещё на Нучеке? – закинул на всякий случай Баранов.
– Подумываю, – опять осторожно ответил Тараканов, – может, пора уж и сюда перебраться, ежели примете. Заскучал я на Нучеке, приелось всё, одни и те же места, те же лица...
В действительности разведка возможности перебраться на Кадьяк была главной целью его приезда сюда. Жизнь в небольшом отряде крепости начала его тяготить. Туземные обитатели Медной, как бывало и раньше, нет-нет и устраивали стычки с промышленниками Константиновской крепости, но теперь злость на сородичей Калахины срывалась на ней. Она плакала по ночам, жаловалась мужу, что живёт здесь как в заточении и её не любят. Как-то сама намекнула, не лучше ли уехать отсюда на другое место.








