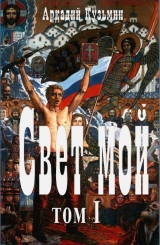
Текст книги "Свет мой Том I (СИ)"
Автор книги: Аркадий Кузьмин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Что позволено себе? Об этом не худо бы спросить у себя прежде всего.
Это был еще 1956 год, когда худшее, что было, коснулось и дней ноября, и было колючее воскресенье, в которое они – Инга и Костя Махаловы – собирались к Туровым.
Впрочем, златовласая, в голубом бархате и с еще девичьей вольностью, Инга была очень хороша собой, когда она открыла дверь Тосе Хватовой, своей двадцатисемилетней подруге-погодке, и сразу же, кругля атласные глаза, заявила ей, что она уязвлена: во-первых, представь, у нее отбит новый жених, этот сизарь Стрелков, во-вторых, на сегодняшнее новоселье пригласили ее просто запиской – ту принесла весталка, а в-третьих, у нее-то самой все, окончательно все спуталось. Душа не на месте.
– Ну, входи, снимай пальто! – И она возбужденно, перекладывая в комнате, на кровати, стульях платья, комбинашки, приговаривала: – Я уверена, что мигом женится… Тьфу!.. Выйдет замуж Аллочка… Ей невтерпеж… А мне, девушке Инге, – как мне быть? И даже моя крестная, мировой судья, не сможет тут рассудить…
Платяной шкаф был раскрыт, около него валялись носильные вещи, коробки, вешалки; на ворсистом темно-зеленом кресле разинул желтый зев чемодан, напоминавший Тосе счастливые дни проведения их бывалых каникул у Черного моря. И увиденное сильно расстроило ее. Она недоумевала:
– Ты, что, уезжаешь куда-нибудь?
– Ах, не бойся, подружка: я Костю выгоняю…Вернее, сама ухожу отсюда, из этой свекровьей конуры, – сообщила Инга будто равнодушно, желая, видно, своим полным равнодушием наглядно показать всем, как она умеет расправиться с неподходящим для нее мужем, человеком, которого иногда защищала перед ней и Тося, спокойная разумница, положительная вся. – Да, бросаю Костю, и вот такой провал – моя новая любовь непризнанна, разбита; ведь Стрелков стал увиваться вокруг эгоистки Аллочки (я не обозналась): уж она-то быстренько обкрутит его, поверь мне. Оглянуться не успеет, поверь, – повторила Инга с явным удовольствием.
– И дался тебе этот журавль обдерганный! – Тося видела того в Университете мыкающимся с папочкой на застежке. – Хлыщ хладнокровный…
– Ой, оставь! Не гони напраслину.
– Из-за него вы расскандалились вновь?
– Какое!.. Тебе, Тосенька, незамужней, не понять. Неуютно мне, признаюсь, с моим сокровищем – муженьком горячим; он словно все еще на фронте, среди друзей-однополчан, в атаку ходит врукопашную или в разведку, где может и пропасть не за здорово живешь. Нас качает и трясет. Рычим друг на друга. Его мамочка моторная кудахчет. Вот и, спрашивается, где сейчас черти его носят? За покупкой ведь залимонился… А мне бы только бабки где-нибудь раздобыть – все бы тогда бросила и укатила куда подальше, – выговаривалась Инга. И как-то иронично глянула в глаза подруге и захохотала неожиданно, точно репетируя какую-то скучную сценическую роль, надоевшую, верно, ей самой.
«Фу, сколь отвратительно ее кривляние!» – подумалось Тосе, да тут слышно за стеной звякнули ключи. Дверь приоткрылась, и в нее несмело вступила взъерошенная приземистая фигура Кости, в козлиной дохе и с шапкой черных волос на голове. Инга поймала испытующий взгляд Тоси, направленный на нее, и тоже покраснела. Демонстративно поморщилась, фыркнула, поскольку Костя замешкался – он не знал, что сказать при Тосе (они с Ингой не разговаривали уже три дня), и, бросив единственное слово:
– Господи! – которым постоянно казнила его, выбежала в кухню и с силой захлопнула за собою дверь.
– Здравствуй! – Тося перемигнулась с Костей, еще в нерешительности переступавшим с ноги на ногу. – Молчи!.. Я вас помирю… – она не могла смириться с мыслью о справедливости и серьезности этого конфликта двух близких ей людей, у которых на регистрации их брака она была шафером, и все же искренно ей было почему-то жалчее его, Костю. Он ни в чем не притворялся ни перед кем. Был мужчиной. И, безусловно, нуждался иной раз в чьей-то помощи, поддержке моральной.
Только комнатную дверь опять распахнуло ровно поры-вом мятущегося ветра (за окнами качались голые подсне-женные верхушки тополей), и Инга подлетела к Косте вплотную. С ошалевшими глазами.
– Ну, что надумал? – У нее был самый решительный воинственный вид, говоривший у ее готовности к действию; она, конечно же, считала, что ей одной из двух дочерей военного офицера, было к лицу негодовать, если была причина для этого, и что она еще вправе руководить и командовать собственным мужем.
– И давно, – ответил он, прищурясь. – Еще когда холос-тячничал, помнишь?
Они познакомились на юрфаке университета. В студен-ческие годы эротичная Инга, Костя отлично видел, знал, пользовалась завидным успехом у таких, как он, парней, матерых, прошедших на войне огонь и воду; она, яркая, не без шарма, заигрывала со всеми подходящими для нее кавалерами, раззадоривала их без всяких обязательств; они тянулись к ней, и ей льстило быть в центре притяжения и казаться легкомысленной, завлекающей, но неприкасаемой богиней. Долго ли, скоро ли, однако ее открыто-вызы-вающий культ красивой чувственной силы пробудил в нем, Косте, удаль бесшабашную; он как человек отважный, отчаянный и рисковой, многажды обстрелянный, поклялся товарищам на пари, что первым завоюет ее сердце, сумеет поухаживать. Увидите! И это ему удалось. Но, к сожалению, жизнь не считалась ни с чем; она расставляла перед ним, наивным, доверчивым, скрытые ловушки, о которых он не подозревал никак.
«Есть простое повествовательное предложение», – припоминались ему на этот счет слова, сказанные как-то профессором-филологом К. о своей многолетней работе, труде, не внесшим, по его убеждению, в науку ничего нового.
– Посмотрите на него! Весь обиженный, нахохленный, что англичанин! – Ингу выводило из себя то, что Костя теперь, после совместной трехлетней жизни перестал восторгаться ею, стал почти равнодушен к ней, а хуже еще – непокорен ей.
Он лишь пожал плечами, словно ему было невдомек, взаправду ли она говорила сейчас то, что говорила, и было ли вообще такое наяву. Ему не верилось до сих пор. Ни за что не верилось в такое, хоть убей.
– Ну, ты идешь со мной?
– Если хочешь… Я готов… Всегда готов!
– И не беси меня святостью своих глаз! А лучше скажи, что Стрелков? Пасет ли он Аллу? – попутно решала Инга для себя головоломную задачку.
– Понятия не имею, кто кем оприходован. И не знаю никакой Аллы.
– Но она ведь родственница Николая Анатольевича, для кого ты – протеже.
– Это он – мой протеже. И отлично! Все мы чьи-нибудь родственники.
– Да, отлично, нечего тебе сказать… Если твои несобранность и несерьезность есть и в том, что учился ты на юриста, а работаешь художником…
– Точней: редактором по должности. Я, что, судим? Под следствием?
– Не минется. И амнистия тебе потом не светит.
– Да ты, Тося, сядь! – виновато сказал Костя. – Некуда? Вот хоть сюда… Скинем прочь этот чемодан! Уж в который раз все выставляется мне напоказ…
– Пожалуй, я пойду, – нашлась Тося. – Не пойму вас. Такая резиновая жвачка, право, не по мне. До свидания!
– Тосенька, прости, – клялась Инга, провожая ее. – Я приеду к тебе в другой раз, и мы обязательно потолкуем. Ладно?
И продолжила после, проводив ее:
– Как мило и скоро, дорогой мой, ты женатым вовсе позабыл и то, как надо ухаживать за женой, еще твоей женой. Видно, мне и это надо больше, чем тебе, знать. Тогда переодевайся, не будь охламоном, не позорь меня перед друзьями моими, – скомандовала она. – Потом все проясним и обусловим наш развод. – Круто повернулась к нему: – Ты согласен?
– Согласен. Я на все уже согласный. – Костя подчинился ей, – он знал наперед, что его молчание и видимая покорность – что вода, льющаяся на колесо той мельницы, которое все-таки еще крутила жернова и молола, хоть и со скрипом, благодаря именно его жене, иногда разумной, сумасшедшей и скандальной. И подошел к шкафу.
– Надень новый костюм – не скромничай; там, очевидно, барышни будут, – говорила Инга со значением, понятным лишь ей одной.
– Зачем? Все-равно же мы расходимся.
– Фу, какой плебейский у тебя лексикон! Ах! Я и забыла, девушка…
К вечеру на улице студил и сек (и снежило редко) ветер и вновь подмораживал слякоть и выбеленные ночью первым снегом палисадники, крыши, наличники, деревья. И поэтому у Кости отчасти поэтически изменилось (что-то тронуло в душе) настроение.
И так живо, ярко впечатлилась ему одна сценка славная, романтическая, увиденная им в вагоне метро, в котором они ехали.
Было то, что рослый и угловатый отец двух длинноногих дочерей-подростков, приятный в своей мужественности и нежности, усадил их себе на колени и, обняв обеих в обхват, весело-влюбленно разговаривал с ними, рядом с сидящей и улыбающейся женой. Девочки были очень оживленно-веселы, их глаза блестели; они непроизвольно пальчиками касались его лица и точно забыли про всех пассажиров, которые невольно обращали на них внимание и улыбались их нежной дружбе и завидовали. И особенно улыбалась и поглядывала на свою маму, держась за ее руку, их сверстница, сидевшая неподалеку, наискоски от них. Видно, она бессознательно, быть может, хотела испытать такое же чувство счастья. Но не меньше ее лично и Костя хотел того же. Придирки жены ему надоели.
В светлой новенькой парадной большого дома Костю вдруг прорвало: он тихонько засмеялся над собой и замедлил шаги, уверенный в том, что противопоставление – блеф: Инга ненавидит его, а он смеется, не боится того.
– Эва, нашло! – проворчала она. – Истерика? Уймись!
Он не сразу смог остановить себя и перестать смеяться.
– Милая, прости, но я больше не могу: это же комедия у нас! – заговорил он, поймав ее за руку и ощущая вблизи запах ее волос. И впервые за эти дни увидел, как ожило и просияло ее лицо, хотя, кажется, она все еще хотела обидеться на него и за это. Он сделал свой разумный шаг к примирению, удивленный сам неожиданным своим решением.
Они, чуть-чуть присмирев и посерьезнев, и позвонив, вошли в неизвестно новую квартиру.
II
Дородная старорежимная Евгения Павловна Турова с серебром ниспадавших волос, стриженых «под горшок», в темно-синем костюме, с отменным синим, завязанным по– старомодному, бантом на груди, на белой сорочке, колдовала вокруг накрытого стола, что-то подставляла и переставляла на нем, и, напевая себе под нос арии, пребывала в одной благости. Ничто больше для нее сейчас, видать, не значило.
«Нет, не удовольствуюсь – и негодую я, и умиляюсь, и уже восторгаюсь; хмурость перетерплю – моя честь не поранена, – заразмышлял Махалов, вздохнув и отпустив свободомыслие в полет. Они с Ингой впервые (она перестаралась) приехали сюда, в новочистенькую квартирку Туровых; зато Ингу немедля заарканила для нарезки лука сладкоречивая дочь хозяйки Вика, белобрысая пышка. Присев на старый диван, перед бюро с каменной лампой, по углам основания которой выглядывали бараньи головки, Костя смутно, но улавливал и иную связь своей мысли с опусто-шающей супружеской нерволокой. Но что не может потерпеть? Был до этого винный погребок с публикой солидной… И кому-то к слову «Швейка…» процитировал… А-а, это ж дали мне заказ – каталог оформить!.. Ну-у, было забыл!.. Проваландался, гусь… И ведь надо заэскизить к следующему четвергу… Выходит, надо завтра-послезавтра – кровь из носу! – посидеть с работкой этой – и в среду отнести эскиз готовый. Попроверим память вновь… Значит, точно в минувший четверг получил?.. Ну, тогда успеется…»
Это Степка Утехин деловито зарулил Костю в погребок, прозванный завсегдатаями «погребком США», – растрясал свой гонорар. С вожделением он подошел к винному лотку:
– Какова собой «Приморская водка»? Цвета коньяка…
– Близко к «Царской», – раньше лотошницы пояснил стоявший рядом мужчина в летах, хорошо одетый.
– Дайте бутылочку, – попросил Утехин.
Невозмутимо-молча, без улыбки, продавщица выставила водку на стойку.
– Да, дайте еще и «Советский джин». Умру, если не попробую. И еще бутылочку, пожалуйста… А это что?
– А эта приближается по градусам совсем к коньяку, – сказал тот же словоохотливый посетитель, ждущий, верно, кого-то или что-то.
– Беру и такую.
Затем они вошли направо – в рюмочную.
– Вы сюда стоите? – Уткнулись в спины стоявших гусь-ком мужчин к кассе.
– А больше некуда здесь стоять, – срезонировал на подошедших гладкотелый потребитель в середине разговора со своим товарищем и кивнул на набитую бутылками матерчатую сумку, которую держал Утехин: – Смотри, как бы не прокисло… Набрал!..
– Этот товар у нас не застаивается, – ответил тот подобающим образом. – Ну, что, Константин, будем брать? Коньяк – грамм по пятьдесят?.. И по двести шампанского? Я-то сам лишь шампанское пью. Коньяку уже хватанул до этого.
– То напротив бухгалтерии у вас прикладывались, шебуршились, что ли?
– Нет, сюда я не поспел, а когда ходил в Союз, – имел он в виду Союз художников.
– Лучше «Рислинг» мне возьми. К коньяку я тоже равнодушен сегодня.
Костя хорошо помнил, как двое запьяневших толстяков у стоек пробовали тянуть друг друга согнутыми пальцами, и как у одного из них разгибался раз за разом палец – не выдерживал усилий; так второй корил его за такое бессилие, дразнил, что он слабак и что поэтому больше ни за что не будет пить вместе с ним.
Послышались в прихожей густые простуженные мужские голоса:
– Я не люблю обманывать. Но другие, знаете… беда…
– Во! Во! Во! Во!
Евгения Павловна радушно пошла навстречу вошедшим, протягивая для пожатия ладошку – забавно – лодочкой.
Махалов вновь вздохнул, раскрепощенный оттого, что не все у него оказалось уж так плохо (поправимо), вышагнул из комнатки и встретился с поблескивавшими глазами крепко сбитого и большелобого Лущина, редактора толстого периодического университетского журнала «Ведомости», что ежемесячно выпускался в темно-зеленой обложке и рассылался во многие зарубежные страны. На Лущине костюм был тоже темнооливкового цвета, подметил глаз Кости. Они вместе работали в издательстве ЛГУ.
– Батюшки светы! – радостно воскликнул Николай Анатольевич. – И тебя я вижу?! – Крепко ухватил его под локоть, зашептал: – А Инга где? С тобой?
– Это я при ней здесь, Коленька, – уточнил повеселевший Костя. – Она попала под «Колесо истории»: на кухне лукорезничает.
– Ну, здорово-таки! А мы, давние женатики и приятели, вот одни; жены отпустили нас – гуляем себе, вольные казаки. – Знакомься – Никита Янович Луданов, – представил он бодрого незнакомца (тоже средних лет) в фиолетовом костюме с блесткой-ниточкой. – Настоящий книжный король.
– Мы где-то уже виделись, Янович, кажется. – Костя пожал тому руку, назвал себя.
– Да в винном погребке, небось, – подсказал Никита, по-свойски улыбаясь. И Костя по его улыбке и движению вспомнил, как тот, выходя из погребка, помахал рукой и приятельски сказал всем: – Мальчики, всего! Успехов вам!
– Маэстро, рассуди художнически! – взывал Лущин. – Известный классик отмечал, что искусство совершенное возможно было лишь на заре человеческого общества…
– «Веселенько день начался!» – сказал осужденный, которого вели на казнь, – проговорил с расстановкой Костя. – В арбитрах вы нуждаетесь, что ль?
– Ни. Нам, страстнотерпимцам, хочется обмозговать стихию творчества…
– Заело, – сказал Никита. – Перпетуум-мобиле…
– Как говаривал дед бабке: – «перестань ты, старая бря-калка! Не мозгочи!» Оставьте вы эстетствующий порыв! – И Костя аж поморщился. – Мне приснились сегодня голые люди – те, с кем я знался где-то неприятно, помнил; они узывали меня куда-то с собой, манили ласково. «Господи, какие голые мысли! – думал я, просыпаясь, – и меня несет туда же!»
– Бывает, – сочувствовал Никита.
– Ты скажи, друг мой: помнишь юбилейную выставку картин Рембрандта в Эрмитаже? – пытал Николай. – Разве не экономическое могущество Голландии и Испании в те годы дали расцвет голландской и испанской живописи?
– Что, коллоквиум искусствоведческий у нас?
– Не сердись. Я – о превратностях судеб талантов. Гений умер в нищете, больным, ослепшим; он был обворован властью, выброшен в сарай – и напрочь забыт. А нынче весь мир славит его и припадает, как блудный сын, к его стопам; все мировые музеи обмениваются его работами – на показ, выпускают каталоги; называют его именем само-лет, и уж сама королева – популярности ради – открывает его выставку. Талант победил.
– Это ведь земной организм оберегает и приемлет ему угодное, а неугодное, чужеродное отторгает со временем и отбрасывает прочь, – сказал Костя.
– Справедливо, – сказал и Никита. – Но так и во всем.
– Только сам ты, Коленька, не скромничай… Говорят, что ты на пятничном собрании своим выступлением ниспровергал основы нынешнего самодурства?
– Как я могу, маэстро? Надо было лишь поставить все на свое место. А то босс наш речет так, будто он сдвигает континенты.
– А оказывается, они сами двигаются, – добавил Костя с довольной усмешкой.
Их разговор прервался. Квартира враз заполнилась голосами, возгласами, смехом прибывающих гостей; все завертелось с подарками, с цветами, с поздравлениями и поцелуями. Все ахнули, когда Алла Золотова, подружка Вики, сняла пальто: ее естественные рыже-красные волосы лежали локонами на голубовато-кобальтовом платье, еще более ярком, чем у Инги; у нее было лицо красавицы с наведенными бровями и великолепно сложенная фигура с узкой талией и красивыми ногами, которые чуть выше, чем нужно, были открыты.
– Мама моя, родненькая! – произнесла вслух Вика. – Обалденно!
«Как из одного инкубатора», – недовольно подумала о себе Инга и прочитала то в глазах других. Но Алла явилась одна, без кавалера, и сразу стала бросать голодно-оценивающий взгляд на безукоризненно статного и миловидного ученого Володю, знакомого хозяйского сына, а он отвечал ей тем же. И Ингу это успокоило.
Когда же все уже рассаживались за столом в большой комнате, позвонил еще кто-то. По обыкновению Евгения Павловна заспешила к двери и, открыв ее, остановилась в некотором замешательстве:
– Леонид Парфеныч!.. Нина, поди сюда, – позвала она младшую сестру.
– Люди, я боролся с собой, решая, придти мне или нет, – виновато говорил вошедший мужчина, породистый, но уже подвыпивший, с изъязвленным, порченым лицом, бывший не то в выгоревшем армейском кителе, не то в обрезанной шинели. – Я, понимаю, человек светский, но немножко одичал. Давно утратил все свои мужнины привилегии.
Это был ставший запьянцовским после войны муж Нины Павловны, судьи, человек, способный, не взирая на то, что они расстались, докучать ей своим внезапным появлением. И она развела руками:
– Входи же, пока тебе не попало.
И все, знавшие историю их взаимоотношений, деликатно уступили ему дорогу и место за столом. И возникло некоторое напряжение из-за этого.
III
На тихом торжестве по случаю получения жилья, после дрожащих слов Евгении Павловны о том, что судьба благоволит нам, выстоявшим и живущим, и что, хотя потери велики, жизнь еще имеет смысл, и после других хороших тостов и уважительных слов, книжники – Лущин, Махалов и Луданов, усевшиеся скопом, повели свой интеллектуальный застольный разговор. Они были рады тому, что почти сошлись между собой во взглядах, а главное, что сейчас, выговариваясь так, выявляли в себе способность еще здраво мыслить, рассуждать о чем-то стоящем по их мнению. Ничто не смущало их.
– Други мои, между ожидаемым и действительным – бездна, – рассуждал Лущин. – Все следует порознь: песни поем лирические, а в жизни – насилие; благозвучна музыка, а наяву диссонанс – трагедия или фарс. Не так ли?
– Жуткая пьеса, – сказал Костя. – Но у нас есть магическая формула: надо!
– Да, истина понятна всем, что ясный день; – подхватил Никита, – только злопыхает кругом людское, чертовское, – сколько не кричи, не прошибешь уже испорченных властью или норовом или ограниченных людей.
– Как мы живем!
– Да, пассионариев уж нет.
– И какой исход по-Вашему: лапки кверху? – в упор спросила Инга. – Ведь еще древнегреческие философы жаловались на плохое воспитание молодежи. – И покосилась, как бы опоминаясь, на начальственного Игната Игнатьевича.
Среди приглашенных было – да – такое начальственное лицо (то ли начальство хозяина – сына, Михаила, то ли еще что неясное) со строгим лицом еще без складок, со строгой прической; а веки у него полуприкрывали сверху зрачки глаз, отчего вид его казался полусонным, неприятным. Про его крутость сведущие люди говаривали почти как о Сталине: «раз Лиходей нагрянул на строительный объект – полетят у кого-то головы». Однако Лиходеев сидел за столом достойно, точно в каком президиуме, и в словесных толках не участвовал; он покамест усердно трудился на животном фронте, будто насыщаясь впрок, потому как еще не все ходили перед ним в должниках. И вертлявая его жена, Вера Геннадьевна, в темноцветастеньком крестьянском платье, тоже полумолчаливо поддерживала трапезные мужнины усилия, не сбивала его с толку. Она-то давно убедилась в том, что голодный мужик страшнее зверя.
– Итак, нам известна боль, но каждый чувствует ее по-своему, – убежденно говорил Никита. – Мир людской страшно разделен. И эта разделенность – то неоспоримо – рождает зло насилия. Нынешняя жизнь целиком зависит от того, кто, что держит на уме и в руках своих, кто какую гайку, где вытачивает.
– Пахать – мал, бранить – велик, за водкой бегать – в самый раз, – посудил язвительно Звездин, уже находясь на взводе, и засмеялся пакостно, будто храбрейший пловец, заплывший уже далеко в море, тогда как остальные еще топтались на берегу.
– Леонид, прекрати! – осадила его тотчас Нина Павловна, хмуря брови.
Но стольничавшие обошли вниманием его каверзную фразу, как обходят какое-либо препятствие на тропке, чтобы идти дальше.
– Все ломается, и нужно все сознательно ломать, – имею я в виду понятия, – сказал с пафосом Лущин. – От привычного трудно отвыкать, но нужно и что-то новое избирать – для того, чтобы узнать себя еще лучше, еще лучше выразить свои взгляды, мысли, надежды. Особенно – в творчестве…
– Ну, это уж камешки в мой огород, – заметил Костя. – Прощаю тебя…
– «У нас свобода сновидений», – вклинился опять говорливый пропойца. – Так любил приговаривать мой командир, лейтенант, когда подчиненные ребята спрашивали у него: а можно ли сделать вот так, а не иначе, и тому подобные мелочи. А ведь они, орлы, в разведку хаживали… Извиняйте…
– По-моему, Вы, Николай Анатольевич, не туда поехали, – возроптала бдительная Инга. Она хотела бы спасти мужа от избранной им компании: сыгранность той не нравилась ей, была ей просто подозрительна. И несколько беспокоило ее теперь то, что он заглядывался на Аллу, сидящую наискоски от него и занятую, к спокойствию Инги, щебетаньем с соседом – симпатичным Володей.
– Считаешь, что самое совершенное не то, что сделано тобой, а то, что думаешь сделать, – говорил Костя. – Поэтому и такие претензии к себе, и такое недовольство собой, что все хочется переделать. Основательно.
– Да, надо торопиться делать добро, – определенно высказалась и Евгения Павловна. – Для чего ж сотворены все проповеди – христианские, мусульманские?.. Но живется-то все не легче.
– Ну, дайте, товарищи, мне минут сорок пять, – взмолился Николай.
– Ты, патрон, не на партсобрании с докладом, учти, – перебил его Костя.
– Дайте… Я на примере литературных героев Бальзака докажу, насколько справедливо мое предостережение – не зевать момент. – Николай воодушевился и процитировал уместно и Данте и назвал его предшественников и годы их жизни, причем морщил большой лоб, и пальцы его дрожали. – Я все знаю. Мне не нужно говорить, кто сзади меня идет; я по лицу встречного вижу, кто именно. Капиталист или социалист. И благо или позор он несет с собой.
– Так и можно проглядеть вакханалию, – заметила Евгения Павловна, – не обижайся, брат. – И остановила Звездина, пытавшегося опять включиться в спор. – Что, Васька – кот? Васька – кот. Ты чего закрутился? – шутливо-серьез-но обращалась она к нему. – Н-на, хлябни, морсу! Христос с тобой. Хлябни! Еще, матушка.
– Ему пора отчаливать – довольно назюзюкался, – сказала Нина Павловна сухо.
– А-а, присудила свое судейское решение! Сейчас подчинюсь… – Он отпил еще из стакана – и совсем нос повесил. Никто им не интересовался. Он был неинтересен всем, хотя он и еще надеялся на что-то, ерзал на стуле и злился. Особенно раздражал его нафуфыренный градостроитель (от всяких начальников-чинуш он натерпелся несказанно сколько – будь его воля, всех бы вывел на чистую воду!).
Между тем Володя и Алла увлеченно судачили о чем-то другом.
– И я покраснел. Он меня понял. И я его понял.
– Ну, Вам, конечно, сделают исключение. Вам такому да не сделать…
– В Москве я больше хорошеньких видел.
– В Киеве их еще больше, я уверена.
– Там условия позволяют и располагают к этому.
– Киев мне жутко понравился.
– Вот куда поедем или полетим летом. – Сказав это, Вика оттопырила ладошку с лепестками пальчиков. И покрутила ею в воздухе.
– Я прочел книгу Аксиоти о Греции двадцатого века, – сказал Никита. – Вывод: на качелях вечных – норма жизни у людей; что ими создается, то и разрушается бессмысленно, с треском. И к тому же это обставляется законами. А народ практический обделен. Как бы не хороши были законы.
– Но в тридцать шестом король Греции Метаксас разогнал парламент, стал диктатором; он назвал это возвышенно – «третьим возрождением», – уточнил Николай. – И тогда же в Испании Франко, тоже генерал, замятежничал.
– Имущие не хотят терять власть, – сказал Костя. – Редко кто отказывается от нее.
– Маэстро, у нас, в России, Николай Второй отказался. И что получилось?
– Что, юноша? Нашлись другие деятели. Образованные и не очень.
Засмеялись.
– Костя, прошу, кончай антимонию, а! – взывала Инга. – От греха подальше.
Его вольнословие и поведение пугали ее могущим быть последствием. Так их друг, Генка Ивашев подзалетел на год в тюрьму. Раз они, приятели, шумно веселились в столовке, превращенной в питейное заведение, и какой-то хмурый полковник начал стыдить их, молодежь. Да еще поставил по стойке «смирно!» Генку – его-то, безрукого, потерявшего руку в бою, кавалера двух орденов славы! Наорал на него! Естественно, пальцы здоровой правой руки Кости сами собой сжались в увесистый кулак, и он двинул им по обидчику… Вот недавно Генка был освобожден.
Костя же пока не мог остановиться – распространялся дальше:
– «Наибольшие опасности возникают при исполнении стандартных положений» – аксиома. Так? Теория всегда стройнее практики. И бойтесь копий. Копия – не оригинал. Ценен подлинник. Тот или те, кто копирует модели жития и дела по принципу повтора, теряют самобытность, вхолостую, считай, буксуют на месте.
– Ну, ты молоток: даже популярно объясняешь, – похвалил Николай.
– Я так понимаю, – не отставал и Никита, – что свобода в обществе – не прихоть чья-то; она не должна привносить в жизнь хаос и неуправляемость, стать словесной демократией.
– Да, вы заметьте, обычная вещь, что нормальный человек в душе костит себя направо и налево, если в чем-то надурил.
– Как водится у нас. Скорее дурь уходит…
– Но никакое правительство не признает себя виноватым в данное время, а говорит об ошибках прошлых лет.
– Костя, кончай, или я уйду!
– Сейчас, сейчас. Что касается культа личности. Ведь как для возвеличивания Сталина в свое время все делалось и оправдывалось официально, так ныне с таким же рвением уничтожается миф о нем. Мифом о Сталине погоняли народ.
– Подождите, и я скажу, – заторопилась Нина Павловна. – Почти анекдот…В суде нашем разбиралось одно простенькое дело. Нужный договор подписал тот человек, кто юридически не имел права его подписывать. Начались, как обычно, отнекивания, ссылки на кого-то еще, высказывались недоумения. Прокурор слушал, слушал препиравшихся, да и сказал всердцах: – «Ну, что конь об четырех ногах может спотыкаться – это известно мне; но чтоб спотыкалась вся конюшня – этого не бывало».
– Как можете Вы, Нина Павловна! Фу! Не люблю Вас…
– А что, Иннушка…У некоторых молодых бывает такая романтика (по собственной дочери сужу): не люблю, и все; не хочу, да и только. А знаете, было, что Звездин, писал мне письма с фронта с такой припиской-концовкой: – «Смерть фашистам и соседу Василю!» Василий некогда ухаживал за мной, да Звездин перебил… Тот погиб, а этот, Звездин, звездит иногда по пьяни…Бултыхается неисправимо…Не помочь ему…
Произошла какая-то затишка в разговоре.
Зато под звон бокалов, вилок и тарелок светлоликая Вика встрепенулась и лукаво прищурила близорукие глаза:
– А кто-нибудь из вас пойдет опять добровольцем?
– Куда? И зачем? – Николай был удивлен ее вопросом.
– Конечно же, в Египет…Поскольку, сами знаете, Суэц национализирован, и страны Запада напали на Египет, и все заговорили о добровольцах, как дробровольничали когда-то в Испании – я слышала о знакомой методистке… Да и был там тоже Хэмингуей – любимый мой писатель…
– Ну, ему на поклонниц повезло, – проговорил Николай. – Испанские коммунисты уже пересмотрели свою позицию по отношению к диктатуре Франко и, предполагается, вскоре испанские беженцы вернутся домой… Близкий мне приятель собирает материал и пишет о тех событиях…
– Так кто же пойдет добровольно?.. – Не отстала Вика. – А Вы, Константин?
– Нет, увольте – я не пожарник, – сказал Костя. – Меня не меньше тревожит кавардак в Венгрии: я освобождал ее от гитлеровцев и хортистов. Мы – наше поколение – спо-койны совестью; мы – павшие и живые – исполнили по совести первейший наш долг – защитили свое отечество, свой дом; пускай и все правдолюбцы также, не маясь, не злобствуя корысти ради, послужат народу своему, а не какой-то идеи фикс. Тогда мы и поговорим.
На него-то, говорившего, блеснул взглядом сосед Лихо-деева (по столу) – уравновешенный мужчина-молчальник, но не сказал покамест ничего.
– А я, пожалуй, стал бы добровольцем, – признался Лущин, отчего Евгения Павловна аж охнула – от неожиданности его признания.
– Не пугайтесь: юноша блефует, – успокоил всех Махалов. – Он не сможет.
– Отчего же не смогу, маэстро? Ты не говори. Ведь я – бывший танкист!
– Тебя, Коля, авторы прежде сожрут. Есть у тебя пристанище – очаг, жена и двое детей. Или ты действительно избрал путь моралиста-обновленца?..
На это Лущин только улыбался широко, доверчиво, любя всех-всех.








