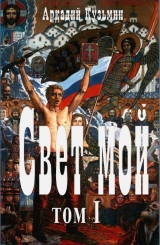
Текст книги "Свет мой Том I (СИ)"
Автор книги: Аркадий Кузьмин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 40 страниц)
XXVI
И вот тут-то еще загрохали истуканы в закрытую избную дверь. Повелительно. Наташа, подойдя к ней, спросила:
– Кто?
Требовательно прозвучало:
– Открой!
И она откинула крючок. Дверь распахнулась.
– Wo Dieb? Бандит! – Бесцеремонно вломился в избу в сопровождении Лидки, заразы – распаленный долговязый гитлеровец, остранил Наташу с пути, шагнул вперед.
– Где он?
– Кто он? – опешила Наташа.
– Сама знаешь – вор, – застрекотала Лидка, – воровал сейчас немецкий хлеб… Сюда обежал…
– Что вы! Не может быть! У нас все больные лежа… Ошиблись вы… Уходите!..
– Но я ведь своими же глазами видела, вот крест тебе, Наташа, забожилась стерва.
– В коридор ваш кто-то шмыгнул. Больше некуда…
– Что ты несешь напраслину, Лида, господь с тобой! Одумайся!
– Какая же напраслина, коли виела отчетливо…
– Ты видела – тогда показывай! – приказал тойгитлеровец.
– Ну, кто?
Кошкой пошла Лидка в перед кухни – нацелилась к кровати, на которой только что заснул уже тоже заболевавший тифом Валерий, и указала на него:
– Да вот он.
Спящему Валерию грезились уже сладкие яблоки и конфеты, когда подскочивший длинный фашист одной рукой дернул его за грудь (рубашка затрещала) и стащил его, ничего не понимавшего еще, на пол, в одном белье, а другой уже хватился за пистолет – отстегивал кобуру. Наташа, плача, закричала на всю улицу, чтобы помогли, и, растолкнув створки окна, стала биться с немцем – не давала тому в лапы брата, невинного ни в чем, оговоренного вертихвосткой. И тут все взбудораженные тифозники, лежащие в двух комнатах и не могшие самостоятельно передвигаться, тотчас услыхав и увидав, что делалось на кухне, все разом поползли туда на четвереньках и тоже закричали:
– Тиф! Мальчик больной! Не трожь его! Да что же ты, фашист, далаешь?
И старались тоже сцепиться с немцем и сдержать его.
Скорый экзекутор наконец все уразумел – он вторгся куда-то не туда: мог, действительно, и заразиться так. Не за здоровую живешь. Тифа они, фашисты, боялись хуже, чем огня. Уже в сомнении, отшатнувшись, бросил он Валерия на полу. И сейчас же здесь, на счастье появился офицер, приведенный Полей, которая услыхала отчаянный крик, – офицер был трезвомыслящий, понятливый.
– У нас лазарет, тифозные все, а он вломился с пистолетом, – пожаловалась со слезами ему Наташа по-немецки, рыдая, – гулящая девка наговорила бог знает что на брата больного, лежачего.
И офицер сердито спровадил отсюда налетчика.
Анна выбилась из сил и ползла к Валерию, спасенному случайностью; тянулась к нему, плача, приговаривая:
– Ну, сыночек, мой сыночек! Ну, родной! Все будет хорошо.
Ни минуты более не медля, пока еще не стемнело совсем, тетя Поля отвела Валерия, чтобы укрыть на всякий случай, на другой конец деревни, к тете Даше. И ладно, что так решили и сделали. Потому как налетчик не успокоился – наутро же вновь нагло приперся: потребовал Валерия.
– Анна всплакнула притворно:
– Вчера, как вы взяли сына, я его больше и не видела… Куда вы его увезли? О, горе мне!
Обескураженный фашист удалился восвояси.
И потом, когда Валерий, уже поправляясь (он дознался, как было дело, и думал о каком-нибудь отмщении оговорившей его Лидке), собирал где-нибудь кислицу и, слабый еще, нагибаясь, падал в траву и вставал опять с трудом, и карабкался на четвереньках на малейшие пригорки, на которые не могу еще взойти на ногах, – тогда ладил себе:
– Отомстить! Отомстить! – и руки у него сами собой сжимались в кулаки.
XXVII
Анна провалялась в болезни дольше всех: не две, не три недели – целых полтора месяца. Последствием было то, что ноги у нее буквально отнялись; она, выздоравливая, сначала училась ходить. Насилу-насилу выкарабкалась, встала на ноги.
Был май. Весна теплая, согревавшая всех своим возрождением. За окнами березы уж светлозелено обвесились, заиграли вырезными нежными зелеными листочками. И Танечка совсем поправилась: защебетала, побойчела. Как глазастенько она (глаза-то одни и остались на лице) выкараулит в полдень верный час, так тоненькой ручонкою схватнет сплощенный алюминиевый немецкий котелок и с ним подкатится к колесной, с дымящимся котлом, немецкой кухне, осевшей уже в тенечке тетиполиной избы, на кудрявившейся зеленью лужайке; на жалость, снисхождение к себе она рассчитывала… Не ошиблась на сей раз… И упитанный деловито-хозяйственный немец-повар, приметивший уже ее, не гонявший и как будто даже ждущий ее именно сейчас, первой нальет в котелок ей вкусно пахнущего горохового супа, отдаст и покажет ей на завалинку – дескать, посиди, поешь, здесь сама. Щечки надуй. А она, дите, заглянет в котелок, покажет ему на котелок и поварешку – дескать, подлей еще, она и маме своей отнесет, они дома поедят. Так помаленьку все вычухались сообща. Опять, глядишь, заползали себе.
При поправке не слушались – не ходили – ноги и у тети Поли; ее под руки водили, и она удивлялась:
– «Ой, что ж такое: ноги не идут!»
И с другими пациентами тоже повозились. Пришлось не без этого.
Всем лежавшим в доме Кашиных тифозным больным очень повезло в поправке с весной – поэтому-то они и вычухались мало-помалу; ведь не все, заболевшие тифом позже, осенью, поправлялись – иные отправлялись на деревенское кладбище. Вернее, хоронили-то умерших уже где попало. Зарывали их сельчане по-двое, по-трое; никто и не знал, кто в какую могилу попадет. Было не до этого.
Да, был теплый май. Природа нежно оживала, преображалась. И в воображении Антону рисовались размытые, как акварельные, нежные пространства, так просящиеся перенестись на чистую бумагу; знать, со значением и снились ему в тифозном бреду запрятанные под подушкой набор акварелек вместе с кулечком конфеток – будто особый подарок от тети Поли, с которой он давным-давно, сдружившись особенно, путешествовал по заветным окрестностям. Вышло: ему вновь после большого перерыва захотелось порисовать, и его магически тянуло после болезни к краскам и бумаге, кроме того, что возобновил и вел дневниковые записи. Это же еще мать так присказывала:
– «Вот чтобы записать все, как и что с нами происходит, – в это-то и мало кто, наверное, поверит…»
Да, сейчас его детская душа будто нуждалась в особом лечебном лекарстве. И он в одиночку неразумно (кругом были немцы) пошлепал в город, надеясь найти так нужные краски и полагаясь на установившееся спокойствие на фронте.
Анна, конечно, беспокоясь за сына, пыталась его отговорить от такой опасной затеи, но не смогла-таки отговорить от похода.
Известно же, что идея неотвязчива в человеческом сознании; она преследует, ведет в действительность своей видимой осуществимостью. Не сегодня, так завтра.
Антон безрезультатно дошел по городу до самой Волги – вдоль неузнаваемой главной Ржевской улицы, разбомбленной, выгоревшей, вымершей (чаще попадалась чужая солдатня). И тут с ходу влип в витрину, очумелый: не поверил глазам своим; на ней, закрепленной у входа в канцелярский магазинчик, будто то, что ему не напрасно грезилось: нарисована и акварель советская… На прилавке лежали также блокноты, ручки, карандаши… Ну, мираж в пустыне!..
Антон по ступенькам дощатым вступил в магазин. В нем посетитель дородный, как и продавец, вполголоса разговаривал с ним. Но Антон их разговор слышал.
– Вон говорят, что у русских «Катюши» появились.
– Да, слыхал. Такая штучка, что сметает все. Спасу нет.
– Их уже применяли, говорят, под Старицей и где-то еще…
– То-то и оно, что надежи на нее мало будет.
– Что ж, надо на ус наматывать… Чуешь, чем пахнет?
Продавец или владелец – тот, стоявший за прилавком, – спросил:
– Ну что тебе, малец?
– Вы продаете? – Антон еще не верил в блеснувшую для него удачу, видя перед собой бесценное богатство.
– Изволь… Что хочешь купить? Говори.
– Мне нужно это… акварель, альбом, тетрадки, карандаши… Только ведь у меня есть рубли… Как?..
– Что ж, годятся и рубли…
– А сколько стоит?
И стоимость товара оказалась конечно низкой – прежней. Чудеса! Что-то странно-непонятное было в этом. Ясно, что распродавалось так оставшееся советское магазинное имущество, которое теперь присвоили иные граждане-ловкачи, воспользовавшиеся подходящей для себя ситуацией. А более всего Антон по-мальчишески не смиренно недоумевал: почему же вот эти двое вполне упитанных мужчин призывного возраста спокойно стояли здесь, у прилавка, в тылу у немцев и запросто толковали между собой, без зазрения совести, как совершенно сторонние к судьбе своей страны наблюдатели? Они тоже увильнули из рядов защитников отечества? Покривили душой?
Этот эпизод в числе других подобных долго не давал ему покоя, корежил его память невозможностью то объяснить.
Вообще необъяснимость вещей есть следствие недоразвитости человечества. Гена преемственности нет или он потерян в ходе эволюции. И драки большой. За место под солнцем.
XXVIII
В этот августовский день 1942-го, как посланный советскими артиллеристами из-за Волги снаряд, истошно просвистав, шлепнулся и брызнул осколками где-то за остатками крайних изб деревенских, тем, где немцы ставили орудия, строили блиндажи и рассредоточивали автомашины, – тотчас Поля возликовала:
– Ого! Наши уже пушками сюда достают, молотят горяченько; значит еще ближе вышли к нам. То-то радость! – Она точно помешалась. Сорвавшись с места, возбужденно стала бегать по закоулкам, чтобы лучше рассмотреть, на глазок определить, откуда бьют, по мере того, как все еще прилетали с востока снаряды, взрывавшие землю. – нет, это наверняка в ней, на колоколенке, сидит кто-нибудь и наводит на цель, если лупят по немецким машинам и даже повозкам, – решила она, счастливая оттого, что, наконец, пришли эти долгожданные дни, предвещавшие всем, кто попал в оккупацию, скорое освобождение.
Закружилось во встречном бою в знойном небе самолеты.
Снова звучней загрохотало также и северо-западней Ржева, и также советская авиация начала бомбить ежедневно, еженочно, повсеместно, почти без передышки; хотя с вечера, засветло еще, немцы рассеивались, расползались (на автомашинах, на мотоциклах и на повозках) в поля, в овраги и в лесок, чтобы понадежнее укрыться от бомбежки там, но доставало их уже везде.
Кашины и Дуня уже приобревшие богатый бегательный опыт от прошлых немецких бомбежек, всю первую бомбежную ночь пересидели вдесятером в избе, поджавшись к печке, точно загораживаясь ею. Назавтра же вырыли для себя второй окоп в саду, поближе к дому, – узкую и крытую траншею в форме буквы «I» с одним лазом. Первый окоп, прошлогодний, выходом к пруду примыкал; он оплыл весной – уже не годился. Да и бегать многажды туда с узелочками было несколько далековато. И в зарядившие отныне ночные бомбления сидельцы, страхуясь, отсиживались напролет в новеньком окопе, сотрясавшимся в рвущихся раскатах.
Уши раздирал шелест наших бомб (в отличие от воющих и свистящих при падении немецких бомб), и невероятно близкие их разрывы каждой следующей – превосходили мощностью все; уже столько раз казалось, что вот еще, еще одна, тринадцатая, может, она-то уже накроет всех в окопчике. Не сдобровать. Опорожнялись же бомбардировщики поочередно: один метал бомбы, второй только, слышно, еще к цели подлетал, третий за ним следовал – такая карусель беспрерывно крутилась в небе.
В окопной, специально вытянутой для этого нише чадил, тускловато светя, мотавшийся всякий раз огонек стеариновой плошки; Анна с пожелтело-измученным лицом склонилась над зачитанным романом Гюго, воспевшим людские страсти и страдания во времена Великой французской революции; роняя оттого слезы, она читала урывками – в выдававшиеся более спокойные промежутки между близкими взрывами (прежде-то ей читать совсем было некогда).
Порой, отрываясь от романа, она и рассказывала (тоже испытывая внутренний подъем от наступления наших) какие-нибудь еще вспоминающиеся ей и неизвестные ребятам случаи из своей ли жизни, из жизни ли их отца или еще кого-нибудь – все особенное, удивительное.
От взрывной, вновь прокатившейся волны, плошка неожиданно загасла.
Вновь зажгли ее.
Однако, Антону и Саше было невтерпеж торчать всю ночь в подземелье – вроде бы негоже прятаться от своих же самолетов; причем, главное, боялись они так прозевать яркие моменты ночной бомбардировки, за которой теперь где-то наблюдали Валера и Наташа: и им также хотелось бы понаблюдать за тем, как великолепно расколошмачивалась хваленая немецкая военная техника.
Именно брат и сестра уговорили Антона в ту ночь посидеть в окопе вместе с остальными домашними, чтобы вечно пугающаяся мама и тетя Дуня меньше беспокоились в их отсутствии.
Опять, опять раздирающе зашелестели сверху, низвергаясь, бомбы. Они взрывались где-то вблизи с такой мощью, что в окопе осыпалась земля, встряхнутая неимоверно… Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! – Ого! – Девять!.. Их не сосчитать. И опять испуганно, вслух причитая, крестились вовсе не набожные мама и тетя. Антону страшно хотелось таки взглянуть, куда бомбы навернулись.
И вот Антон полез наружу по ступенькам – решительно и твердо:
– Мам, я все-таки сбегаю… взгляну, что там… – И головой – под мамины и тетины причитания и уговоры – приподнял тяжелую дощатую крышку, прикрывавшую лаз в убежище, и выполз из него. Под иссиня-белые феерические вспышки света.
Различимо гудели, кружа, отдельные самолеты. Слыша явные, действительные людские стоны, пригибаясь, Антон понесся к крыльцу дома, где, вероятно, могли находится старшие брат и сестра. Взлетев в темный коридор, обнаружил присутствие прячущихся в нем людей. И проговорил, дух переведя, наугад, с облегчением:
– Ага, это вы тут?
– Мы, а что случилось? – спросил встревоженно Валера.
– У нас в окопе – ничего. Ужасно надоело там торчать. А тут что?
– Видишь, жимануло – избу нашу пощипало, аптечку фрица раскидало. Выкинуло в окна. Когда ахнуло, мы подумали, что нам каюк и что на этот раз угодило прямо в дом наш; затрещало все, посыпалось, осколки застучали градом, или кирпичи, а оказывается – это в кузницу шарахнуло, ее накрыло. И поранило там немцев: вскоре они застонали. Фриц всюду только и бегает, раненым солдатам перевязки делает.
Под окнами, на завалинке, на вытоптанной земляной площадке, на которой обыкновенно играли прежде «в цари» дети, и плясали, и танцевали в праздники взрослые или молотили рожь и перебирали выкопанный картофель, перед тем, как засыпать его в подпол, – везде валялись, блестя и белея, какие-то медикаменты в обертках, склянки, бутылочки, вата, марля, выбитые стекла; свисали вырванные оконные рамы, оторванные доски карниза.
– Нам повезло, – заговорил Саша веселее. – Мы только что успели в коридор заскочить, как жахнуло и все полетело вверх тормашками. Нас немного стукнуло, оглушило. Потом услышали, что закричали где-то немцы.
– Что же, угодило в их окоп?
– Одна бомбочка ляпнула рядом с блиндажом. Мы сбегали туда поглазеть. Большую воронку она вырыла! А другая кузницу накрыла. И те три грузовика немецких, какие по первости останавливались у нас под березами…
И тут Саша прибежал к избе из окопа…
XXIX
– Goddam! Nimmst das qar Kein Ende? – Проклятие! Будет ли этому когда-нибудь конец? – сам с собой воскликнул спустя некоторое время протопавший мимо Наташи и Валеры, затаившихся в коридоре, длиннотелый согбенный немец с пулеметом на плечах, тяжело дышавший.
– Saqte, bitte! – Скажи, пожалуйста! – сыронизировал ему вдогонку нерослый ефрейтор Фриц, санитар, только что поднявший под ногами какие-то свои стекляшки. – Du kennst ihm noch nicht. – Ты еще его не знаешь.
И ребята тихо засмеялись от его интонации: фриц предостерегающе поднял палец.
– Hast du den Frits gesehen? – Ты видел Фрица? – Вблизи выросла фигура еще немца.
– Ja. – Да, – отвечал Фриц насмешливо и больше высунулся на свет из коридора. – Es freut, sie zu sehen. – Я рад вас видеть.
Фигура мгновение медлила, точно онемела, либо была озадачена этим, а больше, возможно, тем, что и как лучше сказать. Со свирепостью глянула на посторонних русских и приказала:
– Gehen wir! – Пойдем!
– Wohin? – Куда?
Фигура, наклоняясь к Фрицу, отрывисто зашептала ему что-то на ухо. И тот только что-то отвечал.
– Nicht doch! – Да нет же! – рявкнула фигура и – тише, только слышались обрывки фраз: – Es hatte einqeschlaqen… Unsere Reqierung… Der Patriotismus… – Бомба попала… Наше правительство… Патриотизм… – Солдат еще продолжал.
– When nich zu rabenist, de mist nicht zu helfen. – Кто не слушает советов, тому не поможешь, – громче проговорил Фриц и двинулся вперед. Кем-то очевидно, присланный солдат было отшатнулся удивленно:
– Sehr wohl! – Очень хорошо! – И потопал за ним.
– Вишь, как привязался, – заметил Валерий. – Приставучий! Разгоняет нас. He первый это раз. Надо быть настороже, ушки на макушке, чтоб не подвести его. Ну, беги к нашим, расскажи…
Уже настолько рассвело – зарозовело небо, что проявились в его вышине серебристо-розовые самолеты. Они реяли в лучах восходящего солнца.
Сноп дыма и пламени вдруг взметнулся над Ржевом; очередной сильнейший взрыв, как будто нехотя, с опозданием потряс воздух так, что здесь в деревне, посыпались, скатываясь с крыш, кирпичи печных труб.
И вскоре как-то разом розоватые бомбардировщики ушли спокойно – навстречу заре. Словно они в ней растаяли. Новые еще не прилетели.
А тем временем из полей, нескошенных, неубранных, запущенных, изрытых, въехала в деревню шагом узкая немецкая повозка. С трупами солдат, накрытых брезентом, – очертания их проступали видно и высовывались даже ноги в кованных сапогах… А потом еще одна… Ездовые вели бесхвостых и упитанных битюков грустно-машинально. Кто из них знал, кого кто похоронит раньше? Что вело их, захватчиков, сюда? Чтобы здесь, под чужими звездами, обрести покой вот таким путем – почти самоубийством?
Кто же в этом виноват? Нужно было им господство мировое? О потомках ли они пеклись, надеясь захватить земли побольше, расстрелять всех, уничтожить все? Как видно, очень же хрупка и недолговечна собственная человеческая жизнь. Она очень уязвима.
– Hende hoch! – Руки вверх! – осадил мальчишек, когда они вчетвером подошли к развороченной кузнице и дивились при свете дня на исковерканные, уже отъездившие свое, грузовики немецкие и на разбросанный растерзанный хлеб, и на солдатские веши, – осадил совершенно обезумленный вояка с комической, хоть и страдальческой физиономией немытой. Вскричал будто матрос с колумбова корабля. Будто его грабят.
Ишь чего он захотел: подыми ему руки вверх! Так и стой смирненько. Сейчас… Как же!
Был он безоружен сам, этот точно помешавшийся солдат. И лаялся – пропали у него часы золотые. Из его-то шоферской кабины. Подступив к мальчишкам с блажью, он пытался зашарить по карманам; но они не поднимали руки вверх, отбивали его руки от себя – шарить по своим карманам не давали. И ему втолковывали вразумительно, доходчиво, без злорадства, что все теперь накрылось у него, не одни часы.
Но не понимал сумасшедший этого ни за что – блажил: золотые часики ему подай. Смех и только. И ребята то смеялись, то серьезно глядели на него.
Оккупанты пол-России разграбили с блаженством. А тут несчастные часы, тоже снятые, наверное, с чьей-нибудь руки, искал солдат. Очень убивался по ним. Кому – что…
XXX
Всякий раз, как кончалось что-либо – бомбежки либо артналет, Антон думал: «Нет, впредь-то буду умней и вести себя соответственно: не пугаться и не суетиться; ведь это очень просто – выдержать и виду никому не подать, что ты чего-то испугался. И побольше надо всего увидать и запомнить. Ведь вот еще одну ночь пересидел, – и хоть бы что». Но едва налеты производились снова и снова, он начисто забывал о своих лучших намерениях, и все с ним почти точь-в-точь повторялось вновь, быть может, только с небольшими отклонениями.
Антон и Саша только что присели у колдобины на полувысохшей речке, чтобы вымыть ведро свеженарытой картошки, когда внезапно просвистал и первый, и второй, и третий снаряды – и все, как нарочно, шлепнулись сюда, в овраг, метрах в ста пятидесяти-двух-стах от них, мальчишек, ближе к стоянке нескольких немецких автомашин (одна с рацией), где и был отрыт окоп. Начался, стало быть, артиллерийский налет – это ясно; снаряды, взметывая черные султаны земли, уже ложились повсюду – дальше, ближе, чаще. Но укрыться от них было негде. На поднимавшейся к деревенским задворкам лощине были открыты у немцев лишь индивидуальные окопчики, и немецкая пехота, одетая по-походному, сидела в них по плечи. Только что прошел дождик, и окопчики были накрыты индивидуальными пятнистыми зелено-коричневыми плащ-палатками.
Снаряды зацепили и этот край деревни. Taк что Антон и Саша, подхватив ведро с картошкой, пустились поскорей – короткими перебежками – к себе домой. В момент, когда они слышали вдали «пук» – орудийный выстрел, тогда и бежали вперед несколько шагов, и падали на землю – припадали к ней, тогда, когда, по их расчетам, уже должен был где-нибудь упасть снаряд.
Ребят, уже научившихся все распознавать при обстрелах, почти не пугали снаряды с пролетом, те, которые летели сюда со свистом – они уходили несколько в сторону (и, значит, можно было не ложиться наземь при их падении); а пугали именно те, которые падали почти бесшумно спустя какие-то секунды после явственно слышимых выстрелов, только шелестели упруго, – такие снаряды летели прямо на тебя. И, как правило, чем меньше слышалось это неприятное шелестенье, тем ближе потом взметывался самый взрыв.
Один немецкий пехотинец, и сидя по плечи в окопчике, был убит снарядным осколком, когда он, положив на бруствер окопчика саперную лопатку лопастью, писал на ней письмо; так он, убитый в двух шагах от ребят, пробегавших мимо, и уронил голову на свое последнее недописанное домой письмо.
Снова с особой отчетливостью пукнуло где-то северней – от той колоколенки белой, маявившей в синеве на горизонте; а затем, после паузы, коротко прошелестело – будто бы снаряд сорвался с лёта откуда-то из-за облаков и охрип – и ударил оглушительный взрыв. Будто бы на месте их родной избы. Рваный смерч дыма взметнулся перед ними, все застлал на мгновение; от близости разрыва в ушах y них зазвенело. И они, уже не падая больше наземь, со всех ног пустились туда.
Почти следом за ними в избу Кашиных примчалась и испуганно-возбудораженная тетя Поля. Дух не переводя, справилась:
– Все живы, здоровы? Не задело? Ну, счастье, вижу: все целые – Она была в красной косынке – специально носила ее теперь после того, как услышала от кого-то о том, что советские летчики якобы просили гражданских лиц одеваться поярче, чтобы отличить их от маскирующихся в серо-зеленых мундирах немцев. – Это, наверно, к соседке – Матрениной – фугануло… Я сбегаю туда. Не нужно ль пособить кому?.. – И вновь умчалась.
На том артиллерийский налет закончился, и поразили донесшиеся стоны раненых. Что такое? Почему?.. Ах, да: затишье наступило. Как жутко-весело ребятам было бежать под вой снарядов! И так опустошенно стало после…
Снаряд, верно, жахнул в соседнюю избу, стоявшую только через узенький проулочек, и разнес перед, коридор и часть крыши. Шестнадцатилетнюю Тамару Матренину ударило кирпичом, упавшим с печной трубы; а в ватнике, надетом Димой, сверстником Антона, который тоже прижался к печи, застряло множество мелких осколков, кроме того, что их двоих порядочно оглушило.








