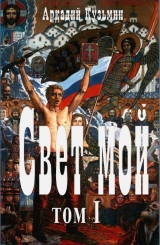
Текст книги "Свет мой Том I (СИ)"
Автор книги: Аркадий Кузьмин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц)
XIII
Картина же в квартире, где снимал Антон жилье, когда он вошел сюда, была самой привычно-обыкновенной.
Хозяйка большой комнаты, Анисья Павловна, неся грязные тарелки на кухню (она кормила любимого брата), взглянула на Антона вскользь и, кажется, недовольно:
– Что-й-то Вы сегодня такой веселый?
Он сказал, что заезжал к Оленьке.
– Ах, вот отчего веселый!
Он нахмурился – и оттого, что она позволила себе словно бы подразнивать его, замечая все, и оттого, что отчасти она была права, а больше оттого, что она-то была равнодушна к этому, но говорила так.
– Ну, ладно, не сердитесь. Я нарочно. – Она смилостивилась.
А по квартирному коридору шастал сосед-красноде-ревщик Виктор. Неизвестно, точно ли он краснодеревщиком был, и каким, но домашние углы мерил шагами действительно. Всякий раз почти. Растрепанный, под хмельком или просто блажной (это невозможно различить), в майке и с голыми пятками, он неприкаянно маялся по обыкновению, слоняясь по длинному коридору с давно крашеным скрипучим полом и слышно врезаясь в тот или иной угол стен, точно перепихиваемый туда-сюда какой неведомой силой, и охая-вздыхая с ропотом обиженного. Тем более что за столькими поворотами располагался туалет – и не сразу попадешь туда. Будто он, Виктор, каждый раз, как приходил домой с работы, так сразу и готовился залезть в постель да позабывал об этом частенько почему-то.
Сегодня же, после форменного хлопанья головой об стенки коридорные, Виктор, видно, совсем уж обезумел: на обратном пути из туалета он пролетел мимо своей комнаты и, раздетый, очумелый, выкатив глаза, вылетел из квартиры – на лестничную площадку и с грохотом запоров защелкнул за собой входную дверь. Куда оглашенный побежал? Анисья Павловна предположила: должно быть, к прежней любовнице, белобрысой, носатой, той, к которой бегал еще несколько лет назад: живет-то она выше этажом. Но ведь и там такой же коридор в точности. Дом без ремонта полвека стоит. Зачем побежал туда мужик?
Между тем на обшарпанной коммунальной кухне Надя, жена Виктора, покрасив в луковой шелухе куриные яички, сунула голову в этот же охристый отвар – заодно хотела подкрасить и волосы.
– Ты, что, красивой хочешь быть? – По-мужицки грубоватая семидесятилетняя Мария Степановна дружила с ней.
– Ну да, больно мне надо! – Надя хихикала. – Просто так…
– Будешь! Будешь красивой! И мы будем петь: «Красотки, красотки кабарэ…»
– Пусть другие красивыми себя считают…
– А может быть, ты деньги копишь на машину – собираешься купить?
– Ой, у меня и гаража, как говорится, нет…
– У нашего знакомого – машина. Приглашает в лес. С сыном, с внучками. Летом ездили мы за грибами. Так сидишь себе и не болит ничего; зато в машине что-то ужасно трещит, шумит, сбивается… И то: едем – и вдруг он останавливает свой лимузин, ошалело выскакивает вон и начинает ее ощупывать; ему показалось, что внутри ее как-то не так застучало… Это же инфаркт можно схватить.
– Еще какой! Из-за железок-то…
– Котлетки-то с лучком жаришь?
– Не знаю, с чем. Сама же не делаю их – покупные они. Свои-то, конечно, лучше бы были. И с лучком определенно…
– Икорку бы красную купила – есть в продаже.
– Воруют сволочи! Разве что купишь и сделаешь дешево и хорошо? Ишь котлетки – с гулькин нос… Поэтому и не пошла в парикмахерскую…
Привычная ко всему и проворная хромоножка Анисья Павловна резюмировала на этот счет, говоря Антону:
– Я уже давно убедилась в том, что хорошие писатели ничего не придумывают сами, а берут случаи из жизни. Стенки же в квартирах – что сито: легко пропускают слышимость, звук. Хвала конструкторам. Вот происходящее справа от нас Гоголь чудно описал: здесь витает дух Ноздрева – кудлатый Виктор бесконечно задирается с женой, Надей, а та вечно блуждает в папильотках-завиточках на башке, и нервно плачет их маленькая дочка Света. И я никак не могу защитить ее от отца, хоть и вмешивалась не единожды. Ну, а то, что совершается слева, – Мопассан талантливо описал. Тоже бесятся балбесные супруги. Да хотя бы теща, командор, поскорей возвращалась с внуком из дальних гостей, – может, тогда бы унялись. Уж хотя бы кровать свою от моей стены отодвинули приличия ради. Сегодня всю-то ноченьку я не сомкнула глаз, ворочалась; так скрипели они пружинами, любвиобильничая, голодные… Мужик из заключения вернулся. Теперь он – хороший, желанный…
Анисья Павловна родом была из коренной крестьянской семьи, привыкла с детства к самому тяжелому труду. Она самостоятельно прибилась к Ленинграду и, проучившись на технолога, работала ткачихой на известной ткацкой фабрике. Она не раз избиралась комсоргом цеха, возглавляла таких же молодых, отчаянных ребят-комсомольцев, как и сама. И, бывало, они, комсомольцы, по целым неделям не выходили за ворота фабрики: и ночевали прямо в подсобках, лишь бы успеть выполнить и перевыполнить взятые на себя обязательства. Такими порывистыми они были комсомольцами.
Во время послеблокадной эвакуации, в сорок четвертом, Анисья Павловна чуть ли не окачурилась, говорила она, оказавшись у дяди, в сибирской деревне, – с голодухи съела целый батон… Не уследили за ней… Дядя жил со страсть ревнивой женой и любимой охотничьей собакой.
И теперь она, одинокая, опекавшая лишь брата (у нее кроме него уже не было никого из родных), неподдельно сокрушалась:
– Я смертельно ненавидела его золовку еще тогда. Вволю нагляделась на ее штучки-завихрения. Нынче дядя написал, что у него (в немолодые-то годы!) из-за нее разрушилась семья. Когда уже сыновья женились, внуки есть, растут. И вот он написал что если бы не ушел от жены теперь, то, наверное, мог бы совершить преступление. Уж лучше на свободе, на воле жить, чем в тюрьме сидеть. Он-то – страстный охотник. За охоту, за охотничью собаку все решительно отдаст. А жена дурной, беспричинной ревностью измучила вконец его. Хуторские знали ее эту слабость и шутили иногда над ней; так, бывало, кто-нибудь скажет ей в шутку, например, что муженек ее с какой-то кралей в сарае, – она тотчас же хватает его ружье и на бегу стреляет. А тут, весной, она просто бабахнула из ружья в воздух. Покуражиться, видно, решила. Глядь, и бежит к ней его лучшая собака. Охотничья собака всегда на выстрел хозяина бежит. И злодейка со злости великой и шаркнула из ружья в собаку: убила ее наповал. Этого дядя не мог вынести, хоть и очень терпелив был.
– У меня после блокады ключицы дугами торчали – хуже, чем у балерины, – сказала Анисья Павловна верно, чем вызвала на миг у Антона то воспоминание о балете, увиденном им в Маринке, и соответственно – о встрече с Оленькой, и он даже вздохнул. – Я страшно похудела тогда. И голова с тех пор болит-разламывается. И легкие не в порядке. А придешь к врачам – они с тобой как с гайкой обращаются. Как токари-скоростники. Быстрей-быстрей поворачивайся…
XIV
Дважды звякнул дверной звонок. За скрипучей темной дверью квартиры ждал странноватый тип молодой, спрашивал Антона, к его удивлению. И еще больше подивился Антон, увидав на пороге перед собой худого смущенного от своего визита Андрея Пасечного, товарища по флотской службе, бывшего старшину-сверхсрочника и большого любителя поспать, побренчать на гитаре и попеть в кругу друзей, девиц. Андрей как-то скоропалительно демобилизовался из экипажа по лету. К недоумению знакомых и явному неудовольствию его жены Татьяны.
Едва поздоровавшись и переминаясь, еще не входя, он болезненно-торопливо зашептал почти заговорщически:
– Антоша, выручи вновь меня, пожалуйста… Сколько можешь… Больше не у кого мне занять… Мне опять не доплатила контора… Перед Татьяной стыдно признаться… понимаешь…
– Понимаю-то я хорошо… Коллизия!.. – Антон и сам перебивался на мизерную зарплату. Впору самому занять денег. Тем более, что Андрей не отдал ему еще прежний долг, пусть и небольшой.
Не ко времени как раз Евгений Павлович, брат хозяйки, для чего-то выглянув из комнаты, вопросил:
– Кто к тебе?
– Друг один, – дипломатично ответил Антон. – Не беспокойтесь…
– Так давайте заходите! Потолкуйте не в дверях… И не могу же я пить в одиночку! – закапризничал, ровно ребенок, мужчина, всегда насупленный, словно замороженный, работавший на заводе токарем.
– Да, зайдите, – позвала-ублажила брата – и Анисья Павловна. – Уж без церемоний.
Антон нехотя подчинился, насупившись отчасти: выходила ведь обыкновенная пьянка, убийство времени. Ни по какому-либо поводу. Откажешься от нее – будет кровная обида из-за того, что якобы ты чураешься всех, отделяешься от компании. Однако Андрей преотлично согласился подсесть к столу. И после стопки-другой Евгений Павлович разоткровенничался и бесстрасно стал рассказывать небезынтересные для Антона-собирателя ценных, исключительных свидетельств о минувшем.
Евгений Павлович рассказывал:
– Первый раз меня ранили в 41-м в ногу, выше колена, в волховских лесах. Зимней ночью нас, десантников, выбросили туда, и меня-то еще на лету, пока опускался на парашюте, подбили: почувствовал, нога моя дернулась, и мне стало жарко. И я боялся неладно приземлиться – на пенек или кочку. Обошлось. И парашют еле-еле погасил. Санитар подбежал ко мне. Ну, а немец разве разбирает, кто – санитар ли, раненый ли или здоровый, если мирных и детей он колошматил, стерва; он бросит вверх ракету, раскроется парашют над ней, горящей – светло; ты поклонись земле, не то не уцелеешь враз. Мы с санитаром в лес насилу зашли. Посадил он меня под елку: «Через полчасика приедем, солдат, за тобой, ты жди!» Я что-то долго сидел, стал замерзать. Потом выдернул комель подходящий, побрел с ним наугад лесом. Не разберешь, где свои, где немцы; справа все трещит, бабахает, слева трещит – идет, словом, бой. Ночной. Темно. А ориентируюсь я, ребята, аховски. Только к утру стал выходить из кондового леса. Иду уже сквозь опушечный лес – едут встречь мне наши зеленые повозки. «Ты откуда?» – спрашивают возницы. – «Куда вы едете. А вы откуда?» – «Куда ты идешь» Такой занимательный разговор. У кого сухарик попрошу, у кого кусочек хлебушка. Так я наелся, подкрепился. Попался мне какой-то контуженный, чумовой солдатик. Пристал ко мне. Мне с ним – все веселее. С ним плетемся – и видим: какая-то постройка стоит – целехонькая; из ее открытой двери, на самом порожке, – ноги торчат – в солдатских обмотках и ботинках. Сразу подумал: «тоже забыли, как и меня, взять; надо и этого бедолагу захватить с собой – компанией втроем-то легче добрести до медсанбата. Где-то он должен же быть…» Зашли мы в строение, а там оказались одни трупы. На порохе разогрел я застылую тушонку, почти поджарил ее, и того контуженного, чумового собрата стал подкармливать. Снял с одного убитого сапоги, примерил их; с трудом переобулся, чертыхаясь. Потом повытаскивали вон трупы из жилья – решили навести в нем некий порядок. Пол подмели. Тут чумовой закурил. Забылся да незагашенную папироску кинул в сор. Как все вспыхнуло в момент! Сор-то был с натрушенным порохом. Чумовой все позабыл. Он чуток замешкался – не ожидал такой развязки – и загорелась на нем одежда.
Насилу я выволок его наружу. Оттащил подальше от места пожарища. Потому как уже начали рваться гранаты от жары. И пули трещат. Наши, видать, решили, что это немцы ломятся; как дадут пулеметную очередь по кострищу – только щепки от крыши летят-разлетаются.
Что ж, наша хата-приют накрылась: сгорела дотла. И надо что-то делать, не толочься же на холоде. К счастью, подкатила к нам, остановилась какая-то полуторка; мы тут же осадили шофера (был он один в кабине): «бери нас, подбитых, – доставь в медсанбат!» Но он поначалу мурыжил нас: мол, приехал по другому заданию. И так, и сяк крутил-отговаривался. И бензин-то, дескать, кончился у него. А потом, когда мы все-таки нахрапом вскарабкались кое-как в кузов, повез нас двоих и отвез за восемнадцать верст за Ловать. В медсанбат. Ну, здесь, в жилье, горячая печка, сделанная, естественно, из железной бочки, пышала; здесь и погрелись мы – проваландались – двое суток.
Я-то наивно думал по приезде: сейчас же медики и осмотрят нас. Но – какое! Через же двое суток шлепнули тряпку мне на сморкалку, велели: «Считайте до трех…» И уж ничего не помню. На спинку меня и в палату. После по физиономии меня, говорят, били – разбудить не могли.
Так я оказался в госпитале, что находился на Вятских полянах (возле города Киров). Кормили там нас, пациентов, чаще всего овсянкой. И я все подряд мел. Если, бывало, сахарцу нам давали, – один сосед просил у меня дать ему немного. И я делился с ним. Только так и остался сладкоежка на лечении тяжелораненым, а я по-скорому возвратился в боевую часть на фронт – уже на другой. Короче, летом 42-года дислоцировалась она под Вязьмой, где меня и ранило вторично. По-глупости.
Я был неосмотрителен. Накануне-то днем я запросто прошел разбитой деревенской околицей – никакой стрельбы. А на другой день пошел таким же образом – пульки просвистели мимо меня: чжик! Чжик! Подумал я сперва: верно, наши солдаты ошиблись – чудят! И не хоронюсь еще. Нет, опять стреляют прицельно по мне. Я пустился в перебежки. Прямо в каску мою стукнуло рикошетом, каска даже нос мой задрала: кровь закапала. И тогда я по-пластунски пополз. По конской канавке, где погуще трава. Немецкий снайпер выстрелом, – должно быть, за тысячу метров был, – стукнул меня в позвоночник. Метко стрельнул, стервец! Но, видно, не совсем рассчитал: у меня за плечами был вещевой мешок – задело и его. Голова моя запрокинулась, и ноги вскинулись; немец, верно, уже решил: «Ну, русский солдат готов! Тю-тю! Еще один…» Мне в ноги отдало-ударило; тепло стало, не больно. И только подумалось мне, что с моими ногами что-нибудь опять стряслось. Но подвигал ими – ноги целы. Тогда я бочком, собрав силы, уюркнул в ближнюю рожь. Спохватился немец – только пули засвистели надо мной. А где там! Ищи-свищи! Ко мне свои подбежали, оттащили меня в более безопасное место. Тут санитар попросил у меня отдать ему наган: ему надоело (очень неудобно) бегать с громоздким автоматом – и подбирать, выволакивать раненых.
Скорчившись в окопчике, я часа три ожидал вывоза. Наконец прикатила повозка. Бежит ко мне санитар: «Ты громче кричи, чтобы тебя услышали и нашли». Закричал я… Троих нас, подстреленных, поклали в повозку. До лесочка лошади плелись шагом. А в леске немцы массированно обстреливали дорогу: были ближе к ней. Ну, и там в одну руку кнут, в другую – вожжи (при паре-то здоровых лошадей) – галопом пролетели версты три. Растрясло нас по кочкам. Мочи никакой уж нет! «Остановись-ка, теперь, малый!» – просим накрик ездового. – «Подождите, – кричит он. – Еще нельзя. Простреливается пока местность…»
Анисья Павловна, воспользовавшись моментом, присудила:
– Да, люди руководствуются правилом: кто кого смог, тот того и с ног. А властители всегда норовят всех под копыто свое загнать и каждого этим своим копытом по башке дернуть. Дурной век такой.
Гости помолчали чуточку из уважения, и вроде бы обдумывая сказанное.
После новой стопки Андрей заторопился, словно спохватившись, что не успеет высказаться «по душе», и исжаловался в основном Евгению на тамошние непорядки и условия, что он после службы не может прилично жить и зарабатывать и что нет у него никакой профессии. А посему он, помытарившись, решил – и заявил вверную, – что завербуется на Колыму, туда, на золотые прииски. Может, тогда будет дело для него. Евгений не спорил с ним, говорил ему:
– Давай, брат! Шуруй!
Когда они вдвоем, слегка навеселе, вполне приличные, уходили, почти обнявшись и напевая что-то приятное, приличное, Антон сунул в карман Андрею лишь один червонец.
Перед сном Антон с любопытством перелистнул обтрепанную книгу в темном переплете, ту, которую нашел в подворотне, оброненную кем-то. То был учебник «Систематический курсъ древней истории» выпуска 1900 г. Раскрыв на закладке пожелтелой, Антон прочел:
«Разгромъ Рима. Лишь только Сулла уплылъ с войскомъ на Востокъ (87 г. до Р.Хр.) демократический консул Цинна попытался произвести государственный переворотъ въ пользу своей партии…
Буйные войска вождей вошли въ Римъ и пошли по улицамъ великого города для грабежа, убiйств и насилiй. Все почти вожди оптиматовъ, люди самыхъ знатныхъ фамилiй, сенаторы, бывшiе консулы, оказавшiе великiе услуги родинъ, были убиваемы безъ всякого суда и слъдствия; грабители бросали ихъ тела на съъденiе собакам и птицамъ, грабили и разоряли дома и конфисковали недвижимое имущество; особенно неиствовали рабы въ домахъ своихъ бывшихъ господъ. Утоливъ, наконецъ, жажаду кровавой мести, Марiй и Цинна потребовали, чтобы ихъ избрали консулами; приказание было исполнено безпрекословно. Но Марiй не дожил до конца своего седьмого консульства: мучимый страхами и угрызенiями совести, ужасный старикъ умеръ в 86 г., избавивъ Римъ от своего страшного присутствiя. Цинна же въ теченiе двухъ лътъ заботливо старался упрочить владычество демократовъ и готовился уже отплыть на Востокъ для борьбы съ Ссулой, но былъ убитъ возмутившимися солдатами (84 г.)».
«Когда узнаешь, – подумал Антон, – о свидетельстве подобных человеческих буйствах, изморах и рукотворных катаклизмах, не перестаешь удивляться вновь всем мерзостям рода человеческого, падению и возвышению каст и цивилизаций, а главное – живучести вопреки всему океана людского, за счет которого и еще бурлит при нас история его».
ХV
В свежеутреннем разливе света Антон шел вверх напрямик по еще нескошенным разводьям знакомого по детству ближнего поля, воглого, росистого; шел один налегке в поглощенной тишине: спешил домой после долгого отсутствия. Такой восторженный. Его снова обдавало – и до чего ж приятно то испытывать! – первозданной росной свежестью; ботинки и штанины его брюк ощутимо намокали, набухая влагой, тяжелея с каждым шагом. Зато как легко дышалось. И вблизи него, по самой гуще травяной, свитоспутанной – повсюду отливали серебристо кругленькие капельки-росинки на разных листочках, чашечках, узорах, что в подставленных везде с готовностью ладошках – с пронзительной ясностью и новизной для Антона. Все-то самое что ни есть обыкновенное и давным-давно знакомое его глазам, виденное столько раз наяву и что теперь почему-то бесконечно ему грезилось. По чему он скучал бесконечно, живя в большом городе.
Нет, он не был «дитем асфальта», как называла иногда Махалова их знакомая.
Антон, оставляя за собой, по голубой траве, матово темневшей бороздкой след (вследствие сбиваемой росы ногами), зачарованно ликовал на подходе к дому. И порой с деликатностью даже придерживал свое дыхание. И молочный туманец струился, тая, встречь теплому солнечно-жемчужному рассвету.
Но он еще не вышел на продуваловскую наезженную дорогу, как явственно увидел в полном лунном свете (надо же!) уже комнату, в которой спал и услышал, как кто-то сильно из-за роскошного прифасадного клена и прямо через окно швырнул сюда связку квартирных ключей, – так, что она, перелетев через его постель, шмякнулась посреди лунной комнаты, звеня очень вещественно о пол. Связка эта, разумеется, не причинила никакого вреда ни стеклу, ни простенку, ни шторке. Он-то даже привстал и взглянул туда, на светлую полоску пола, но не увидел ничего. Подумал: – «Хорошенькое дельце! Видно, закатилась куда-то. Утром посмотрим получше» – как проснется Анисья Павловна. Странно, что она-то не услышала ничего…
Анисья же Павловна, ровно лист сухой, еще не сорванный ветром, но совсем неравнодушная к жизни, оказалось, среди этой ночи сама по себе машинально, еще не проснувшаяся окончательно, села в постели, соображая и приходя в себя, изумленная в немалой степени: до того ей было странное-престранное видение о том, как она пробиралась сквозь многочисленные институтские (вроде бы и вроде бы давным-давно знакомые ей почему-либо) переходы и пролеты; как сверху струями лилась вода, точно в наводнение, затапливая помещение, и как она, Анисья, путаясь ногами, промокшими начисто, и в мыслях своих-догадках (это-то была явно грозившая ей какая-то неприятность, подумала она с тоской), затем сидела действительно в институте, который давным-давно окончила, и сдавала экзамен тихому и ласково-обаятельному профессору, которому ничего не нужно от нее (чудно все-таки: будто целый век с той поры прошел, и все это было не с ней!). Боже! Всем приходится сдавать на зрелость: сначала в школе, потом в институте, потом на ткацкой фабрике, а теперь кассиром в магазине… Сев на кровати и хмурясь, Анисья тут же мысленно перебрала в памяти друзей тех лет и вспомнила Янину почему-то… Где же она теперь? И жива ли? Надо – интереса ради – разузнать про нее и, может быть, встретиться…
Утром Антон, встав, поползал, пошарил по полу, однако не обнаружил никакой связки ключей. Рассказал об этом Анисьи Павловне. Она припечалилась.
А спустя примерно час к ней пришел дежурный милиционер с сообщением о том, что ее брат. Евгений, находится сейчас в больнице (назвал ту): ему сделали операцию, так как ночью он попал под трамвай – соскользнул, видно, с подножки, и ему отрезало ногу.
Анисья Павловна пошатнулась в ужасе, обхватила руками голову.
Антон же, горестно сочувствуя в беде, по делу корил себя за свое неприятие объяснимых малых человеческих слабостей и поступков. И совсем-совсем-то иное что-то мучало-скребло в его душе. Со вчерашних-позавчерашних ли пор… Отнюдь, не сказ о римлянах… «Ах, виной всему полученное Галино письмо!.. Дури во мне было много… Вот что… И есть еще нескончаемо…»
А в том, что было, виновата была, наверное, стихия… разума…
Однажды, после освежительного летнего дождя, они, допризывники, возвращались по городу приволжскому с только что законченных стрельб. По одной из улиц удалялась под духовой оркестр траурная процессия. И Антон неожиданно увидал среди зевак Галину, однолетку, которую не видел уже больше месяца, сдав последний экзамен за девятый класс школы рабочей молодежи. Галя тоже сразу заметила его, Антона, развернулась и направилась к нему со смущенной улыбкой от радости из-за такой непредсказуемой встречи. И он тотчас остановился, ожидая ее с приятным для себя чувством, хотя и был устал, голоден и вдобавок еще измазан глиной, поскольку они тренировались в каком-то развязлом овраге. А товарищи его, понимающе подхмыкнув и оглядываясь на него, пошли себе дальше – уже без него.
Галя могла быть, чувствовал Антон, очень хорошим, понятливым другом при своем каком-то идеалистическом отношении к жизни; но глаза ее, вопросительно прекрасные и заманчиво-притягательные, как будто неизменно вопрошали всегда с тихой грустью: «Ну, почему ж я не совсем красивая? И нельзя ли полюбить меня такой?» И теперь, только она приблизилась к нему, ему показалось, что эта ее вопросительность, доверчивость и милая ласковость еще необычней, притягательней светились в девичьих глазах. При ее-то простосердечности такой.
Они бесцельно покружили туда-сюда и зашли в кинотеатр на сеанс.
Антон уж будто бы совсем расчувствовался: Галя стала ему как-то близка; наверное, так могло быть перед близкой их разлукой. В полупустом кинозале, едва погас электрический свет и лишь засветился экран, внезапно их руки встретились и коснулись одна другой; горячий ток пробежал и пронзил их, обоих, и ее рука лежала в его руке на коленях у него.
– Ты должна мне подарить на память что-нибудь, – прошептал Антон.
И что взбрело ему в голову!
И она в ответ прошептала страстно:
– Обязательно я подарю тебе… А что ты хочешь – чтобы подарила я? – прошептала в таком нежно-упоительном и страстном восторге и ожидании чего-то славного, с таким душевным порывом, что Антон уже и не слышал и не понимал дальнейших ее слов, а лишь слышал в том одну ее иступленную влюбленность, воспринять каковую он был совершенно не готов. Он даже не мог предположить того. И никак не предполагал.
И это, охладив, остановило его вовремя: не знал он, почему, однако ему было не по себе, как он услышал от нее нечто подобное. Даже самая скромная любовь к ней для него стала невозможна, нет – то было бы явным насилием над ним; а товарищеская дружба с ней представилась ему на трезвый взгляд тоже сомнительной, – все было бы наверняка искусственно, натянуто…
Так что Антон, негодуя на себя, что дал недостойно повод, с облегчением вздохнул, когда вышел с толпой зрителей из душного кинозала на простор сказочной звездной ночи. Оттуда, с неба, словно падали и осыпались на его разгоряченное лицо прохладные бледные звезды.
Он читал недоумение в прекрасных глазах Гали, прощаясь наскоро с ней.
И вот теперь, после ее письма, безжалостно вспоминал об этом, что, впрочем, и само собой являлось ему каждый раз.
Она писала:
– Привет из Р.
… С радостью отмечаю, что ты все тот же и с тобой все так же интересно разговаривать… Ты нашел свое место в жизни и счастлив. Чувство целеустремленности у тебя, большой интерес…
«Это уже перехлест», – он поморщился.
«… Где-то я читала, что в концлагере люди придумали пытку – носить воду с одного места в другое худыми ведрами. Это убивает человека своей нелепостью, бесполезностью. То же чувствую и я. Чувствую в себе силы, смею думать, что способна на что-нибудь большее, чем, как последняя тупица, быть медиком, а к чему приложить себя – не знаю… Я учусь на V курсе, на работе несу массу общественных нагрузок по партийной, профсоюзной и комсомольской линии и все, кажется, не то, все не главное. А главного не найду. Не чувствую удовлетворения, не вижу плодов своего труда, сомневаюсь в его нужности, пользе. Не вижу в нем определенного смысла. Как-то по инерции все делаю. Да и настоящее мое положение полумедика, полуинженера-теоретика, как нечто неопределенное, раздвоенное, далеко не приносит удовлетворения. Вот откуда такое мое настроение. Этого тебе, вероятно, не понять, как художнику, видящему во всем цель, вдохновение и глубокий смысл…»
«Но как проникнуть в глубины чужой души, – подумал Антон, – и повернуть ее к роднику? Надо постараться? А знаю ли я тропинку к нему?»








