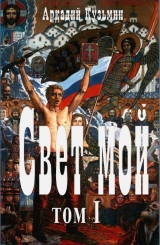
Текст книги "Свет мой Том I (СИ)"
Автор книги: Аркадий Кузьмин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
XIV
И как же спастись в потопе безумства врагов, безвременья и запастись не только терпением? Приближалась зимушка-зима…
Братья Кашины, промышляя в городских развалинах, у самой железнодорожной станции Ржев-II, расколошмаченной бомбами, – с перекрученными рельсами и шпалами, с погорело-черными каркасами депо, построек, вагонов и воронками, обнаружили в расковыренном массиве открытого ледника соль: она – настоящая, крупнозернистая – пластовалась под слоем наращенного льда и опилок, закрывавших его для того, чтобы он не стаивал. Обычно лед отсюда развозили по многим продуктовым базам и в магазины. Понятно, что находка соли пришлась как нельзя кстати; отсюда мальцы, набирая ее в мешки, дважды в день потихоньку носили домой – запасали ее в первую очередь. Ничего другого из продуктов не осталось, чем можно было бы воспользоваться. Весь сахар же, хранившийся в складах, как и зерно, и масло льняное, сгорели вместе с военным обмундированием и иными вещами. Сахар от жары сварился и потоками растекся по канавам земляным. Редкие ходоки (было почти безлюдье – и тоскливо) кололи коричневую сахарную массу и набирали ее крендельки, чтобы потом хоть чуточку полакомиться сладостью: ведь практически мало видели все перед этим сахар…
Штабелями здесь стояли одна в другой армейские, спаявшиеся от сильной жары, зеленые обливные кружки. И бруски мыла лежали отдельно. В больших бочках – томатная паста. Лешка отодранной щепкой подцепил сгусток пасты – лизнул; она – еще теплая, густая, вкусная. Кто-то знающе сказал:
– О, томат! Знатная приправа! Надо б прихватить… А в чем?..
Подходящей емкости ни у кого не нашлось, при себе не оказалось. Так что ушли без томатной массы.
На подсобном же поле брошенном – что при станции (его название «Вперед!») – была уже нарыта в гуртах крупная морковь, и здесь обыкновенно побирались две-три женские фигурки, и все.
Почему-то на Горе, за капустным и турнепсовым полем, приземлилась светло-серая немецкая «Рама», она была будто брошена – без всякого присмотра. Интересно ведь! Завернув сюда через овраг, братья, Антон и Саша, опасливо приблизились к летательному аппарату, приземистому, компактному. И Саша не вытерпел: наскоро даже влез в пилотскую кабину, покрутил в ней приборчики, гаечки, причем, как водится, и что-то открутил. Но они и смылись побыстрей: понимали, что им бы не поздоровилось, если бы их застукали немцы за таким занятием… Ведь те-то обитали в избах совсем недалече… И они не церемонились ни с кем по части расправы…
О том свидетельствовала одна, казалось бы, совсем безобидная история…
Когда добрая тетушка Даша, мать взрослого безногого (он был на протезах) Ивана, вошла в избу Кашиных, тут тоже стоял застойный дым коромыслом от наезжего немецкого воинства, хуже, чем на дворе постоялом. Дверь избная почти не закрывалась – хлопала непрестанно; незваные гости сапожищами топали, глотками лужеными громыхали. И в этом чаду, среди кухни, ласково глядела на нее Анна. Однако Даша смотрела на нее сквозь какие-то прощальные слезы и губы у ней дрожали.
– Я неправильно сделала, что сюда, к вам, пришла, что ли? – выговорила Даша.
– Что ты, милая! Что-нибудь случилось?
Даша закивала головой, не в силах говорить. Губы у ней задрожали сильней. Она всхлипнула.
– Что же, Дашенька? – Анна подсела к ней на табуретку.
И тетя мало-помалу рассказала:
– Они с самого утра жарили-парили. Совсем закрутилась я, старая. Они – как это? – Wasser warum – что ли, требуют. Матка, давай! А я-то, знаешь, сдуру верчусь вокруг себя, свою юбку оглядываю; думаю: «Батюшки, ведь они смеются надо мной, – где же это я разорвала»?! Потом взошел к нам адъютант, мне сказал переводчик, начальника какого-то, кто въехал к соседке, и сказал мне:
– Матка, быстро отшень руська банька коменданте топить!
Ну, я пошла и стопила, раз востребовали. Сразу конфоркой не закрыла пеку, чтобы угара не было, а пошла после – закрывать. Открываю-то дверь из предбанника, – в бане – матушки! – уже плещется кто-то, водой обливается. Да что я голых не видывала разве? Свое дело сладила до конца и давай ругать того, кто мылся, водой обливался. Ты что, говорю: я для начальника топила, воду грела; ты всю воду выльешь, весь пар повыпускаешь. Я тебе!.. Смотри у меня!.. Я отругала так, кулаком еще погрозила нахальнику и ушла себе. И вожусь это уже дома – и меня уже разбирает сомнение – не сам ли это начальник был? Как вдруг вкатывается к нам офицер немецкий. Со своим переводчиком. Плеткой повернул к себе мое лицо, говорит, как железо режет: «Ти, матка, баня топить? Карашо. Заутра ми восток, дальше, – ти капут! Вешат будем!» Показывает на свою шею и потолок – что меня повесят. Вишь, я оскорбила его: зачем струнила? Господи, за что же? Пошла к переводчику, его помощнику, а тот: «Не можно, не можно! Руська банька коменданта ругать». Смеется сам. – «Да я, – говорю, – неразумная баба: не знала, что это командир был; хотела, как лучше!» – «Не можно!» И все тут разговоры. Мигом зарезала я одну курочку уцелевшую, распотрошила, отнесла. Эту курочку они взяли, как должное. Но комендант и слышать не хочет о прощении меня. Говорит: мол, вот одну русскую свинью повесим, и дадим всем знать порядок… Будешь морген повешена. Так-то вот Аннушка…
– Дашенька, да ты скройся немедля, – сказала Анна. – На два дня…
– Конечно же, – встряла и Наташа.
– Куда ж, милая? К вам нельзя – подведу. Дознаются… У тебя, Аннушка, сколько же ребят… Разве только в Чачкино, к сестре…
– Еще лучше! Вставай… Живо!..
– Да ведь документов нет у меня… Схватят без них…
– Тебя ребятишки проводят – и без документов ходят… Пересиди там дня два. Эта часть, может, точно назавтра выедет отсюда… А мы проверим – и дадим знать тебе…
Тетя Даша добралась до Чачкино и просидела там три дня. Она спаслась так.
XV
– Hier ist warm – здесь тепло, – радуясь, говорили новонаезжие немцы. Они заполняли избу Кашиных, потирая руки и притоптывая в задубелых сапогах с подковами; холод, хотя еще по-осеннему и слабенький, не разящий, уже доставал и пронимал их. И вот по причине уюта и тепла, так похожих, видно, на что-то домашнее, а может, и по причине безостановочно удачливого немецкого наступления, предвещавшего непременно скорую победу, они раздобрели несказанно – после того как выгнали всех Кашиных из двух передних комнат в кухню – и стали здесь миролюбиво разговаривать с ними, высказывать им свое миропонимание.
Красиво раскуривая сигареты и пуская сладкий, приторный дым, тем отличавшийся от горько-едучего дыма пожарищ, они охотно и чистосердечно-свято вразумляли Анну и ее детей: мол, не понимайте и не думайте так, как вы еще понимаете и думаете, а только так, как вот, послушайте, мы расскажем вам, потому что только нам уже известна вся истинная правда. А она такая, – и они принялись распространять следующую версию: это не Германия напала на Советский Союз, немцы не такие уж отпетые изверги, нет, а все горе русских в том, что они доверчивы и… жестоко обмануты. – И толкователи-завоеватели при сем разыгрывали из себя возмущенно-оскорбленную честь, держа марку образцово-утонченных политиков. Главным объектом их красноречия была молоденька Наташа, затем Анна и все остальные. Наташа учила, понимала немецкий язык. Это Англия, хитрая и коварная страна, объясняли они, – спряталась за спину слишком доверчивой России. Тут разговорчивый немец, встав за спину Антона, слегка толкнул его на Наташу, и сказал, что именно Англия столкнула Россию с Германией. А Германия трам-там-там, – и он промаршировал круг, – потому-де сделала то, что сделала. И ужо-то восстановит всюду нарушенный мир и свободу. И немцы после такого разъяснения торжественно заулыбались. И опять потирали руки с таким выражением на плоских лицах, будто жаждали немедленно съесть хоть огромного быка. И способны на то были.
– Ага, понимаем, – согласилась Анна на словах. – Наствозыкнула, стало быть, по-вашему? Как собачку?
– О, да! Конечно же! Для того мы здесь. Разберемся, будьте уж спокойны. Мы только Iude (т. е. евреев), – показывали немцы жестами, как давят вшей, – маленько к ногтю приберем.
Да ведь досконально известно было всем: они, нацисты, прибирали под пяту себе все европейские страны и народности подряд и не было у них недостатка в выборе сокрушительных средств для такого прибирательства. За что, собственно, немецкие солдаты воюют, проливают кровь миллионов невинных мирных жителей – они, солдаты, сказать, конечно, не могли; лишь для того, чтобы себя как-то выгородить и облагородить в глазах жертв, они и занимались неуклюже самооправдательством, пускали для себя фимиам обеляющий…
При всем том подключили и официальную германскую пропаганду.
– Ein moment! – сказали они, прищелкнув пальцами, и жестами, и словами: – Gomm! Gomm Wier! – поманили таинственно-загадочно всех Кашиных в переднюю и, заманив сюда, показали (с удовлетворением, выраженным на своих уплощенных лицах) на радиоприемник, установленный на зеленом окованном ящике.
Что-то слишком дружественно тут отнеслись. Подвохом пахло.
Кашины, похвалив приемник, тотчас повернулись, чтоб уйти. Тогда немцы растолковали, что нужно минутку подождать. Недолго прождали, как по радио заговорил кто-то… Вкрадчиво, но чисто по-русски. При этом Кашины сначала обрадовались русским словам, произнесенным в эфире, и испугались возможно худшему смыслу, который мог быть вложен в них.
Однако все само собою разъяснилось быстро.
Было совершенно нечему ни радоваться, ни пугаться; по-русски произнесенные на радио слова исходили не от сердца русского человека, отнюдь; некий сладкоречивый оратор пытался убедить советских людей, оказавшихся в немецкой оккупации, в их освобождении или, точней, разубедить их в смысле фашистского разбоя.
Кашины, дослушав радиовещание, сухо поблагодарили немцев. На что немецкий офицер недоуменно дрогнул бровями и взморщил лоб, как бы говоря себе: «Непонятные все вы, русские… Вам же добро желается…»
Анна помрачнела, в голове у ней стучало: «Неужто они, вправду, одолеют?» Было отчего пасть духом.
В октябре 1941 года фронт ушел глубоко под Москву, не стало даже слышно о нем. Будто остановилось само время. Слухи приходили самые что ни есть противоречивые. А на восток все лезли и маршировали немцы со своим ничтожным воинственным самолюбием, лезли, забивая все главные дороги обозами и собой и все обжитые, пахнущие теплым человеческим жильем, щели.
И странно было видеть, что все-то оккупанты – люди молодые, здоровые и больные, сердито-неприкосновенные и общительные, рядовые и нерядовые, – все так гордились, за редким исключением, своей воинственностью и даже озабоченностью ею, тем, что перед ними все дрожали и что все теперь зависело исключительно от них, таких громовержцев.
Кажется, утром 28-го октября в белесом небе расплылся грозный тяжелый звук моторов – более полусотни нагруженных немецких бомбовозов летело в сторону Москвы. И вот в эти-то минуты немцы, повыскочив из изб, возликовали во всю мочь – только от этого! Кто из них в экстазе потрясал руками в воздухе, вскидывал вверх пилотки; кто стрелял-салютовал; кто бурно кричал, приветствуя невидимых пилотов. Они в безумстве выкрикивали: «На Москву! Москва скоро kaput!» А ведь это были обычные же люди. Порой, наверное, корректные и обходительные друг с другом; порой почти холодные, даже враждебные в отношениях к друг другу. Любили сувениры, дареные и отобранные у иноземцев; носили на руках кольца обручальные и фамильные, хранили возле сердца фотографии жен, матерей и детей; писали домой, в Германию либо еще куда, письма любовные и письма чувствительные, – в них была и бравада, смешанная с легкой грустью, сентиментальностью; таскали с собой открытки видовые, поздравительные и духи дешевые; подпиливали даже ногти на пальцах носимыми с собой пилками… С вожделением пили шнапс и вкусно ели. Слушали иногда музыку – чаще веселые марши с гиганьем и подсвистыванием, танго и фокстроты. С цивильными русскими они пока до белого каления не доходили, а как-то сумрачно поглядывали на них больше всего исподлобья, молчком. И все на ходу, в спешке. Оглянут тебя, пролают тебе отрывисто «Hinaus!» – «Вон!». Значит – выметайся подобру-поздорову, пока жив. Не мешай!
И все они – линейные и кадровые солдаты, с которыми у местных жителей уже были соприкосновения, постоянно озабочивались тем, чтобы, так славно воюя, не отстать от товарищей в своем неправедном усердии.
Ко всему же прочему, еще Саша начудил – из-за своей неисправимой бесшабашности и бездумности вверг семью в тревогу и отчаяние: он ухитрился обрызгаться из какой-то черной закупоренной бутылки странной жидкостью, разбив ту о камень. Где тонко, там и рвется. Саша, разумеется, явил жадный познавательный интерес ко всем диковинкам, начиненным взрывчаткой, эффектно пуляющим и взрывающимся; активно-подвижный, он был неуправляем, без тормозов – за ним не уследишь…
Он сам испугался, сообразив, что такое натворил, попутанный бесом.
– Ух, как я состязался! – испуганно проговорил он, заскочив с улицы в кухню и сунув красное, горящее лицо под водяную струю, льющую из рукомойника, и стал плескать водой на лицо (а до этого тер на улице снегом). Но оно и также шея, на которую попали брызги из черной бутылки, все горело, несмотря на обливание водой. Дело было неладное. – Ой! Ой!
Завстревожилась Наташа. Она прикладывала смоченные водой комочки ваты к лицу брата, но оно уже заметно опухало и нешуточно набухла кожа у глаз, глаза покраснели. И уже чернели на одежде у Саши прожженные дырки. Вошедшая Анна, увидав такое, смертельно побледнела. Тетю Полю поскорей привели, чтобы обсудить с ней случившееся. И та, взглянув на Сашино лицо, решительно сказала, что нужно немедленно идти к немецкому врачу – он должен помочь. Говорят – живет такой у Смирнихи. Не отказывает во врачебной помощи.
Анна схватила за руку Сашу и с ним побежала к Смирнихе, жившей в середине деревни. Она с собою прихватила узелок с хлебом и долькой сала – то из еды, что еще было у ней в запасе. На крайний случай. И правильно это сделала. В этот период советские бойцы, видно, где-то поприжали немцев ощутимо; у тех заметно ощущались перебои со снабжением продуктами – не было их подвоза. И немец-врач, принявший русскую плачущую Анну с пострадавшим мальчиком, был откровенно рад тому обстоятельству, что она не забыла принести ему поесть.
Сначала он, щупленький, носатенький солдатишко, ничего не понимая из Анниных объяснений и просьбы, остановил ее:
– Ein moment! – И, распорядившись, куда-то послал своего рослого напарника.
Потом – довольно скоро, когда помощник его привел с собой еще одного – щеголеватого службиста и усадил того на табуретку, он начал допрашивать, уточнять, а пришедший, оказавшийся переводчиком, переводить с немецкого языка на русский.
– Чем облился мальчик? Какой жидкостью? Как?
– Была какая-то черная бутылка с жидкостью – осталась под кроватью, я ее заметили, когда немецкие солдаты из нашей избы выехали, – сказала, волнуясь, Анна. – Я ее поставила в сенях – за кадушку, а он-то, малец, и взял ее в ручки золотые… Кто же знал…
– Да, немецкая, должно быть, бутылка, – небоязливо добавил тут же и стоявший на допросе Саша. – Крепкая. И темная такая. В середине пробки спичечка вставлена. А в проулке у нас полоз от дровней валяется. Железный и толстый. Никому он не нужен теперь, раз война. Я хлопнул бутылку об него и разбил ее. Ну, и все разлилось. Брызнуло вот… Снег сразу до земли растаял в этом месте. «Э-э, – подумал тогда я, – штука-то какая хитроумная!..»
– Нет, это не немецкая бутылка, нет, – заявил переводчик от себя после того как перевел врачу все сказанное русскими. – Это – русское оружие против германских танков – фу-у! Железо горит… Это – партизан русский – фу-у! На люфт! – И, возбужденный, обиженный даже, замолчал.
Спасибо же ему за то, что был и перевел слова и что так выяснилась суть ожога.
Лекарь быстрый, экономный, не раздумывая, выудил из ящика походного, стоявшего у самых ног, книжку-справочник – и на стол; нежно пролистав странички, нашел нужное, впился взглядом в текст, почитал вполуслух и готово – почти прокричал хозяйке:
– Matka, wasser! Schnell!
Тут и даже Анна, среагировав, устремилась к кухне за водой.
Затем немец вынул из коробки тюбики различные, открутил их колпачки и, поочередно выдавив на блюдечко часть их содержимого, все перемешал с добавленной водой. Этим полугустым, как сметана, составом он намазал лицо и шею Саши, и замазка вскорости корочкой засохла, затянулась. Осмотрел он обработанную физиономию, потрогал пальцами щеки и удовлетворенно произнес:
– Gut – корошо!
Немец второй раз намазал по сухому. И опять штукатурка затянулась ровно – было хорошо. Тот результатом своей работы был доволен так, что даже в ладоши захлопал сам себе и заплясал, приговаривая:
– Gut! Gut! – оттого, что все получилось у него – она нашел верный способ врачевания.
И после сказал, что если бы пришли к нему хотя бы полчаса спустя, был бы капут – нельзя уже было бы вылечить. Видимо, эта горючая жидкость выжигает тело до кости.
Велел он еще назавтра приходить.
Чем его отблагодарить? Поля посоветовала спечь ему хлебец. И Анна от души спекла хлебец немцу-медику за то, что он спас ее сына – милосердно отвел от нее неминучую беду, отнесся к ним сочувственно, по-человечески. Так это важно.
XVI
Да, для Дуни не было ничего хуже, чем по молоду испытывать бабье одиночество, застигнутой оголтелым вражьим окружением: она то сполна испытала и узнала. Надолго.
С регулярно последовавшими бомбежками города – ночными и затем дневными – для Дуни тоже жизнь осложнилась неимоверно: еще потому, что ее дом, стоявший в опасном по соседству северном треугольнике – механический завод, вокзал, станция, оказался в самом пекле бомбардировок, все учащавшихся. В часы налетов всякий раз вокруг все адски – слитно грохотало, сотрясалось, лопалось, гудело, выло; к тому же над головой, захлебываясь, наперебой лупили зенитки батареи, оседлавшей кустарниковый сугорок. И только это начиналось (паровозные гудки не всегда извещали население о тревоге), все без памяти неслись вон из домов, чтобы спрятаться и отсидеться где-нибудь в канаве или в овражке и так, может быть, спастись. От грохота бомбежного закладывало даже уши. На это-то и сыночек Славик жаловался ей, матери, – показывал ручонками на ушки свои…
Однако Дуня тогда – под свистящими, несущими смерть бомбами – нисколько не думала о себе, не страшилась за себя; она безотчетно-безоглядно прижимала к груди сонного ли, бодрствовавшего Славика, напуганного вновь истошными сиренами, яростной пальбой, огненно-черными вспышками взрывов, криками, беготней и стонами людей. Главное, она, мать, его, дите свое, спасала. И так Маша, сестра, спасла свое дитятко; и Анна спасала своих детей, не считаясь ни с чем, как все матери; и тетушка Дарья (Ромашинская) также самоотверженно спасала уже заматеревшего Ванюшку, смолоду лишившегося обеих ног (едучи на какую-то молодежную стройку, он сорвался под колеса вагона). Это в крови матерей заложено – распростеречь над детьми спасительные крылья…
В одну из бомбежек горячей взрывной волной Дуню и Славика расшвырнуло над оврагом в стороны. Над ними зенитки молотили оглушающе, раскалено. Она вскочила в кустах, не зная, что делать и куда бежать; у нее в голове звенело и гудело, ее качало. Она как обеспамятовала от ужаса, лишь подумав, что Славик ее, наверное, убит и что, значит, она не смогла, не сумела спасти его. А зенитный командир молодой, высвеченный вспышками огней, растопыренный, орал ей с горки, раскрыв мощный рот, стараясь перегудеть весь этот бедлам:
– Это что же ты, мамаша, сыночка-то потеряла?!
– Где он? Где? – Она скорей почувствовала то, что он ей прокричал, нежели услышала, оказавшись без привычной живой ноши в руках.
– Он – здесь! Гляди, барахтается вот! И плачет… Батарея, прицел!.. Огонь!
Уже октябрьским днем Дуня, прихватив самое необходимое из белья, одежды и продуктов, посадила на тачку Славика и двинулась из разбомблено-обгорелого Ржева вверх по Волге, по направлению на Редькино, куда ходу было часа два. Маша задолго до этого заклинала ее перебраться сюда, присоединиться к ней – чтобы вместе продержаться такие неведомые дни, в зеленый дом к ладящим мужниным родителям, у которых они обе с детьми гостили в это лето.
От стоявшего в воздухе дыма и запаха гари от пожарищ ело глаза и першило в горле. По ветру сыпались искры и головни, на улицах валялись обломки развалившихся зданий. Так что показалось опасней будет прямая дорога для выезда из города. Поэтому Дуня вначале спустилась с тачкой (везя Славика) к самой Волги и направилась вдоль самой кромки реки – как представлялось ей безопасней.
При отступлении наших войск у Редькино, близ каменной Борисоглебской церкви, вытянулась переправа. Из бревен. По овражку. А один военный, хлюст какой-то, присев в сторонке, записывал что-то в блокнотик и донимал местных жителей так настораживавшими расспросами:
– А часто идут военные обозы? Сколько повозок? Машин сколько?
Дуня сбегала к зенитчикам, высказала свое соображение:
– Это, точно, не наш человек.
Ну, после подоспели двое бойцов – взяли этого лазутчика. Увели.
Накануне дня Покрова нагрянувшие в хутор немецкие солдаты спали-бормотали – с гранатами в руках. Того гляди – избу взорвут. В Покров снег выпал по колено. И наши красноармейцы окружили их под утро. Завязался бой. Закричали немцы – раненые. Забегали вместе с женщинами и детьми вокруг лежанки, падали от пуль. Потом они загнали всех русских, мешавших им, в подпол, заперли его; здесь все, в том числе и Славик, и Олежка, хныкая и пугаясь, ползали по насыпанной картошке в темноте. Вскоре немцы сделали под стенами избы подкоп, повылезли наружу, повыставили пулеметы. Положили немало наших бойцов. Снег порозовел от крови. Потом привели в избу уже пленных бойцов. Израненных. Те, услыхав возню и голоса детей в подполе, возмутились, как-то отложили засов с крышки подпола, подняли ее:
– Что ж вы, голуби, здесь сидите?! Шандарахнет – дом сгорит, и вы сгорите заживо! Бегите-ка отсюда! – и повыпустили всех.
Бой был в самом разгаре. Стрельба пригибала к земле. Испуганные, обескровленные Дуня и Маша с малыми детьми и стариками выползли из избы; они где-то ползли и видели, как красноармейцы, истекавшие кровью, сползались умирать вместе по-двое, по-трое.
Они заползли в чей-то блиндаж пустой и затаились в нем – ни живы, ни мертвы – на день-другой. Без пищи, без воды. Разве только кто им снежок или сухарик кидал. Со страху было и не разобрать даже, кто. Голову не поднимали. И не высовывались.
На третьи сутки к ним пришла одна родственница. Сказала:
– Идемте. Никого уже нет. Немцы хутор оставили.
Дуню после всего пережитого здесь бессознательно потянуло обратно во Ржев, в собственный дом. Ей хотелось поскорей забиться снова туда. В тепло. Она, тридцатилетняя женщина с почти грудным еще Славиком на руках, металась, словно сразу помешавшись в том главном, ошеломительном для себя открытии, что ведь, если она не вернется домой сейчас, то ее может так и потерять из виду Станислав, коли посчастливится ему вернуться. Вот будет тогда дело: он прибудет неожиданно – да и не застанет ее там. Каково! Чудная: она еще надеялась на скорое возвращение к ним нормальной прежней жизни! Как в горячечном бреду. Не иначе.
И она вернулась в выветренный дом свой, расставшись с сестрой Машей и родителями ее мужа, Константина.
Она подумала: хорошо, наверное, – легче тем, кто эвакуировался, как сестра, с работой или сами по себе, – никто не терзает так…








