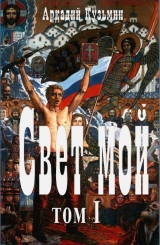
Текст книги "Свет мой Том I (СИ)"
Автор книги: Аркадий Кузьмин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 40 страниц)
V
Русая и синеокая красавица Маша, третья сестра Анны, рукодельничала, сидя за швейной машинкой и прострачивая какую-то грубую бордовую ткань, когда Анна вошла к ней в комнатку, которую сестра снимала. Еще при входе в этот дом, буквально на пороге с Анной разминулась, поздоровавшись, приветливая мягкая и миловидная Шура, дочь самой хозяйки: она выходила как раз на прогулку с трехлетним бутузом, Олежкой, сыночком Маши, – той, видимо, нравилось возиться с малышом. И еще Анна, ласково приветив своего племянника, как-то некстати и подумала о том, почему это Шура так непросто смотрит – неизменно вопросителен взгляд у нее? Что скрывается за этим? Но Маша, само очарование, живая, молодая и веселая, с тем же грудным голосом, очень обрадовалась приходу Анны, засветилась лицом.
Обычно Маша вместе со сноровистым сходчивым Константином (до призыва его в Армию) портняжничали и подрабатывали портновским ремеслом неплохо, что позволяло им оплачивать съем жилья. Теперь же Маша готовилась только набранные старые заказы выполнить в одиночку, совсем освободившись от них, выбраться ей с Олежкой в Знаменское. Возможно, и Дуня со Славкой присоединится… Они на днях уговорились в общем действии. Нужно попробовать. Там, на хуторе, она уверена, им будет спокойней и сподручней; Костины родители и старики – столь гостеприимны, ладящи со всеми, не только с ней, невесткой; а уж внучка Олежку так лелеют – в нем души не чаят, любят нянькаться с ним. То было известно. Маше очень повезло. Так что Анино приглашение на временное прожитье к ней в Ромашино – без особого достатка, удобства и простора – Маша отклонила без раздумья. Она уже решилась. И сестрины слова, ее твердое убеждение в необходимости того, что она решила, отчасти обнадежили, успокоили Анну на этот счет.
О, женская долюшка – неволюшка!..
Она глубоко призадумалась, вздыхая.
Был какой-то замкнутый круг, из которого она пыталась выбраться. Чем больше она проявляла беспокойство о сестрах своих, тем сильнее – после состоявшихся нынешних разговоров с ними – ее одолевало беспокойство иного рода: беспокойство именно за себя и своих чад многочисленных. Как и чем их прокормить, в какую обувинку обуть и в какую одежонку одеть, коли все изнашивается и продырявливается. А прошлое с прошлым беспокойством словно разрывалось, уходило в небылое. Буквально на глазах. Жизнь суровела. Но Анна по привычке еще цеплялась за старые отношения, пытаясь еще удержаться на колеблющейся поверхности, как некогда пытались это сделать Зоины близнецы в полынье…
Младшая сестра Дуня жила уже несколько лет возле механического завода, в помещении при мебельном комбинате, в котором начал работать перед службой в Армии, ее муж Станислав, мастеровой.
Анна, хоть и утомилась уж чувствительно – ведь немало же прошла сюда, к сестре, все же навострилась заодно заглянуть и к Дуне, на северную окраину Ржева, за Волгу. Невесть что грядет вскорости – доведется ли еще когда увидеться им, сестрам? Подвернувшимся рейсовым автобусом доехала до конечной остановки и затем дошла до места. У Анны просто душа болела-ныла за меньшую сестру, которой и так досталось в молодости.
Дуняше, наверное, трудней всего пришлось после сестриных замужеств. Отчий дом и вся недвижимость при нем были унаследованы вроде б на законных основаниях Николаем, как старшим братом. И она, как дозамужняя девчушка, вроде бы по милости для нее очутилась фактически точно в домработницах у него, поскольку еще были живы дедушка и бабушка; и к ним, что к малым, нужно было проявлять внимание, заботу постоянно. Дуня вкалывала доупаду в больших владениях, доставшихся брату, уже не чуя собственных рук и ног от усталости, без перерывов, отдыха и выходных; месила грязь и навоз, задыхалась на трепке льна и провевании зерна, задарма и обслуживала его неуклонно прибавлявшее семейство. Ходила она, девонька, в каких-то опорках и в какой-то бессрочной рыжей коротышке, а занимала собой лишь занавешенный уголок в избе без кровати даже и без стола; питалась здесь же, отдельно, в сторонке от всех, что сурок, – впопыхах жевала какую-нибудь корочку и картофелину. И глотала чаще непрожеванные что или хлебала прямо из кружки щи вместе с потом и слезами оттого, что вдруг вскакивала и кидалась опять куда-то, чтобы что-то недоделанное еще доделать.
И что же родной брат, великий рассуждатель о добре и человечности, не мог ни разу усадить ее к своему столу по-человечески, по-братски? Кому только все это было нужно? Зачем? Во имя чего же? Чтобы потом, может, снова мучиться?
Но безбожное наказуемо. Николая даже собирались партбоссы раскулачить: уже забрали в колхоз его корову, свинок. Жена же его, Ксения поехала хлопотать за него. Подняли архивные документы: Стоп! Он – красный офицер! И противокулацкое преследование его замялось. Однако сказалось последствие этого на здоровье Ксении: она простудилась в вагоне – и переболела гриппом; тот, должно быть, дал осложнение: она поболела еще год с лишним – все, отошла в мир иной. А вскорости и стариков не стало. Николай женился вторично.
Дуня несравненно свободней вздохнула после, уже будучи замужем за сметливо-веселым и ласково-заботливым Станиславом, в котором увидела своего спасителя и поспешила выйти за него. И лишь теперь ее вразумило прозрение, что жить на свете все-таки стоило. Жизнь не бессмысленна, нет; она-то у нее только начиналась – такой сообразно-простой, необходимой, новой для нее самой, прежде всего и близких ей существ. Охотно она освоила на курсах парикмахерские навыки, научилась владеть машинкой и ножницами и вскоре стала работать мастером-парикмахером. К ней в парикмахерскую иногда заходили робко Аннины ребятишки, чтобы подстричься бесплатно, так как у их родителей попросту не было копеечек ни на что, тем более на стрижку.
Станислав уже кончал срок действительной службы в Армии. Осенью 1939 года он участвовал в освобождении западных земель Белоруссии и потом оказался в Прибалтике, в Лиепае – вследствие Советско-Германского пакта, подписанного Сталиным и Риббентропом, немецким министром иностранных дел о разделе территорий в Европе.
Ныне новомыслие блефует аля демократически, вихляет, худосочное, подстать времени и дамочке капризной, недоразвитой. Да, модным стало осветлять или зачернять словом, картиной, звуком все прежнее и лики ушедших на покой (по принципу: мне так видится и хочется). Вопреки всему. Оставим в стороне все умышленные и не умышленные (а по слабости духа) заморочки!
Сложно разбирать всякий политический процесс: все неоднозначно.
В Европе напряженность нарастала с каждым днем. Вследствие военных действий Германии и Италии после удачного исхода для этих стран испанских событий. Франция и Англия пытались откупиться: они сдали Германии Австрию и Чехословакию; та не приняла военную помощь, предложенную Советским Союзом. А Польша отказалась пропустить советские войска через свою территорию. Польский диктатор Полсудский испытывал неприязнь ко всему русскому: он первый в 1920 году, затеяв поход, попытался отхватить у России Украину и держал потом в плену и гноил тысячи красноармейцев. «Это не армия, а сброд, имеет танки фанерные», – отзывались поляки о Советской Армии. И Сталину об этом донесли. Но главное состояло в том, что лидеры Запада видели спасение лишь в узком междусобойчике, не допуская к нему Советский Союз, хотя застрельщиком такого положения дел – Англия – и боялась своей изоляции в этот период, как боялся того и Сталин, и хотя они думали прежде Германии открыть большую войну против СССР через Финляндию или на Кавказе. Потому Сталин и дал согласие на союз с Германией в 1939 году, когда английские и французские лидеры волынили с переговорами, хотя до этого немцы проводили политику антикоммунизма. 23 августа Риббентроп прилетел для этого в Москву, а Геринг должен был 23 же августа быть в Лондоне: его ждал в Берлине английский самолет, и Геринг не полетел в Лондон только тогда, когда Сталин согласился на подписание пакта, которому западники, демонизируя СССР, придают более позорное значение, чем своему мюнхенскому соглашению с Германией о захвате ей Австрии и Чехословакии – соглашению, подтолкнувшим гитлеровцев к дальнейшей эскалации войны.
Япония была явно разочарована таким поведением Гитлера.
Между тем министр иностранных дел Японии Мацуока 7 апреля 1940 года приехал из Берлина в Москву и подписал пакт о нейтралитете с Россией. Это он говорил: «Нам недостаточно взять Гуам, Филлипины. Мы должны вступить в Вашингтон или в Сан-Франциско и подписать перемирие в Белом доме…» Ну, если японские философы считали: «Все другие государства эфемерны, как миражи моря…»; «Нет цветка лучше вишни и человека военного…»
А что думал тогда Гитлер: «Мне не избежать союза с Россией. Это будет моя величайшая игра… Пока справлюсь со странами Запада… Глупцы те люди, которые думают, что мы будем идти прямолинейно…»
Итак, Станислав написал в последний раз Дуняше, что 21-го июня кончается срок его службы и что вскорости он прибудет домой – пора печь пироги. Однако с того дня и после 22 июня она уже не получила ни от него, ни от кого-либо никакой весточки. Она не знала, что к тому времени, как повели немцы военные действия, весь комсостав батальона разбежался и по сути дела одни рядовые стали сражаться с наседавшими немцами. Была полная неразбериха. Даже латыши удивлялись русским, что, например, еще пшеница отправлялась в Германию, хотя уже шла война. И думали, что это, может, просто провокация? Дважды раненный в спину и в лопатку Станислав попал в плен. Не зная того, где же Станислав запропастился, живой ли еще, Дуня непрестанно тревожилась этой пугающей очевидной неизвестностью о судьбе мужа в столь смутное время.
И оттого в этот раз, хоть и обрадовал ее приход Анны, она была особенно как бы замороженной в разговоре с ней, несколько безовнимательной, казалось, к ее искренним предложениям.
Она в слезах поблагодарила Анну за беспокойство о ней и лишь подтвердила возможное желание свое объединиться выездом с Машей: так, наверное, сподручней будет для нее, она не будет одна с годовалым сыном и не станет обузой для Анны.
И тут розовощекий Славик, сидя то на руках материнских, то на кушетке, то вставая, настойчиво лез, чмокал, гутарил что-то, тянул пухлые ручонки и царапал, хватал за одежду, словно так напоминал о себе и о том, что, главное, его-то жизнь важней, важней всего, сколько ни разговаривай над ним.
VI
– Ну, правь, Саша! – сказала Анна, вздохнув. – Поехали, дети! Авось, все сладится… – Начавшиеся бомбежки вынудили ее самостоятельно искать какой-то выход для семьи, оказавшейся перед пропастью; она надумала, хоть и сомневалась в том, выехать на какое-то время с семьей из-под Ржева, – туда, где могло быть безопасней, потому что предполагали все, что под городом непременно вспыхнут бои. И для отъезда она взяла у председателя лошадь. Она, оставшись одна, без мужа, теперь пуще всего боялась нерешительности и промедления в решении вопроса, касавшегося жизни детей. И потому так решила теперь.
Они всемером, уложив на телегу в узлах и мешках нужные вещи и продукты, направились восточней за десяток с лишним километров к ее дяде Петру Васильевичу, в хуторок Строенки.
Младшеньким – Тане и Вере, сидевшим на возу, – все казалось точно путешествием в неведомое; они, дивясь, ловили в ладошки висячие колоски зажелтелой шепотливой ржи, близко подступавшей разводьями к дороге, заглядывались на речки, нескончаемые избы, сараи в деревнях и на встречных крестьян. А старших братьев и сестру, то ехавших, то шагавших, то пивших от жажды воду у попадавшихся по пути колодцев, как-то смущало на людях свое великое переселение. Смущало, что на них глядели с выражением любопытства и сострадания. Никто из местных пока ничего подобного не видел. И даже дети от удивления, замирая, круглили глазенки. И не обходилось тут, разумеется, без неизбежных аханий, расспросов. Кто вы? Переселенцы? Погорельцы? Нет? Откуда же?
Анна волновалась от этих встреч, вопросов и, краснея, охотно объясняла всем, что они из Ромашино и что только уезжают прочь от бомбежек, и советовалась на дальнейшее, как же быть. Для нее-то такое событие – все-равно что выезд в народ. Непросто так… Но окружающие, сочувствуя и ужасаясь, как бывает, по-разному, искренно не знали, что и присоветовать по-дельному. Они, видно, себя примеряли к проезжавшим. В Захарове жители показывали круглую дыру, пробитую в земле снарядом; вот ахнуло – и стекла вылетели вдребезги, не соберешь. Бомбу-то не заговоришь и не спасешься от нее нигде, если грохнет прямо… Но о том Кашины сами уж не понаслышке знали…
Катясь по песочному пояску дороги восточно-южней, через пятнадцать примерно километров нашли лесной фактически хуторок Строенки и подъехали к владению дальнего Анниного родственника. Малость притомленные, пропыленные и замурзанные, по-тихому спешились у плетня, словно ожидая неминуемого приговора, поскольку несомненно свалились сюда, как снег на голову, не иначе… без предупреждения…
И были обеспокоенно тихи вышедшие к ним из ладно скроенного дома с отличным видом на лесистые вокруг места, тихие, первозданно свежие, хозяин Петр Васильевич, брюнет с бородкой, умными глазами и в рубашке-косоворотке навыпуск и хозяйка Вера Павловна с подобрелым загорелым лицом, и дичившаяся от взросления их дочь. Даже рыжеватой масти кошка мягко-независимой походкой прошла мимо, не взглянув и не желая познакомиться ни с кем из приезжих.
За общим затем чаепитием у блестевшего медью самовара на уютной террасе, с намытым полом, с солнечными пятнами и мягкими дерюжками, уравновешенный и дружелюбно настроенный Петр Васильевич повел ровный вразумительный разговор об Анниной затее с приездом этим:
– А где ж работать будете? Надо же кормить семь ртов… обувать, одевать ребятишек. И сама-то, говоришь, уже не работница…
– Да, я думала об этом… – И мама, будто взглядом обращалась за поддержкой к своим детям.
– А если немец и сюда дойдет, – как быть дальше? Куда ехать таким караваном? В конце лета задождит, холода потом ударят…
Его жена огорченно молчала, глядела тяжело, слушая умно рассуждающего и тоже, видно, огорченного этим мужа. Здесь, в обжитом родном гнезде, где так славно светилась, подступая к жилью, близкие березки лучистые, рассыпанные и млела в свете дня каждая знакомая веточка, не ведая о печалях на свете, – здесь хозяева, видимо, еще не верили в вероятность бедствия, способного обрушиться на них, и в то же время не испытывали той же тревоги, смятения, что испытывала многодетная мать. И они не предлагали помощи незамедлительно. Было б им, естественно, очень накладно. Потому вот и судили-рядили старым неспешным образом. Конечно, недельку прожить, пожалуйста, а результат какой?.. Где выход?
И Анна, потускнелая, в простой серой одежде, замолчала, поджавшись на скамейке, как разоблаченная, пораженная, наверное, провалом своих сокровенных чаяний… Лучше уяснила суть пребывания здесь. Воистину сбоку припека; нечего рассчитывать на снисхождение, на то, что кто-то кинется сразу к тебе на помощь с распростертыми объятиями. И ей понятней и без слов становилось ее нелегкое положение.
Спали ночью на полу террасы под шелест листвы и кукареканье петухов. Плакала Таня во сне – ей снилось что-то страшное, и она цепко держалась ручонками за Зою. И новый день прослонялись неприкаянно в Строенках. Анна изводилась вся. Она с детьми выступала, ровно бедная просительница; соответственно и с нею говорили, принимали ее так, тоже чувствуя это, – совсем не так, как могло быть при отце. И такое тоже огорчало ее, и она расстраивалась больше из-за этого. И теперь советовалась со старшими детьми. Отец-то, бывало, сам знал, что делать, заранее.
– Ну, а вы-то как, ребята? Думаете что?.. Дома ж бросили все. Пригляд нужен. Тетя Мария не справится – одна. И лошадь вернуть надо…
Саша сказал уверенно:
– И ты сомневаешься еще? Нужно возвращаться, Не бомбят же эти дни. Может, и отгонят немцев?..
И решилось просто с возвращением. Стало легче на душе.
Переспали еще ночь у родственника. А наутро поклали свои вещи и уменьшившиеся запасы хлебные и овощные на телегу, взгромоздились на нее и отчалили в обратный путь, зная теперь верно, что рассчитывать приходится лишь на собственные силы, разум. И неплохие хозяева попрощались с ними с нескрываемым уже двойственным выражением радости и печали: они радовались избавлению от возможных больших хлопотах и печалились, что не в силах были помочь приезжим в такой сложной ситуации.
И снова на дороге, в деревнях глазели на них с пристрастием участливые сельские зрители: что? Откуда? Почему?
Как первая репетиция прошла.
VII
Кашины, вернувшись из Строенок, навыкли теперь предночно выезжать семейным караваном подальше от дома (с узлами, с тряпками) – поближе к заказнику и ночевать здесь на траве, чем страховались, как надеялись, отдаляясь на ночь, от места, или цели, немецких бомбардировок. В дальнем овражке они выпрягали лошадку из телеги и, привязав ее, пускали ее на корм травяной, а сами забирались под кусты ветвистого ивняка, в пересохшее ложе речушки; раскладывали для себя какие-нибудь подстилушки и, обыкновенно по-детски возясь и пыхтя, укладывались на ночлег. Обычно тарабанили, копошась на неудобных комьях, и не засыпали долго; вслух считали мигавшие сквозь листочки звезды в темно-синем небе – много ж их; радовались таким же звукам копошенья, исходящим из-под близких кустов, и слыша где-то даже мышиный писк.
Теперь весь люд стронулся – похоже, кочевал, пока стояло тепло; народ отбегал от изб своих на безопасное расстояние, несмотря на то, что несколько ночей кряду и не было бомбежек вражеских.
А утром все, позевывая и поеживаясь от свежести, волоклись обратно домой. Но затем братья Кашины сноровисто вырыли траншею крытую на задворках, в вишеннике, и каждый раз, только налетали стервятники, неслись сюда или отсиживались тут, ночуя, в земле при их интенсивных налетах.
Анна согласилась с просьбой исполкома – впустила в просторную – пятистенную – избу на временное жительство семерых молодых великолукских железнодорожников, помогавших налаживать на узловой станции Ржев-II бесперебойную перевозку грузов, поскольку немцы усилили бомбежки, пытаясь все разбить, уничтожить. Сколь же опасна и адски изнурительна и нескончаема была работа у этих славных неунывающих ребят, оторванных в силу необходимости от своих семей. В какую-то ночь немцы провели одиннадцатикратное бомбление станции. И нужно было быстро восстанавливать железнодорожные пути.
Сколько же бомб наготовили разумные немецкие рабочие, чтобы их сбросить на головы себе подобных! В ответ на то, что Россия только что подкормила пшеницей Германию, а значит, и чьих-то их сыночков, этих белокурых бестий, что целенаправленно швыряли наготовленные бомбы в российских жителей. Какая же несуразность сидела в головах новоявленных кровопийцев? Впрочем, и ныне, нужно сказать, еще крепко сидит несуразность в головах иных европейцев и неевропейцев: все ждут от России только подарков земных, потребительских; на то они сами-то неспособны никак – в уме у них не заложено; вот подставить подножку России-то пожалуйста – всегда готовы! Не взыщите, мол. У нас демократия!
Итак, бомбежки участились. Вскорости заладились и большие дневные налеты «Юнкерсов» – вслед за тем, как около тридцати вражьих бомбовозов нагло отбомбили Ржев утром, а еще наведались и в обеденный час – залетели для скрытности от ослепительного солнца, в обход зенитной батареи. И – что удручало мучительно – сколько ни бабахали по ним зенитчики из зениток (правда, показалось, с опозданием), тем не менее ни один стервятник не был сбит, т. е. не был наказан по справедливости, как должно бы неминуемо быть.
Анна по-возможности подкармливала ряботяг-великолукцев варимой и выпекаемой едой. И с тревогой выспрашивала у них:
– Скажите, неужели же они, немцы, Ржев займут?!
– Безусловно, мать, нужно того ждать, – не кривили перед ней душой дружелюбные молодцы; – если уж они по-скорому взяли Великие Луки, то не миновать подобного и Ржеву… Мы так думаем…
– Как же?! Что же с нами станется? Ведь и Москва отсюда недалече…
– А кто ведает, что будет? Может быть, они докатятся и до нее, столицы, как Наполеон когда-то: зверски гады жмут… Наловчились, знать…
– Господи! Да как же теперь жить нам? В таком переплете…
– Но поверь, мамаша, поверь: еще соберется весь наш люд, поднатужится – и обязательно вытряхнет вон непрошенных гостей, я верю, – говорил ей светлолицый румяный Ванюшка, который мог перед пацанами, собравшимся вокруг него, свободно играть – перекатывать могучими бицепсами – на зависть им.
И слова, и поведение иногородцев, их стойкость, вразумительные рассуждения помогали ей поддерживать в себе какое-то равновесие, чтобы не упасть духом преждевременно.
И не знала, не знала Анна того, насколько справедливо страшилась могущего еще быть для нее, для всех. Как не знал никто. Решительно никто не мог сказать, что же будет дальше.
На исходе августа, когда из колхоза уже эвакуировали в тыл скот – буренок, свиней, лошадей и в нем практически свернулись сами собой все работы полевые и не была даже дожата рожь и не выкопана картошка, морковь, правленцы попросили Анну о следующем: чтобы она уговорила мальцов своих попасти дюжину неэвакуированных (по разным причинам) колхозных и частных коров. Они с досадой признались ей, что некому больше стало это поручить. А ее ребята послушны, исполнительны – на них всяко можно положиться… И она не смогла отказать людям. Лишь после огорченно покачала головой, осуждая свою сговорчивость.
Это дело стало небезопасным.
Братья Кашины, пасшие в эти дни коров в поле, по обыкновению держались вблизи какой-нибудь скирды – чтобы укрыться за ней в случае обстрела или бомбления, потому что все наглее вышныривали из-под облаков немецкие горбоносые «Юнкерсы» и звенящие металлические осы – «Мессершмитты»…
Братья, прислоняя палку к боковому склону сметанной скирды и ухватываясь за слежавшиеся прядки клевера, легко вскарабливались на самый конек ее, осматривались. Тот служил для них будто наблюдательным пунктом. Отсюда просматривалась неизвестная и туманная даль окрестностей. Разрушаемый Ржев еще жил, дымил копотью, еще сновали поезда, гудели… Серебрилась облачность, нависшая над желтевшими овсами, жнивьем, темно зеленевшим клеверовым подростом, буревшим картофельником, серенькими избами, крышами, над вечно закаменевшей белизной вдали на просторе, как свеча одинокая, брошенной церковью среди доживавших век деревьев. Стаивались с шумливым круженьем перелетные птицы…
– Эй, верхолазники-негодники! Слезайте же живей! – Гневно-возмущенно пригрозил пастушкам хлыстом бескоровный дядя Тимофей, белобилетник, проходивший неподалеку от скирды. – Что ж вы, паршивцы, кладку разбиваете, портите?! И коровы углы гложат… Ишь, басурманы, затеяли что!.. Вот я вас проучу!..
– Все едино ведь погибнет, дядя Тимофей, – прокричал ему Антон. – Или будет хуже: немцы сено заграбастают, как пить дать…
– Слазьте, говорю! – не унимался колхозник. – И кончайте растабаривать! Все нам самим достанется…
Ему-то, сельчанину, естественно, претило безумство в гибели и расточительстве всего того, что создавалось нелегким трудом крестьянским. Только все-таки прежде, до ухода мужчин на войну, он существовал самым незаметным и тихим образом на их фоне, нигде никак не выказывал себя, а теперь – поди ж ты! – точно выпрямился весь и стал на твердь, почувствовал свой мужицкий вес. Покрепчал и голосом…
Что ж, посыпались пинки и понуканья от пустобрехов, посчитавших вдруг себя заметными фигурами. Добродетель, стой! Вчера дядя Андрей приласкал братьев матерно: дескать, не доглядели шалопаи, что осколком каким-то порвало копытце у его буренушки, а сегодня вот разошелся и другой праведник. Однако ведь никто из поучителей, главное, не видел (у них были, верно, шоры зашорены) и не додумался до единственного решения – раздать земледельцам по заработанным трудодням то зерно и сено, что успели собрать. Для чего же копить урожай в шорах, в сараях? Для того, чтобы этими припасами воспользовались оравы немцев, прущих на восток, на Москву? Была в том очевидная нелогичность.








