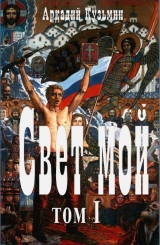
Текст книги "Свет мой Том I (СИ)"
Автор книги: Аркадий Кузьмин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 40 страниц)
XI
– Сейчас, сейчас я расскажу…
Федор Терентьев, бывалый мужчина в летах, с обветренным лицом и крепким рукопожатием (и сам ладно сбитый), в седом костюме, – москвич, приехавший поездом к постояльцу Кашиных, Илье Нефедову, своему двоюродному брату, который отсидел тюремный срок за нелепую кражу (из-за желания продать, чтобы выпить) какого-то слесарного инструмента из цеха и был выпущен на волю, но выслан из Москвы за двести сорок (по сути) километров под надзор милиции, – этот человек легко сошелся в разговоре с Василием, младшим, как выяснилось, собратом-солдатом по той войне. Федор заметил лиловый рубец на локте Василия. И спросил у него:
– Оттуда отметина? Понимаю…
И бывальщина эта объединила их за ужином на кухне. Правда, сидящий тут же, на пристенной скамье, и жующий сухощавый Илья был молчалив и даже сумрачен, а Анна слышала их разговор мимоходом, зато Валера и Антон – с жадным интересом. Василий сказал о том, что он все семь лет отбухал на защите Отечества; там коротались дни такие, что после каждой волны штурмовой в роте оставалось в живых лишь дюжина «стариков» каждый раз. И опять, и опять их пополняли и бросали в бой. А однажды (на Украине) и грозил ему очевидный плен: их разбили начисто, и он в подсолнечнике таился ночь. Немцы же прочесывали поле, выскребали солдат… А утром он с товарищем – была-не была! – поползли в сторону вышки, где и оказался на счастье наш пост.
– А меня пленили немцы еще в пятнадцатом году, летом, – признался Федор, разговорившись.
– Ничего себе!
– Да, до сих пор не могу простить себе этого позорища: в отключке был… Тогда была такая карусель смертельная. Ой! Мы, солдаты царские (я артиллерист – заряжающий) месили земли прусские: бились тут сряду трое суток – не спали. И вначале наши части наседали на немецкие, а после отбивались уже от них беспамятно. Потом бог нас пожалел: затишка опустилась на весь наш обессиленный от содрогания фронт. Темнело быстро. Атак не было. Ну, сгреб я чехол брезентовый – орудийный (с пушками мы в дубраве притулились) да и завалился под толщенный ствол дуба, в ямку; в тот брезент завернулся с головой – помыслил: поспать бы часок! – и разом отключился начисто: проспал огневой налет. А проснулся – уж светлынь восходит, и, вижу, все вокруг – на тебе! – жутко раскурочено, вздыблено, перепахано и страшнее всего – товарищи убитые раскиданы. Побиты даже все столетние деревья. И лишь целехонький чернел надо мной – высился, топырился бахромой огромный дуб (упирался в облака): он-то при обстреле, точно, защитил меня. Иначе была б мне хана… И везде уже рыскали ретиво германские пехотинцы, постреливали их голоса все ближе, ближе. Ну, и заарканили нас, горемык, смертью милованных. Выстроили в затылок, и, выставив по бокам колонны поводырей-стрелков, по-быстрому погнали к западу.
В спешке вброд по горло переходили речки. Нас кормили горохом. Разваром. Кружку выпил, поставил – дальше, камрад, топай. Weg! Weg!
В Пруссии всю пятилетку мы, пока сидели, все благоустраивали немцам – нас водили по работам, И вот какой раж они выказывали перед нами при сем. Конвоир ведет нас и все долдонит над ухом твоим – расписывает, как они умело победят нас, русских, – победят всегда! Если ты молчишь, слушаешь его безропотно, без возражений (вроде б, значит, соглашаешься молчаливо с ним), – то набьет яблок с яблонь, где аллеи, даст тебе; если же ты, не дай бог, только возразишь ему чуток, тогда и набьет яблок под ноги, но попробуй подыми хоть одно из них, – безумно закричит:
– Nicht! Nicht! Schwein! – Затопает сапожищами. Заскрежещет зубами. Карабин в грудь твою упрет стволом. Прямо взбесится, ирод.
Ну, такого свинства я, естественно, еще нигде не видывал, не испытывал.
– Дурной воин – дурное и понятие, – сказал Василий.
– Или, – бывало, топаем себе в поселке, – глядь, и цивильные немцы высовываются, глазеют, подзывают к дому своему, – продолжал Федор. – Для того, чтобы им похвастаться перед недругом – Иваном непутевым своим обустроенным жильем и превосходством, значит. Говорят, сияя: дескать, видишь сам, какая красота у нас. (Как не видеть!) А что же, интересно, есть у вас? Верно, у них каменные все строения, черепицей крытые; сады и посадки расквадратены, зарешетены, всюду чистенько. А в мужичьей России серой, полуразрушенной, – избенки, хатки соломенные на курьих ножках; а одна тесничинка так прибита, другая этак, или чаще всего – стоит что-то наподобие овина, а не жилья. Но я их живо разоскомлю для-ради интересу. Говорю – и вот показываю себе на лоб пальцем:
– Во! Надо ж понимать… Нищий медяком все хвастует, а богатый золотого не покажет…
Ха-а! Один немец бесится, с кулаками ко мне подступает, а другой его уламливает:
– Дай же сказать ему! (То есть мне).
– Надо ж понимать, – я продолжаю свое. – Вы умный, практичный народ, но до русского народа вам далеко. Попомните мои слова. В ста верстах отсюда граница проходит, а вы вона как строитесь и еще хвастаетесь. Да еще хотите снова воевать с нами – у вас такие умыслы. Одна Weltkriege (мировая война) прошла, но и другая Weltkriege будет вами начата.
– Warum?! (Почему?!)
– Вот вам и «Warum?» Зачем же тогда так капитально строиться? Все-равно все будет опять разбито – вблизи-то границы. А в России этого нет. Русский мужик умнее, переплюнет вас.
Это не в нос им было, не в нос. Так насолю им, и они взбулгачатся. Один малый плюется, другой урезонивает его:
– Может, его и правда.
Я уже кончил говорить, а они меж собой заспорят, да-а.
Я не курил и тогда, и вполне здоровый, с лицом красным, был, и немцы норовили загнать меня в шахту, – в ней для подземки прокладывали рельсы.
Работа тяжелая, и они любили выжать все соки из других людей, военнопленных, подневольных, зависимых от них. Побольше навар получить. Вот копаешься в чем-нибудь – и все мало немцу.
– Давай! Давай! – Кричит.
И один раз мы с немцем несли рельс. Тяжело, а ему все свое:
– Давай! Давай!
Я и сбросил рельс с плеча. И сильно, знать, ему отдало, – он за другой конец нес этот рельс. Как бросит, как взвоет:
– Schwein! Fertflucht!
С той поры – ша! – не стали меня брать в шахту. Ша! Как рукой сняло…
– Да? – удивился Валера.
– Не вру, малой. Я отвертелся: мол, живот надорвал, заболел… Раскусил их повадки волчьи и уж применял свои хитрости. А без этого и сгноили бы меня давно в немецкой земле. – И Федор закашлялся.
– Все-все, сынки; кончайте вострить ушки – будет взрослых разговор, – построжал Василий голосом, и Валера с Антоном вышли. И он спросил:
– Что же, ты считаешь: вверную вновь застигнет схватка нас?
– Не минует. Будет заворошка. Гитлер набирает силу, прет. А тебе-то, тертому калачу, разве то не видится?
– Видится немало, да все размышляю. Ты провидец, Федор?
– Кое-что пригрезилось. Может, оттого что много тоже думал, думаю. Немцы ведь живут войной, любят поиграть в нее – берут в руки пушки вместо хлеба, масла. Им дали теперь поджигательного фюрера – и они вмиг накрутят мордобой везде. Потому что слишком дисциплинированны и послушны: исполнят все, что им прикажут; уж они-то, повинуясь, не выйдут за пределы ослушания – беда! Я-то знаю хорошенько…их настрой…
– У нас-то, Федор, бабий слушок прошел: мол, бабы лен выбирали, когда над полем летел в Москву немецкий самолет с этим самым Риббентропом; самолет летел очень низко, и они очень ясно видели, как немецкий летчик прямо и погрозил им кулаком… Станется: опять пролопоушим ворога?.. Знают ли обо всем там, за кремлевской стеной?..
– Работают, должно… Мне одна смоленская председательница похвасталась приемом у Сталина.
– Пробилась к нему?
– Диво! Она приехала с мальчонком-внучком. У того в коридоре первым делом отобрали игрушечный пистолет. И когда она стала рассказывать Сталину о творимых безобразиях в сельском хозяйстве ее района, он, в кителе и хромовых сапогах, выслушивая ее, и охватив руками голову, заходил по ковру в кабинете и все повторял:
– Ой, что дэлают! Ой, что они дэлают!
И мы можем лишь сказать:
– Ой, что делается, люди! Но худшее мне, Василий, предрек один пророк молодой, ученый, звездоискатель отчасти, – печальное раздвоение…
– В чем?
– В судьбах людей. Ужасный исход. После большой войны. Люди встанут стенкой на стенку. Постепенно поменяют кожу, стимулы. Развернутся, купятся за деньги. Начнутся разломы государств… Грядет бандитизм…
– Неужели может быть такое?
– Так в истории народов тьма похожих примеров. А разлад уже начат, совершается. И в умах людей. Растут корпорации, прибыль увеличивается и сосредотачивается в руках сверхбогачей; миллионы денежных потоков ухлопывается на вооружение, прямо или косвенно, – это невозможно проконтролировать. А пресса трубит истошно:
«Ах, какие молодцы! Производство подняли, загрузили безработных работой». Но – какой? И весь мир людской, нисколько не ведая никакой печали, предается веселию, ублажает себя в услаждении напоказ. Нарядами, конфетками. Никто не читает собственную книгу до конца – не хочет его знать.
Некоторое время мужчины втроем посидели молча.
XII
Еще солнечный июль слепил, парил, умиротворял спокойствием. На раздолье травушке, за строганым крыльцом, легконогий васильковый мальчик, в рубашонке, скакал с желтеньким резиновым мячом; он вскидывал его перед собой и догонял, ловил без передышки. Белозвездный жеребенок Воронок в четырех белых носочках тоже зыкал, как наперегонки, зараженный, видно, детской прытью; ржа игриво, он кругами заходился во всю мочь около пасущейся кобылы-матери; та выщипывала травку и хвостом отмахивалась – отгоняла от себя слепней настырных. Маленькая бабка Степанида (нос картошкой), обутая в опорки, сидела на бревнышке с клюкой в руках, каковой всегда, грозя, ребят пугала, – спиной подпирала новый сруб избной. Ее сморило – сердце ослабело; она посапывала в дреме – и клонилась набок. А у ног ее играла молодая кошка серая, крутясь в стружках-завитушках на траве. Что еще? Вдали, за наплывом восковисто набухавшей рослой ржи, среди нескольких горделивых тополей, сахарно каменела звонница, давно забытая. Тишь нашла такая – прямо уши заложило. Ни березовый и ни тополиный листик и ни малая травиночка не шелохнулись. Гром покамест не урчал – не слышалось его. Но сине-черная гроза валом заходила западной стороной, уже крыла небо высоко, подбираясь и сюда. Потом поурчит – и пройдет. Так уже бывало. Тяжело дышать. Бабка Степанида рукой сердце утишала. А мальчик – василек все резвился (хотя и жеребеночек уже угомонился).
И Анна Кашина присела на минутку на ступеньку крыльца. Взирала на игравшего, словно на стороннее явление, и думала: «Ее ли это младшенький, Санек? В нем ли будет повторенье ее судьбы? А в Антоне, среднем сыне? Или же в Валере? В дочерях? Но разве дети повторяют в жизни все родительское? Незачем далеко ходить. Есть примеры. Вон что поведал Федор: у его двоюродного брата, новгородского мужика, семнадцатилетний сынуля-гулена, разозлился на старого отца, прибегавшего к помощи ремня, на будни хозяйства и укатил самолично в Ленинград. И даже с отцом не захотел попрощаться. Мода такая, знать, завелась…»
И с нежностью, тревогой она подумала: «Хрупкие колоски, поди, – устоят ли, выдержат ли они напор бури, если она нагрянет?..» Она представила себе на мгновение серп в руках и гудящие от него руки и образы сознания ее уплыли куда-то далеко…
Издалека послышался слабый напев – наверное, кто-то завел патефон. Певица пела:
«Живет моя отрада
В высоком терему.
А в терем тот высокий
Нет ходу никому…»
С разговором мимо прошли молодайка Надежда с мужем Анатолием.
– Она зам отдела, небось.
– Ну, как Адам и Ева. Знаешь Адама-то и Еву-то?
– А кто ж их не знает – этих безбожников из рая?
– После них-то запрещен для нас вход в рай. Мы его даже и не нюхали. Отсюда все наши потешки.
– И стали ни с чем?
– А, черт с раем! Один раз живем.
– Разве? Ты это знаешь? – И Надежда пропела:
«Живет моя отрада
В высоком терему…»
Между тем облако громоздилось, простиралось, все захватывая, уже выше солнца. Веяло безмерной сине-черной глубиной.
Отдаленно пророкотал раскат грома. И почти немедля-вслед за взблеском – прочерками молний в этой огромной расползающейся над постройками и деревьями синеве – он раскатился уже явственней, сильней, грозней, нетерпеливей. Упали первые крупные дождины. Поветрило. Анна всполошилась, вскочила. Узвала в избу Сашу, Антона, дочерей; давай вместе с ними закрывать все двери, окна.
Сильно ударил напор ветровой; задрожали под ним стекла, стены; зашумели, замотались деревья. Летели листья, сломанные ветки, били по окнам; желтые вспышки молний прорезали обрушившуюся серую пелену грозы по всем направлениям, не щадя ничего; во всю мощь, с остервенелым треском, раскатывался гром и отдавался многоголосьем. Со страху хотелось вжаться куда-нибудь подальше (понадежней) от такой грозы. Что-то особенно бухнуло и затрещало. Стеной косил ливень грозовой.
Он недолго бушевал. Вот просветлел тот край неба, откуда накатилась туча, и урчанье грома и сверканье молний уносилось все дальше и таяло. Наступила редкая тишина – не было дуновения ветерка. Под солнцем все блестело. Мальчишки побежали босиком по теплым лужам – хотели везде побывать и посмотреть своими глазами на то, что натворила буря. Были повалены березы, тополи, раскиданы доски. Со двора соседей Кашиных снесло половину дранковой крыши и бросило к Кашиным на огород, на вишенник, вследствие чего и три большие яблони были срублены.
Однако Василий с сынком Валерой, впрямь отцовским помощником, пришли домой возбужденными по иному поводу. Они только успели заскочить в амбар (Василий был и кладовщиком), как молния ударила в сосну, росшую рядом, обожгла хвою и, расщепив ствол, ушла в землю, под откос.
Анна ужаснулась этому обстоятельству.
XIII
Было бы слишком упрощенно искать в чем-то начало всего.
Сколько Анна, ровесница века двадцатого, себя помнила, начиналось все вновь и вновь с обычного круговорота в жизни, заставлявшей крутиться. Так и предки ее жили, переламывались из-за тягот непредвиденных, ужасных в работах на полях, во дворах, овинах – что об этом говорить опять, только славословить, мысли засорять! Надобно проникнуться величием духа.
Очень важно – кто с чем уродился, чем отмечен…
Анна роду была не самого черного, крестьянского, но и не то, что белого: росла вторым ребенком в семье среднего достатка, в которой уважительно строились и отношения между всеми старшими и младшими домочадцами – под знаком, безусловно уважаемой личности бывалого деда, Савелия Петровича, очень ласкового к внучкам и взаимно любимого ими, и домовито-ловкой и тихоголосой матери Елены, которой, как водится, подраставшая Анна уже помогала по дому. Двор у деда считался, однако, богатым: владея дюжиной десятин земли (хотя и на вырубке), он держал четырех лошадей, имел конную косилку; но из-за нехватки денежных средств он нанимал лишь сезонных работников для полевых работ, тогда как, например, богатый сосед Карп Нилыч, кому доходы позволяли, набирал тех на целый год. В чем-то практичном, хозяйственном, а также душевным складом ума с ним был схож и сын его, Макар Савельевич. Кстати, дореволюционная провинция не венчалась с фамилией – так, газеты выписывали на имя-отчество и сами получатели забирали их вместе с редкими письмами на почте – почтальонов не было. Анну же в школе называли «Анна Макарова» – по имени отца – после того как учитель при знакомстве спросил у нее:
– Ты, чья будешь? – и кто-то ответил за нее:
– Да она – дочка Макарова.
В молодости Макар Савельевич дослужился до чина вахмистра. Неподкупно честный и немногословный (даже со сдержанным обращением – детей не бил, не ругал, но и не ласкал по всякому поводу – не в пример деду или бабушке Дорофеи), и по-женски весь какой-то мягкий, с умными карими глазами, с тихой, рвущейся изнутри грустинкой (перешедшей и к Анне), он прилежно хозяйствовал, пел на клиросе, читал псалмы. Но будто всего его пронизывало предчувствие какого-то неотвратимого несчастья, или, возможно, настолько влияло то, что у него болела голова постоянно – едва встанет поутру, так сразу за нее схватится рукой.
Анна пошла по ученью: оно ей давалось с легкостью и нравилось. Поэтому она считалась хорошей, способной девкой, хотя раньше, при старом режиме, школа была и не в почете у крестьян; считалось, что крестьяне на земле должны хорошо крестьянствовать – главное. Училась она в платной десятиклассной епархиальной школе, где занимались лишь одни девочки, одевавшиеся очень хорошо, по форме, тогда как в трехклассной приходской (при одной учительнице) учились уже все деревенские ребята. Ходила же она за несколько километров – во Ржев; по грязище разливанной, завсегда особенной на непросыхаемой горе и около станции, хлябала и хлябала туда-сюда, чавкая холодными сапогами. И так она раз завязла напрочь – по колени – в жирном месиве. Выручили проходившие мимо мужики: еле вытащили ее; она влипла так, что у сапог подметка даже оторвалась. Но если непогодилось и завьюживало, то дедушка лошадь запрягал и отвозил ее либо на лошади мать встречала из школы.
Обычно школьники ходили напрямки – как покороче – через железнодорожные пути. И, бывало, здесь иные шутники пугали мальчишек:
– Вон Микитка, Микитка идет, сейчас он вам, негодникам задаст! – В нерешительности как-то Анна жалась на платформе со своими книжками, тетрадками – рядом шумно паровоз пыхтел – пугал: «пых-пых-пых»; она заплакала от страха и обиды, что ей одной ни в какую не перейти. Да только подошел к ней дядя Никита этот, работавший здесь кем-то, в форменной фуражке, взял за руку и перевел ее. И она его уже больше не боялась. Ни за что.
У Анны начинались занятия в восемь часов, а у брата Николая, первенца, – был он старше ее на четыре года, – в девять (в Воскресенской школе), и, поскольку ей в одиноч-ку было страшно выходить из дома и идти – еще темным-темно, Николай сопровождал ее и злыднем покрикивал на нее дорогой:
– Вот из-за тебя, такой трусихи, приходится мне тоже переться ни свет-ни заря, наказанье божье; ну, скажи-ка мне, тебе не совестно, не ай-ай-ай, что я нянькаюсь с то – бой?
И все стало по-иному вскоре. В 1914 году скончалась молодая еще мать Елена. Бабка-повитуха заразила трех родильниц (раньше сельчанки на дому рожали): они умерли, в том числе и Аннина матушка, родившая на сей раз двойняшек – мальчика и девочку. Мальчик умер в тот же день, а девочка двадцать дней жила; коровьим молоком кормить ее пытались, а та в рот не брала его. А родильнице по традиции полагалось вымыться, т. е. очиститься, на третий день: по церковному писанию, родив, она будто, значит, не чистая. Библейский закон утверждает так, что женщина, родившая мальчика, считается нечистой в течение 6 недель, а родившая девочку – в течение 12 недель, и поэтому должна пройти очищение. В бане-то своей – в тепле – Елене и сделалось плохо; оттуда на руках вынесли ее без памяти: грудница в голову вступила. Она на восьмые сутки и скончалась, бедная, оставив любимца сына и четырех дочерей, самой старшей из которых, Анне, доходил тринадцатый год, а младшенькой, Дуняше, – только третий годочек. Поэтому Анне запонадобилось бросить школу насовсем: вся природь повисла на ней, вроде ставшей в большом доме старшей хозяйкой. И все больше домашних дел повисло на ней: две коровы, два теленка, лошади, поросята, птица; бабушка старилась – и не могла уже доить коров, ухаживать за скотиной; баня своя – надо истопить, помыть чумазых сестриц; пока перемоет, умаслит всех – самой, изнеможенной намертво, уж ни до банной парки и мытья, ни до еды, ни до чего. А все белье, считай, – новинное, прочное. Пока его перестираешь, переполаскаешь в речке, гору, – руки отвалятся, спина занемеет. И до того еще измучивались рученьки, – ей памятно всегда, – на трепанье вручную льна в овине дедовском, построенном на два хозяйства – вместе с дедом Фишкой. Век они ломили, давали знать о боли.
Тогда ж Анна собой фактически заменила меньшим сестрам матушку – их растила, подымала – по кровному долгу совести, любви, что в ней было развито. Дед дела земельные, опекаемые преимущественно мужским родом, вел сообща с семьей второго сына, Алексея, но все домочадцы по обыкновению волчком, что называется, вертелись – поворачивались только, как ни были редкостно работливы: работ всем хватало – завались. Выходных не признавали. А вот вымахавший ростом брат Колюшка, увлекшись запоем политикой и новыми революционными теориями, хлынувшими в книжки, в газеты и в народ, со взрослостью своей заважничал, отлынивал; он совершенно уже выпрягся из несомненно узких для него семейных интересов и забот: не для того мужчиной становился. Весь тут сказ. Он все подряд читал – и ногти грыз; пока книжку дочитает, изгрызет все ногти на руках. Был все же вредный – отговаривался:
– «Это, что же, запереть меня с сестрицами? Чтобы я скапустился, заквасился?!»
И не подступиться даже к нему было никому. Заносился он заметно гордецом, что ли, перед публикой необразованной, кто, известно, меньше его смыслил кое в чем, тем более сестрички розовые и слюнтявые, ни на что толковые в его понимании, не годные, разве что на тятьканье с куклами и с тряпками, и еще с горшками. Разве они что великое поймут?
Хоть и не бедно они жили (питались, правда, хорошо), но все они спали не на кроватях, а вместе, вповал, точно цыгане, на полу некрашеном. Дом был всего в три окошка – не просторен для них. Каждый раз из сеней приволакивали соломенные маты (называемые – проще – рогожками), стлали их прямо на голый пол, на них – перины, и накрывались длинными овчинными тулупами, сладко гревшими всю ночь. И то дед покрикивал командирски:
– Не давай, не давай Тоньке шубу! Она изорвет ее раньше времени.
У бабки-то было четверо дочерей (трое еще незамужних) да трое внучек и внук – все жили пока под одной крышей. Станет она звать кого-нибудь, собьется в именах. Издосадуется:
– Тьфу! Напутала, кляча старая, негодная! Задержалась я…
И по первости Анне все виделась матушка везде в живости. Вот влезет она на прихмуроватый чердак за вещами, что хранились в фамильном красном сундучище, а там, за ним, глядь, строгая мать стоит – ждет ее. И Анна сигает с чердака без памяти. Сколько раз так грохалась с высоты. Все-таки еще ребенком была. Или вечером она – возле бани, что над речкой, за дубочком, на отшибе – светит незадуваемым фонарем сестренке Тане, чтобы та банную дверь заперла. Из-под речки в это время ее зовет требовательный голос:
– Анна! – Снова: – Анна!
Говорит она, дрожа, сестренке:
– Да быстрей же закрывай ты дверь!
– Да ведь никак не закрывается она почему-то, – буквально стонет Таня, лязгая запорами, трясясь тоже.
К дому подошли. Спрашивает у ней Анна:
– Ты слышала там что-нибудь?
– Да, – отвечает Таня. – Очень ясно слышала: тебя позвал мамкин голос. Дважды. К тебе обращенный.
А по поверью выходило – и ей предрекали – что она лишь три года проживет после смерти своей матери. Только ее предрекаемая знатоками смерть где-то заблудилась позабывчиво-рассеянно.
Между тем империалистическая война во всю полыхала, и призвали на службу Николая. Спустя несколько лет, когда прошла революция, он вернулся домой совсем целехонький, в мужестве, даже красным офицером. И с новыми перекорами ко всей своей родне. За революцию, за власть спорил с дедом и отцом. Пророчествовал:
– Вы вот еще доживете до такого времени, что вас будут не хоронить по христиански, а сжигать в печах. Все к тому идет. Прогресс!
Это больно злило деда:
– Креста нету на тебе! О, богохульник! Богохульничать надумал! Тьфу! – И к сыну приставал: – Вели ему замолчать сейчас же! Плохо ты, Макар, его воспитывал!
А Макар Савельевич, держась за голову, больше все отмалчивался или рукой отмахивался мягко, морщился:
– Ну, будет, право, вам – спорить; отстань ты, отец, ради бога.
– Отстань?! – Дед вскакивал, кричал – разряжался: – По-твоему, значит, я пристал к любезному внучку, а не он мелет что попало? Ну и времена пошли у нас на Руси… Все навыворот, все навыворот! Й, спасибо тебе, сыночек, уважил старого отца… – Но это несмиренно в нем старость обижалась и протестовала: помимо всего прочего, тогда как он и двое его сыновей водку не любили, в рот не брали, не позорились, внучек Николай, не щадя никакого нравственного дедовского самолюбия и с этой стороны, начал запивать, опускаться в водку, а следственно, и в некрестьянское краснобайство с навязчивым нравоучением всех-всех.
А вскоре, июльским днем, неожиданно умер Макар. На сорок шестом году. Служил с утра в церкви – и еле-еле доплелся домой; был очень нехорош, со страдальчески-побледнелым лицом; его будто сглазила там одна черноглазая молодайка – она все косилась на него. Войдя в переднюю, он только произнес (его трясло):
– Как жарко! Очень жаркая рубаха…Дай, мама, легкую…
Слабеюще потянул он вверх руками белую косоворотку, чтобы стянуть ее с себя через голову, да так и осел замертво около скамьи – с неловко поднятыми руками. Словно сдался небу и земле.
С его кончиной пришли новые заботы. Анна совсем безоглядно завертелась по делам хозяйским. И ей с лихвой тогда досталось маяты и всяких беспокойств.








