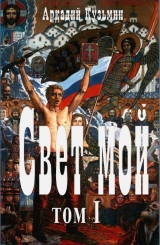
Текст книги "Свет мой Том I (СИ)"
Автор книги: Аркадий Кузьмин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
VII
Медицинский госпитальный персонал вмиг узнал о поступивших сюда русских матросах – первых раненых при штурме Будапешта – оплота хортистов и салашистов, объявивших тоже Югославии войну в 1941 г. – вслед за нападением на нее немецких войск и особенно зверствовавших напоследок в городе Нови-Саде. И эта весть, очевидно, быстро распространилась по Белграду.
В отдельной двухместной палате с отдельной ванной, с крашеными в ровный спокойный бежевый цвет стенами без панелей Махалова положили на кровать к окну, откуда видны были лишь красные крыши и городские трущобы, а Гусева, более неподвижного, – ближе к выходу. И лежать здесь после утомительной дороги было приятно. Никто их не беспокоил. Если сюда направлялся врач, то он прежде, чем войти, вежливо стучал в дверь.
Но минуло немного времени, как вновь постучались к ним и голос приходившего уже врача сказал из-за двери, что пришел гость…
– Пусть войдет! – выкрикнул обрадованный Костя.
В комнату вошел пожилой серб. Неважно говорящий по-русски, но понятно, он, раскланявшись, представился председателем спортивного клуба и коммерсантом; причем он говорил как бы с грузинским акцентом, отчего его слова было легче разбирать, чем слова югославов, говорящих как бы по-украински. Следом за вошедшим внесли в палату громадную корзину с подарками – тем, чем он торгует; в ней – ветчина, вино, сыр, штук пятьдесят пирожных и другие яства. И, прикладывая руку к сердцу, серб стал умолять русских братушек отведать хоть кусочек чего-нибудь сейчас при нем. Он был бы очень рад.
Он сказал, что его сына, скрипача, партизана, убили немцы. В числе многих-многих сербов. А русский язык немного знает потому, что двадцать лет назад был в России и любит русских людей. От спортивного же клуба играл в футбол, где-то видел футболистов московского «Спартака». Начались околофутбольные воспоминания. Костя, усадивший гостя на край своей постели (стульев в палате не было), признался, что он и сам с ребятами доупаду гонял мяч, а болел за ленинградские футбольные команды, и это еще больше возвысило моряков в глазах югослава.
Серб налил им вина в принесенные с собой рюмки, поднес каждому. Со словами, что они настоящие герои. В Белграде отчаянно дрались с немцами советские матросы с бронекатеров. Он видел это.
– А-а! Это морская пехота нашей Дунайской флотилии, – сказал Костя. И попросил серба вместе выпить за его погибшего сына, за освобождение Югославии. Он сидел так трогательно и заглядывал русским ребятам в глаза, как сыновьям своим. А когда выпили и еще, рассказы с обеих сторон посыпались сами собой. И только звучало «Хвала лепа!» – югославское «Спасибо!» Они благодарили серба за его угощение, за такое сердечное отношение к русским; он благодарил их за то, что они, герои, помогают всем народам избавиться от фашистов.
Матросов тут посетил главный хирург госпиталя – высокий добродушный мужчина, облаченный в непривычный красный резиновый фартук, и двое врачей, бывших в армейской югославской форме. Убедившись в хорошем самочувствии раненых, не нуждавшихся ни в чем, хирург с улыбкой оповестил их приходом к ним новой делегации. Принимайте!
Костя пытался даже встать, да врачи не позволили ему это сделать. Они сразу же ушли. Вместе с растроганным коммерсантом, смахивавшим слезы, говорившим, что он будто вновь встретился с сыночком своим.
И вот палата словно расцвела: сюда вплыли восемь очаровательных девушек! И каково-то было лежачим матросам: Костя был сверху прихвачен – рука и бок забинтованы и в гипсе, так что не привстать без посторонней помощи; а Иван вообще лежал плашмя колодой – снизу вверх все его тело замуровано гипсом. Вплывшие к ним югославки, видимо, не знали, как обращаться с раненными русскими парнями, и в начале, поздоровавшись, растерянно постояли над кроватями. Потом заспрашивали, хотят ли они пить воду. Костя засмеялся: после-то вина?.. Помотал головой понятливо. И, спохватившись, пригласил жестами – показал на края кроватей, сдвинулся к стене:
– Да вы, девушки садитесь, пожалуйста, сюда! Пожалуйста! И туда, к Ивану… Иван, подвинься малость!.. – Тот простонал.
Несмело-осторожно югославки присели так: четверо к Косте на кровать, а четверо к Ивану. Защебетали по-своему. Одна из них извлекла из сумочки расческу и стала причесывать Ивану непокорные волосы. Он даже обалдел от счастья, говорит напарнику:
– Как жаль, что моя рука мне мешает, висит, негодная, – не могу обнять, приласкать такое сокровище. – А сам краской заливается. И, видно, еще не доводилось ему ласкать девушек, еще не умеет он этого – стесняется, но он все-таки хорохорился перед товарищем.
Следом за первой голубицей и сидевшая на Костиной кровати ближе всех к изголовью дева тоже, взяв расческу, стала причесывать жесткие черные волосы у Кости. Что ангелы дивы лепетали, в ребячьи глаза засматривали откуда-то с высоты; простыни то тут, то там подоткнут, поправят подушки; будоражащий запах духов, нежные голоса, нежное прикосновение пальцев – все для них, молодых отзывчивых русских парней. Какой же большой любовью надо им, матросам, отплатить этим небесным созданиям!
Вскоре шесть югославок, мило попрощавшись, ушли, а две красавицы еще остались; сидя на кроватях, то одна наклонялась и прикасалась губами к щеке Кости, то другая – к щеке Ивана, или в лоб их целовали. И чужого языка не требовалось знать для объяснения этого девичьего душевного порыва. Все чудесно объясняло слово «братушка», слетавшее с их губ. При их нежном прикосновении. Перед Костей бочком сидело прелестнейшее существо с мягким овалом лица, с нежнозвучным голоском – ну, чистая мадонна, на которую можно только любоваться и молиться свято; с глазами – такими ясными, бездонными, что от них не то, что невозможно было оторваться, а в них-то весь тонул-тонул безотчетно, с замиранием духа. Вот и на выпускном школьном балу июньской ночью 41-го, припомнилось Косте, он дружился, был почти наедине – с чудесной девушкой Майей, соученицей; они даже и не поцеловались, ни-ни, но он был счастлив бесконечно…
Явившись опять посланником, врач сообщил русским, что скоро будет концерт – в зале, на первом этаже. Не хотят ли они посмотреть его?
– Да, конечно! Я пойду, – захорохорился Костя. – Надоело уж лежать.
– О-о, и меня возьмите! – взмолился Иван. – Спустите меня вниз на носилках – и я погляжу. Мне будет интересно.
Косте кстати пригодилась пижама, которую сунул ему Жора еще в разведотряде. Надев ее, Костя сошел вниз по ступенькам самостоятельно; Ивана же спустили на носилках санитары, пижамные брюки натянули ему; потом дали в руки костыли и ввели в небольшой зал и поставили впритык около стены. Он привалился боком на стул рядом с сидящим Костей и так следил за концертными выступлениями.
Здесь после небольшого концерта заиграла радиола, начались танцы; закружились военные пары – бойцы с медсестрами и врачами. Лица у всех светились от радости, царило всеобщее оживление: наконец-то и сюда, на югославскую землю, пришла долгожданная свобода!
Костя только с опаской поглядывал на здоровяка-югослава, танцевавшего с гранатой, рукояткой засунутой у того за поясом: «А если граната рванет?..»
А затем этот танцор подошел к русским матросам, разговорился и стал показывать любопытные фотографии свои – он стоял в ватнике на фоне гостиницы «Москва» – в Москве! Оказалось, что партизанская бригада, в которой серб воевал, формировалась под Коломной!
Утречком Иван и Костя по-любовному попрощались с гостеприимными югославами, ровно с самыми близкими людьми, и трогательно, по-отцовски их расцеловал на прощание главный хирург. Передал их снова под покровительство прелестной Никишиной. Они, радуясь тому, вместе с нею уезжали дальше – на восток, в Румынию. На стационарное лечение.
Но поздней, подлечившись, Махалов с друзьями еще ходил в боевую разведку на Дунае, вследствие чего был опять ранен и в бессознательном состоянии был захвачен немцами; однако через несколько дней сумел убежать из лагеря, скрывался в сенном сарае и способствовал потом побегу из немецкого плена еще десятку наших бойцов. Тогда-то и посчитали его убитым в бою. А впоследствии под Будапештом и появился ему посмертный памятник…
Накоротке повспоминав кое-какие эпизоды из того минувшего лихолетья, Костя расстался с Жорой. Бывший друг боевой укатил с обраткой в родной город Измаил.
В этот непогожий ноябрь Инга нечаянно забеременела. Она родила сына. Отчего смягчилась к ней Мария Ермолаевна, невеликая росточком свекровь, но властная еще старорежимная педагогиня, воспитанная на культивированной педагогической строгости, на незыблемой верности павшему мужу-коммунисту, защитнику. И так Инга уже навсегда задержалась в доме Константина Махалова, мужа, как считала она, несносно-несобранного, порой даже безответственного, не равного ей, умнейшей. И никто из знакомых даже не чихнул оттого, что Нина Павловна, судья, крестная ее, наконец-то, вырастив самостоятельных сына и дочь, рассталась насовсем с мужем-комедиантом из-за его пагубного пристрастия к выпивке, моральной неустойчивости, скандальности, его нежелания или неумения держать себя в цивильных житейских нормах, обязательное условие которых просто, вечно: надо жить для того, чтобы любить, и любить для того, чтобы жить.
Да проще этого ничего не может быть.
Что, нас пьянит поэзия заблуждений? Путы добровольные? Тогда пиши: пропало все. Не воздастся житие.
VШ
В переполненном утреннем автобусе, только что он остановился, возникла отчаянная давка; на выходе из него образовалась пробка – сразу никто не мог выйти. И довольно долго слышалась возня и шумели пассажиры. Здорово толкали и стоявшего Антона Кашина.
– Ой, дайте, дайте сначала зайти, а потом уж выходите, люди!
– Нам лишь бы шиворот-навыворот… Как хочу наворочу…
– Да вытолкните вы бабусю, ведь люди спешат на работу!
– Я тоже, чай, не бездельница… Внучат пестую… Попробуйте!..
– Здесь, дама, выходите?
– Нет… Пожалуй, на следующей…
– Так чего же лезете напролом?
– Меня волокут с собой… Ой, сумку, сумку-то отдайте, не тащите!
– А Вы не выставляйтесь! Тоже, растопырилась…
– Ну, сама такая… Пролезайте! Что застряла?
– Подтолкните же ее! Уф, какая толстая! Разъелась…
– Она – в аккурат моя теща: тянет-потянет – вытащить себя не может.
– Однако… Я прошу… Без оскорблений… Ух!
– Все, водитель! Поезжайте! Мы опаздываем!
– Позвольте, гражданин… Оглохли?
– А? Чего изволите, гражданка?
– Вы стоите на моей ноге! Больно – отдавили!
– Разве? Я не чувствую.
– Вот дундук неполированный!
– Комедь!
– Жуткая! – подхватил другой парень. – Может, Гоша, махнем сегодня на эту английскую кинокомедию? Которую пустили в «Великане».
– А ты слышал, какая она?
– Что, фуфло?
– На ней от глупого смеха челюсти сводит: идиотом себя чувствуешь…
– Ну, я идиотничать не хочу…
– Плати, молодежь, за проезд, а лясы после точите…
– Вот так, синьора, и не выбрался из-за Вас…
– Шофер, остановите!.. Мужчина выйти не успел!
– Это от него зависит, – назидательно прокричал в микрофон водитель, увеличивая, однако, скорость автобуса. – Надо раньше думать, а не спать! Вот если бы не мешали нам работать пассажиры! – Он был коренаст, широкоскул, в клетчатой кепке и куртке. Поминутно протирал тряпкой запотевшие стекла кабины и поглядывал в ветровые зеркала.
– Да, если бы нас, пассажиров, совсем не было, было бы совсем отлично, – сказала в тон ему молодайка, прижатая к кабине.
– Смотрю: Вас опять прибило к нашему бережку, – заметил словоохотливый мужчина.
– Да меня было оттерли, а потом тот противный мужлан…
– Что противный?! Из-за Вас же я застрял…
– Я не Вас имею в виду… И там одна женщина решила, что я в капроне – свои когти пустила по моим ногам…
– Мерзость… Сочувствую…
– Ну, выходит кто на площади? – вмешался микрофонный голос. У водителя кроме внутреннего микрофона, по которому он нет-нет и объявлял названия очередных остановок, был еще наружный рупор, по которому он призывал-увещевал пешеходов соблюдать правила перехода улицы.
– Нет, поезжайте мимо! – отозвались сразу три голоса.
– Я выхожу! – прокричал четвертый – женский голос.
И еще:
– А впередистоящие выходят?
– Знаете, чтоб опечатки не вышло…
– Я почти полчаса ежедневно утром трачу только для того, чтобы вбиться в автобус. А прибавь еще вечер…
– Как Фигаро. Туда-сюда бегаешь… А за опоздание влетит…
– Пройдите вперед! Стоят себе, как истуканы некормленые…
Там что-то зазвенело. Готово: выдавили стекло.
– Ну, пройдите же вперед немного!
– Да стойте спокойно! Ух, какая настырная баба. Еще кулаками работает!
– Ведь можно потесниться чуточку. Я прошу… Кондуктор, попросите!..
– У меня уж язык отнялся, дама, – сказала равнодушно та.
– Не держите заднюю дверь! – крикнул в микрофон водитель, тронув автобус с места. – Ну, давайте утрамбовывайтесь!
Все засмеялись, потолкались, но дверца все-равно не закрывалась. Шофер вышел, выругался и толкнул кого-то, после чего дверца подозрительно легко захлопнулась.
– Ну, вот, парня, кажись, столкнул, не могли на сантиметр продвинуться в салоне, – сказал мужчина с рассудительной интонацией.
– Молодой еще – добежит, – сказал женский жалостливый голос.
– У Вас же и философия, тетенька… – сказала девушка. – Молодому человеку и нужно всюду успеть. Иначе ничего-то не успеется у него.
– Не успеется – города не залягут, как бабка говорила.
– Муравейники живучи.
– Но Вы-то, небось, влезли. Влезли – и еще скулите тут…
– А шоферу каково? Может выпасть человек… С него-то спрос…
– Каждый прав.
Женщина с жалостливым голосом и со светлыми, как стало сейчас видно Кашину, глазами навыкате, натурально ойкнула, что автобус, тормозя, заскользил задними колесами и, сильно накренившись, качнулся вбок:
– Что он, с ума сошел? Со вчерашнего дня, наверно.
– А что было вчера?
– Такой же суматошный день.
«Что нами движет? – Заразмышлял Кашин. – Неуправляемость потока… Стихия… пала и на долю землян… вследствие жалкой философии неодержимости, прославления духа наживы и ценности поклонения… Люди нисколько не ведают, какие будут и откуда придут последствия и знать того не хотят… Они лишь роятся в предугадывании бытия своего – и гибельно спотыкаются…»
– Вы все разговоры на «потом» оставьте, а сейчас платите за проезд, – внушительно скомандовала кондукторша.
– Ой, достать деньгу нелегко, так зажали.
– Ой, вы лучше б мне деньги давали…
– А талончики куда же деть? – был рассудительный мужской голос.
– Да, куда?
– В бескондукторном автобусе… прямо в ящичек опустите, и все.
– Так что же, сейчас выйти и другой автобус поискать?
– …А то бесплатно понабрали талончиков у себя на производстве – и вот ездите задаром…
– Глупости Вы говорите… Задаром…
– Нам вместо денег талончики дали.
– Ну, вам их дали, теперь вы их даете нам, и мы, конечно, теряем… – Кондуктор, однако взяла талоны и оторвала взамен билеты.
– Терять ненужно! – отрезал кто-то. – Нужно работать внимательней.
– Вы меня не поняли, гражданка. Я сказала: теряем зарплату – потому, что у нас, кондукторов, существует план-выработка.
– А ведь тот, кто продавал эти талончики на остановках, – у тех тоже имеется план?
– У них – свой. И с нас тоже спрашивают.
– Обалдеть можно.
– Тысячу раз.
– Как у официантки – со столика. Чем больше ты наел и напил, чем больше оставил купюр, тем лучше для плана. И официантка приветливей к тебе…
– Такое же происходит и у нас, в наших северных рыбсовхозах, – сказал седобородый мужчина. – Я инспектор. Так сердце кровью обливается, когда видишь, сколько рыбы-мелюзги мы губим ежедневно – тонкими сетями ловим, а потом всю эту молодь – уже мертвую – опять вываливаем в море. А что нужное – выбираем. Опять же – драконовский план! Куда ты денешься! Сколько одного ерша погубили.
– Ну, ерш – туда ему и дорога, – отпарировал кто-то. Послышался смешок.
– Так зачем же Вы, уважаемый, приехали в город? Жаловаться?
– Толку мало. Я не первый год уже воюю. А послало меня руководство отрасли в издательство, чтобы закупить грамоты.
– Для чего же, старик?
– Да вручать их передовикам.
– Вручать?! Столько рыбы-мелочи губится – и за это награждать?! Это что-то новое. Ну, поудивил ты нас, старик.
Некоторые пассажиры незлобливо рассмеялись снова, а тот, видно, стушевался: замолчал.
– Да, кто был дуб-дубарем, тем и наверх всплывет, – обронил кто-то глубокомысленно для себя. – Всплывет с глянцем, с ореолом. А кто был ничем – и останется ни при чем, при своем. Так и будем свет чадить, контуженые капиталом. Куда нас ведут наши апостолы? Оттого и войны взбрыкивают в наше время.
«А вот они, счастливые, покамест ни о чем дурном не думают, кроме как друг о друге». – Кашину стал лучше виден вздернутый носик и длиннющие ресницы глаз у девушки в голубом капюшоне на голове – ими она моргала часто, словно ей ломко было глядеть перед собой, вверх, и милое лицо парня, который ревностно загораживал ее от всех свои мощным торсом и улыбался при этом. Он улыбнулся в ответ и на ее глупый страх, когда она тихо спросила у него, может ли автобус вдруг перевернуться, и уверенно помотал головой отрицательно. Досказал:
– Скорей мир перевернется.
«Отчего ж произошла эта война? Оттого, что один безумец ее начал? Сколько лет она будет сниться нам?..»
И новые толчки и давление в спину, с боков прервали обычно-дорожные размышления Антона.
IX
На текущей лекции опять Станислав Сафронович, гладколицый и холеноимпозантный историк, внушительно воссев за классный столик и глядя на свои ухоженные руки, насказывал студентам-вечерникам:
– Итак, после Первой Мировой войны Франция – с затяжной правительственной чехардой: в 22-м году премьерствовал Бриан, затем, в январе, – Пуанкарэ, а в 25-м – вновь Бриан. Прежде скакнула инфляция, цены на товары многократно выросли. Но через год на одну треть увеличилось производство. Создан стальной картель Франции, Германии, Бельгии и Люксембурга. Так что жители Парижа уже предавались развлечениям, удовольствиям; художники писали светоносные картины, устраивались вернисажи. Выбран кабинет Эррио и снова – Бриана. С 26-го у власти – правительство национального единения Пуанкарэ. А в 29-м пришло правительство во главе с Дордье Дунэрк. И с ноября – с тем же Брианом.
Но не следовало, понимал Антон, засорять этим свою память и конспектировать услышанное. «Если только не описывать… – Он нахмурился. – Не копаться в этой необузданной спеси политиков, их поползновениях и дрязгах…»
– Всемирный экономический кризис тряхнул и промышленность Франции, – сообщал Станислав Сафронович. – Здесь говорят о примирении двух стран – Франции и Германии; а в Берлине уж вовсю маршируют коричневорубашечники Гитлера – он рвется властвовать. Главное он уже сформулировал в своей книге «Mein Kampf»: «Гигантская империя на Востоке созрела для своего крушения». Хотя Запад еще близорузничал, подыгрывал реваншистам, уповал на взаимопонимание. Вожди правых социал-демократов заявляли, что империализм – это прогресс; никакая опасность нам не грозит, напротив, наилучший путь развития для капиталистических стран – картелизация их финансового капитала, т. е. ультраимпериализм. Лишь соглашательство с ним обеспечит сытость обществу. Примирение и согласие даст движение вперед. Для прозападников не существовало самого понятия патриотизма.
«Нет любви для нас!» – кричала надпись, нанесенная мелком на черной крышке исцарапанной парты, за которой Антон сидел, кем-то из страдавших, видно, любовью юношей – учащихся дневного полиграфического техникума, в ужатых классах которого и читались лекции для институтских вечерников – людей несомненно более солидных, самостоятельных, уравновешенных…
– 34-й год – смена семи французских министерств, – все хроникерствовал монотонно историк. – Здесь в покушении убиты Барту, министр иностранных дел, и прибывший на переговоры югославский король Александр. Гитлер успел заручиться поддержкой германских магнатов – денежные тузы нашли в нем сильную личность, привели его к власти; в его руки текут коллосальные богатства – он не бессеребреник, отнюдь. Невиданно милитаризуется германская промышленность. Кабинет Лаваля отдает Германии Саарский промышленный район, опекаемый французами; вслед за тем немцы и сами без всяких помех занимают и Рейнскую демилитаризованную область, и протестов почти не слышат. Да, тучи в Европе сгущаются; немцы уже открыто, пугая силой, готовятся к захвату Австрии. Летом же 36-го в Испании, на южных границах с Францией, генерал Франко поднял мятеж против республиканцев – народного фронта, похоронившего в стране монархию.
С этой весны, после выборов, Францией тоже правит народный фронт – коммунисты, социалисты и радикалы. Во главе с Леоном Блюмом, а потом и с Даладье. Мюнхенский откуп Франции и Англии позволил Германии нагло захватить – в марте 38-го – Австрию, а осенью оккупировать и Чехословакию под предлогом защиты там притесняемых судетских немцев. И через год немцы, устроив пограничную провокацию, напали на Польшу, хотя имели с ней договор. К этому времени между французским правительством и военными пошел полный разлад. Коммунистов-«агентов Москвы» – арестовывают, сажают в тюрьмы; им грозит, как и в Германии, смертная казнь.
«Нет любви для нас!» – сие романтическое изречение (хоть называй так повесть-исповедь!) Антон мысленно связал более всего с нелепой смертью сокурсника Бореева, выбросившегося из окна верхнеэтажной квартиры на Петроградской, о чем все узнали накануне. Выяснилось, что видный собою, всегда подтянутый и учтивый Бореев, фронтовик, газетчик, страдал глубоким алкоголизмом, чему был удивлен Антон. Оттого Бореев и мог сорваться, и то так легко – знающе и пожалуй пристрастно немедля же обрисовал некто Женя Наседкин, вечно судачащий обо всем решительно, с жестикуляцией.
«Ну, послушайте, – внушал он однокашникам: – При белой горячке кажется, что кошка – вот она, живая! – устроилась перед тобой, на спинке твоей кровати. Ты тянешься к ней, а она – прыг на спинку стула – подальше. Ты хочешь схватить ее – но она – уже на подоконнике. Ты – опять за ней. Она – шасть за окно. И ты летишь туда же следом, еще не соображая, почему. Голова твоя оказалась в отключке полной… Мозги не работают…»
Своим высказываемым свободомыслием во всем Наседкин раздражал. Несчастьем тут могло стать и грозившее Борееву отчисление из ВУЗа по дичайшему поводу: он диктанты и сочинения писал с массой грамматических ошибок! И то могло стоить его карьере. И воинствующая черная преподавательница-мужененавистница, толстуха, трепала и ему нервы – публично выговаривала, что больше ни за что не допустит его к экзамену. Из-за этого теперь Антона сильней всего в душе мучило осознание своего бессилия – что он, несмотря на свое старание, не смог-таки по-существу поддержать, помочь человеку, которому симпатизировал, в чем-то очень существенном, наиважнейшем может быть, в ответственный момент.
«Что это – фатальная неизбежность, как и с нагоном Второй Мировой войны? – подумал Антон. – Выходит, мы бессильны во всем, сколько ни молимся на себя: в проявлениях здравого ума, любви, честности, воли? Выпячиваемся на люди истуканами неисправимыми, негодными на многое; ждем, когда другие придут, спихнут и свернут нам шею. Нас легко запашут, перепашут, оболгут – вот и вся недолга заблуждений человеческих».








